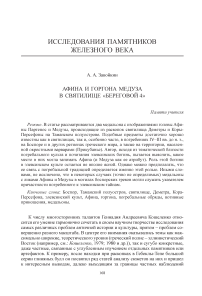Афина и Горгона медуза в святилище «Береговой 4»
Автор: Завойкин А.А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Исследования памятников железного века
Статья в выпуске: 245-1, 2016 года.
Бесплатный доступ
Памяти учителя. В статье рассматриваются два медальона с изображениями головы Афины Партенос и Медузы, происходящие из раскопок святилища Деметры и Коры-Персефоны на Таманском полуострове. Подобные предметы достаточно хорошо известны как в святилищах, так и, особенно часто, в погребениях IV-III вв. до н.э., на Боспоре и в других регионах греческого мира, а также на территории, населенной окрестными варварами (Прикубанье). Автор, исходя из тематической близости погребального культа и почитания элевсинских богинь, пытается выяснить, какое место в них могла занимать Афина (и Медуза как ее атрибут). Роль этой богини в элевсинском культе остается не вполне ясной. Однако можно предполагать, что ее связь с погребальной традицией определяется именно этой ролью. Иными словами, не исключено, что в некоторых случаях (точно не определимых) медальоны с ликами Афины и Медузы в могилах боспорских греков могли служить указателем причастности погребенного к элевсинским тайнам.
Боспор, таманский полуостров, святилище, деметра, кора-персефона, элевсинский культ, афина, горгона, погребальные обряды, вотивныеприношения, медальоны
Короткий адрес: https://sciup.org/14328346
IDR: 14328346
Текст научной статьи Афина и Горгона медуза в святилище «Береговой 4»
К числу многосторонних талантов Геннадия Андреевича Кошеленко относится его умение гармонично сочетать в своем научном творчестве исследования самых различных проблем античной истории и культуры, притом – проблем совершенно разного масштаба. В центре его внимания оказывались темы как максимально широкие, теоретического уровня (греческий полис – эллинистический Восток (например, см.: Кошеленко , 1979; 1980 и др.)), так и сугубо конкретные, даже частные, связанные с углубленным изучением отдельных памятников или артефактов. К примеру, после находки при раскопках в Гебеклы-Тепе большой серии глиняных булл он посвятил ряд статей анализу сюжетов на них и пришел к интересным выводам, далеко выходящим за границы частных наблюдений
( Кошеленко , 2004; 2005; Гаибов, Кошеленко , 2001; Koshelenko , 1996; Gaibov, Koshelenko , 2008). Работа с буллами предполагала целую серию исследований, подготовку и издание корпуса этих интересных памятников. Планам этим, однако, не суждено было в полной мере реализоваться...
Умение Г. А. Кошеленко работать на высочайшем профессиональном уровне с историческими источниками разного характера и масштаба, способность увидеть в любом памятнике что-то такое, чего ранее не замечал никто другой, на мой взгляд, роднит его научное наследие с трудами другого выдающегося российского антиковеда – М. И. Ростовцева.
В заметке, посвященной памяти учителя, мне хотелось бы остановиться на рассмотрении всего двух небольших предметов (керамических медальонов), обнаруженных в ходе раскопок святилища Деметры и Коры на таманском берегу Киммерийского Боспора (Керченский пролив)1.
Медальон с головой Афины, оттиснутый в форме, позолоченный, диаметром 2,7 см (рис. 1). На лицевой стороне рельефное изображение в фас головы и части плеч Афины Партенос. На голове богини трехгребенчатый шлем с поднятыми нащечниками, ниже которого виден валик волос, спускающихся по бокам лица локонами на плечи. Лицо богини полное, с тяжелым подбородком. Справа и слева от него изображены двойные спиралевидные завитки, завершающиеся точкой; над ними (сбоку от плюмажей шлема) – маленькие восьмилучевые (?) розетки с точкой в середине. В нижней части изображения хорошо видны складки «ворота» хитона, образующие V-образный вырез на груди2. Оборотная сторона медальона вогнутая. На ней хорошо различимы множественные следы папиллярных линий пальца (-ев), которым эта поверхность формировалась.
Найден медальон в заполнении кольцевидной (с дном) каменной эсхары (4.1), рядом со сравнительно крупной протомой Деметры «Аттического типа» IV в. до н. э. (ср.: Егорова и др. , 2008. С. 264, 265. Рис. 5, 3 ; 6)3, наряду с раковиной каури, обломком аттической чернолаковой «солонки» ( Sparkes, Talcott , 1970. P. 302. Fig. 9. Nos. 934–937)4, косточками утки ( Завойкин, Добровольская , 2007. С. 119–120) и гальками.

Рис. 1. Святилище «Береговой 4». Медальон с изображением головы Афины: лицевая ( а ) и оборотная ( б ) стороны
Образ Афины Партенос получил на Боспоре довольно широкое распростра-нение5. Керамический медальон с головой Афины был найден В. В. Шкорпи-лом на горе Митридат в 1902 г. в погребении № 28, датированном по пелике с изображением амазономахии IV–III вв. до н. э. ( Шкорпил , 1904. С. 79. Рис. 2), совместно с медальоном с ликом Медузы (см. ниже). Сами по себе находки в одном погребальном комплексе (в ногах6) и на святилище Деметры и Коры-Персефоны этих двух типов вотивных изображений позволяют, на мой взгляд, вполне обоснованно ставить вопрос не просто об апотропеическом их назначении, а о некоей вполне конкретной связи представленных на медальонах персонажей с элевсинским мифологическим циклом; во всяком случае, той его части, которая непосредственно взаимосвязана с представлениями о заупокойном бытии.
Керамический диск (размером 4,8 × 1,5 см) с монетным типом головы Афины вправо (ок. 390–348 гг.) был найден в Олинфе ( Robinson , 1952. P. 235–240. Pl. 99, 301 )7. Д. Робинсон отметил, что в большинстве случаев такого рода диски были вотивами, «dischi sacri» (Ibid. P. 238 f.)8.
Аналогичный нашему маленький медальон (по внешнему краю его пущен рельефный точечный ободок, лицо богини чуть развернуто вправо, справа изображена сова, маленькие крылатые фигурки у каждого плеча; размеры медальона – 1,9 × 0,2 см) был найден в Кеосе на священном участке (Area B) над руинами храма. На оборотной стороне диска сохранилась проволочная петелька «для крепления на одежде» (Caskey, 1962. P. 282. Pl. 102 k)9.
В свете подобных суждений, возможно, не случайна и находка серебряного коринфского статера последней четверти VI в. до н. э. с изображением головы Афины (вправо) в святилище Деметры и Коры на Акрокоринфе ( Stroud , 1965. Pl. 9 f). К слову сказать, в нашем святилище тоже была найдена монета с изображением на лицевой стороне головы Афины в профиль (вправо)10.
Стоит, однако, подчеркнуть, что, как отмечают исследователи, на Боспоре, который имел с Афинами тесные политические, экономические и культурные связи, «превосходящие все понтийские города, ничего подобного (Ольвии. – А . З .) в аспекте почитания Афины в ранний период не наблюдается» ( Русяева , 2005. С. 385). «...Несмотря на то, что на Боспоре, начиная с архаического времени и, особенно, в эллинистический и раннеримский периоды, производилось огромное количество терракотовых изображений разнообразных божеств, статуэтки Афины встречаются крайне редко, во всяком случае – реже, чем в Ольвии...» (Там же. С. 387).
Медальон с Медузой (рис. 2). Оттиск11 выполнен в низком рельефе на светлой серо-коричневой глине без следов обжига, пропечатался не очень четко (диаметр – 2,3, толщина – 0,3 см). Тыльная сторона медальона чуть выпуклая, тщательно заглаженная. По центру ее (с небольшим смещением) сохранились два следа от тонкой бронзовой проволоки (расстояние между ними – 0,5 см), располагавшиеся параллельно относительно вертикальной оси изображения лицевой стороны. Изображение представляет собой схематически переданный лик горгоны Медузы в фас. Три ряда дуг из рельефных точек передают ее волосы, внешний ряд точек обрамляет край всего медальона. Различимы выпуклости глаз (две точки), носа, подбородка (или высунутого языка?) и углубление рта.
Аналогичный медальон с горгоной был найден В. В. Шкорпилом в упомянутом выше погребении IV–III вв. до н. э. № 28/1902 г. из Керчи, однако изображение на нем гораздо «реалистичнее» ( Шкорпил , 1904. С. 79. Рис. 1)12. Наиболее полное соответствие нашему медальону представляют керамические диски с ликом Медузы из кремации в бронзовой кальпиде, открытой в некрополе Каллатиса (третья четверть IV – начало III в. до н. э.) ( Zavatin-Coman , 1972. P. 103, 104. Fig. 2)13. Хорошо известны глиняные медальоны с оттисками

Рис. 2. Святилище «Береговой 4».
Медальон с изображением головы Медузы: лицевая (а) и оборотная (б) стороны головы горгоны в составе находок на афинской агоре. Эти «жетоны», «ярлыки» (tokens) могли иметь различное назначение. В том числе они представляли собой и оттиски перстней, служивших печатями или «пломбами», подтверждающими подлинность; могли они также использоваться в погребальном контексте (см. Lang, Crosby, 1964. P. 124 f, 126, 130. Pl. 32, C24, 25)14.
Судя по тому, что на оборотной стороне нашего медальона сохранились следы крепления бронзовой проволокой (так же, как на экземплярах из некрополя Каллатиса или с агоры Афин), а глина изделия не имеет следов обжига и золочения, сложно представить его использование в качестве украшения. А принимая в расчет небрежность оттиска и предельный схематизм самого изображения, едва ли допустимо предполагать в нем «заготовку» для такого рода изделия. Эти его качества резко отличают медальон с гогонейоном от медальона с головой Афины (не имеющего, однако, следов какого-либо крепежа).
Любопытно, что медальоны с гогонейоном получили весьма широкое распространение в меотских погребальных памятниках, как золотые нашивные бляшки со сквозными отверстиями, так и керамические без отверстий. «В погребениях всадников середины – второй половины IV в. до н. э. часто находят золотые и терракотовые бляшки с изображением Медузы Горгоны... и Афины в трехрогом шлеме, которые нашивали на сбрую коня и костюм погребенного»
( Лимберис, Марченко , 2010. С. 204. Рис. 22)15. Эти находки в меотских памятниках связывают с формированием у меотов (под влиянием боспорских эллинов) антропоморфных образов божеств и особенно – так называемой Великой Богини. В этой связи, конечно, следует вспомнить комплекс Курджипского кургана, где в основной могиле тоже были найдены керамические золоченые медальоны (29 экз.) с ликом Медузы, на тыльной стороне которых имеются парные «точечные наколы от петли» ( Галанина , 1980. С. 88. Кат. 29)16. Хотя точное место находки этих «бляшек» в богатом комплексе центральной могилы последней четверти IV в. до н. э. с захоронением трех воинов и женщины (вероятно, жрицы), принадлежащих к высшей родо-племенной прослойке общества (Там же. С. 55–59), не было установлено, не исключено, что они имели отношение к погребальному убранству именно жрицы «Великой Богини».
Вполне очевидно, что распространение в Прикубанье бляшек и медальонов с изображениями Афины и горгоны Медузы имеет, так сказать, вторичный характер. Первоначальный импульс исходил из боспорских центров, в которых представления об этих божествах, по-видимому, имели мало общего с представлениями окрестных варварских племен. Поэтому попытки определить место этих персонажей в святилище «Береговой 4» должны строиться на основе анализа источников, раскрывающих их связь с культом Деметры и Коры.
Но прежде стоит акцентировать внимание на нескольких установленных фактах. Во-первых, медальоны как с изображением Афины, так и Медузы обнаруживают несомненную связь с погребальными традициями. Во-вторых, нередко те и другие были обнаружены в одних и тех же погребениях, что, вероятно, позволяет думать о тематически едином комплексе представлений, обусловивших их роль в погребальном культе. Обычно, когда рассматривают изображения горгон в погребениях, прежде всего рассуждают об апотропеическом их характере. И в целом это, видимо, справедливо.
Тот факт, что горгоны тесно связаны с хтоническим миром, ни у кого сомнений не вызывает и многократно подтвержден неисчислимыми примерами, когда их изображения в гипсе, керамике, металле, дереве и проч. материале сопровождали умерших в загробный мир. Однако, насколько мне известно, никому не приходилось отмечать прямую их связь с культом Деметры и Коры (если, разумеется, не брать в расчет того, что Персефона была владычицей царства мертвых). Быть может, даже более существенно, что медальон с Медузой был найден в одном контексте (в святилище) с медальоном с изображением Афины, на эгиде которой голова Медузы располагалась как атрибут богини (Русяева, 2005. С. 383, 384)17. Что же касается горгоны, она, видимо, не играла здесь сколько-нибудь самостоятельной роли, но связана с Афиной, которая и сама – горгона (Лосев, 1999. С. 244).
Неоднократно отмеченная ранее тесная связь святилища «Береговой 4» с элевсинским культом (см.: Завойкин , 2003б; 2006; Завойкин, Сударев , 2009; Zavoikin, Zhuravlev , 2013; и др.)18 позволяет строить предположения относительно того, в какой связи здесь оказались публикуемые предметы.
Роль Афины в Элевсине остается не вполне ясной19. Обычно на первый план выставляется то обстоятельство, что Тритогенея в кругу Океанид вместе с Корой собирала цветы на Нисийской равнине20, когда дочь Деметры была похищена Плутоном (Hom. h. V, 424; Paus. VIII. 31, 2), а потом – богиня помогала Деметре в поисках дочери (Eur. Hel. 1309–1317) (см.: Скржинская, 2002. С. 178, 179; вслед за: Clinton, 1992. P. 80; Кереньи, 2000. С. 181). Представляется, однако, что связь Афины с элевсинским культом могла быть более существенной21. Не случайно же изображения этой богини в росписях ваз на элевсинские сюжеты занимает заметное место. Так, на знаменитой пелике из Павловского кургана Афина изображена с щитом, прикрывающей Плутоса, которого принимает из рук Геи Гермес (Schefold, 1934. Taf. 35. Nr. 368; Скржинская, 2002. С. 177–179. Рис. 3). На рельефном декоре гидрии IV в. до н. э. из Кум, хранящейся в Гос. Эрмитаже, Афина показана в шлеме и с копьем в руке, сидящей на камне между Эвбулеем с двумя факелами и Гераклом, приготовившимся к жертвоприношению (Clinton, 1992. P. 79. Fig. III. 9; Кереньи, 2000. С. 178, 179. Рис. 52; 53). На чернолаковом лекифе с рельефным декором на тулове из Керчи (хранится в Лувре) богиня тоже изображена сидящей на камне (спиной к Дионису, развернув голову en face), в правой руке она держит копье, локоть левой опирается на стоящий у камня щит (Там же. С. 181, 182. Рис. 54). Афина фигурирует и в терракотовой композиции на саркофаге из Танагры 1878 г., в которой представлена сцена похищения Коры (Бритова, 1969. С. 82, 90–93. № 88ж). Кажется вполне очевидным, что роль богини-девы в элевсинском культе не исчерпывалась ее участием в тех сюжетах, которые упомянуты в Гомеровском гимне Деметре, т. е. присутствием при похищении Коры и участием в поисках ее Деметрой22.
Дело, вероятно, здесь еще и в том, что Афина в архаическом сознании сама была тесно связана с хтоническим миром23 и плодородием: с произрастанием зерна, началом жатвы, ночной росой для посевов, жарой и созреванием плодов; богиня изобрела плуг ( Hesiod . Op. 429–431); она – куротрофос 24, в Элиде женщины просили у нее беременность ( Paus . V. 3, 3) (см.: Лосев , 1999. С. 239–241, 265). Каким именно образом подобные представления об Афине соотносились с элевсинским преданием, нам остается лишь гадать.
Более или менее понятно, что интересующие нас в первую очередь предметы, найденные в погребениях или святилищах, имеет смысл рассматривать в контексте культа Деметры и Коры, а не просто как декоративные вещи. В данной связи необходимо особо отметить находку в святилище Деметры в Нимфее круглых золотых бляшек-индикаций (и овальной пластинки с изображением глаз25), на одной из которых представлен лик горгоны Медузы в ободке из «жем-чужника» (Худяк, 1962. С. 51. Табл. 45, 1)26. Подобного рода индикация, но с изображением головы сатира, известна и в находках святилища «Береговой 4» (Завойкин, 2015. Рис. 1,1). Золотые индикации, изготовленные с монет, в погребениях зафиксированы в двух основных позициях: в качестве «обола Харона»27 и как медальон погребального венка или ожерелья (Абрамзон, 2015. С. 194, 195; Новичихин, Галут, 2015. С. 59–61; Абрамзон и др., 2016). Что же касается керамических медальонов в погребальных памятниках Боспора, утверждать то же самое о них – нет никаких оснований. В единственном известном нам комплексе, упомянутом уже не раз погребении № 28 в Керчи (1902 г.), где зафиксировано точное место находки, медальоны с головой Афины и Медузы располагались в ногах, рядом с расписной пеликой. Нет сомнений, что эти вещи не имеют отношения ни к «оболу Харона», ни к погребальному одеянию покойного (-ой). Они положены как отдельные предметы с определенной целью, сопровождая умершего (-ую) в загробный мир. «Утилитарной пользы» они ему принести явно не могли. В таком случае не были ли они адресованы тем, кто встречает умершего, после того как Харон переправит его в царство Аида и Персефоны, в качестве своего рода «верительных грамот», подтверждающих причастность прибывшего некоему культу, сулившему особый статус в ином мире?28
Нам осталось кратко обсудить вопрос, в каком качестве керамические медальоны с изображениями головы Афины и Медузы могли использоваться в святилище «Береговой 4». Иначе говоря, были ли эти вотивные приношения адресованы именно тем божествам, которые на них изображены? Ответ кажется достаточно очевидным. Однако все не так просто, как может показаться. И вот почему. Уже упоминалась (см. сноску 10) находка в святилище монеты конца II в. до н. э. с изображением головы Афины на аверсе. В то же время нам не удалось выявить признаков специального отбора типов изображений на монетах, найденных здесь: типологический состав нумизматической коллекции святилища в целом соответствует составу монет, найденных на поселении29 ( Болдырев и др. , 2004). В то же время трудно с уверенностью полагать, что со второй половины IV в. до н. э. (дата наиболее ранней монеты, найденной в святилище) взаимоотношения адептов культа и почитаемых богинь вступают в фазу прямых «товарно-денежных отношений». Скорее, надо говорить о том, что монеты, являющиеся (в представлении донаторов) определенной материальной ценностью, служили вотивом, символическая ценность которого была важнее в данном случае ценности материальной. Именно это обстоятельство объясняет приношение божеству символических изображений жертвы, специально изготовленных, нередко очень скромных, даже иной раз сделанных из подручных материалов. Здесь важны были «благие намерения» и правильное ритуальное сопровождение акта адресации вотива божеству ( Salapata , 2011. P. 1–4, 7; Русяева , 2010. С. 204).
В святилище, например, найдены (правда, в очень небольшом количестве и на одном только особом, северо-западном участке теменоса30) вотивы в виде небольших дисков, вытесанных из стенок сосудов. Подобные «кружочки» (или обработанные остраконы иной формы) нередки среди находок в святилищах, иногда на них процарапаны граффити с посвящением божеству, магического или неясного содержания, рисунки31. На дисках из святилища «Береговой 4» никаких пометок или изображений нет (как не было найдено вообще ни одного посвятительного граффито). Но ведь совершенно очевидно, что эти приношения были предназначены вполне определенному адресату, и донатор точно знал, что это такое и почему подносит божеству именно этот предмет. Точно так же, как знали и посвятители донышек небольших сосудов (в данном случае это, главным образом, нижние части миниатюрных ольп, гидрисков, реже – канфа-ров и др.), грубо отбитых или же с аккуратно обколотыми по краям стенками, нередко положенных на землю поддоном вверх. Получило признание мнение, что нижние части сосудов чаще адресованы хтоническим божествам32, в данном случае, видимо, Деметре и/или Коре-Персефоне. Очевидно, что не случайны находки подобных предметов и в погребениях33.
При всем этом кажется крайне маловероятным, что изображения на публикуемых медальонах могли попросту игнорироваться. С одной стороны, имеющихся находок явно недостаточно для того, чтобы ставить вопрос о соалтар-ности Афины в нашем святилище Деметре и Коре. С другой – следует отметить такую особенность: выделение в комплексе вотивных приношений тех предметов, которые предназначены были именно Афине, а не иному женскому божеству, – практически нереально. Так что и утверждать, будто медальоны с ликами самой богини и Медузы – это единственные предметы, предназначенные дочери Зевса, невозможно34.
В заключение еще раз укажу на то, что рассмотренные предметы, несомненно, имеют отношение как к погребальному культу, так и к святилищам, где почитались хтонические божества. В нашем случае – это Деметра и Кора-Пер-сефона, культ которых здесь тесно был связан с Элевсином. Конечно, нельзя настаивать на том, что всегда заупокойные приношения умершему в виде ме- дальонов с ликами Афины и Медузы отражают его сопричастность великим таинствам Элевсинских богинь и служат своего рода «сопроводительным документом», адресованным царице подземного мира, символическим «входным жетоном». Однако определенная вероятность такого понимания этих предметов в некоторых (конечно, неопределимых для нас точно) случаях не кажется мне совершенно беспочвенной, учитывая элевсинскую идею об особенной загробной участи посвященного в мистерии35, а также принимая в расчет довольно большое число, разнообразие и широкую географию распространения36 предметов (пластинок с текстами)37, выполняющих функцию, пользуясь выражением С. Я. Лурье, «паспортов для входа в рай» (Лурье, 1996. С. 23–25)38. Вопрос же, почему именно Афина выполняла роль «поручителя», а ее изображение (или изображение ее атрибута, Медузы) могло служить символом причастности священным таинствам, для нас, увы, остается без ответа.
Список литературы Афина и Горгона медуза в святилище «Береговой 4»
- Абрамзон М. Г., 2015. Золотые имитации античных монет из Фанагории//Золото Фанагории/Отв. ред. М. Ю. Трейстер. М.: ИА РАН. С. 194-201. (Фанагория. Результаты археологических исследований; т. 2).
- Абрамзон М. Г., Ворошилов А. Н., Ворошилова О. М., Сапрыкина И. А. 2016. Новые находки золотых индикаций в Фанагории//Материалы по археологии и истории Фанагории. Вып. 2/Отв. ред. А. А. Завойкин. М.: ИА РАН. С. 7-23. (Фанагория. Результаты археологических исследований. Т. 4).
- Абрамзон М. Г., Завойкин А. А., Сударев Н. И., 2016. Монеты из раскопок античного поселения «Береговой 4» (1987, 1988, 1999-2002 гг.)//ДБ. Т. 20. С. 9-31.
- Анохин В. А., 1986. Монетное дело Боспора. Киев: Наукова думка. 179 с.
- Болдырев С. И., Завойкин А. А., Сударев Н. И. 2004. Монеты с Берегового 4: проблемы хронологии и интерпретации//Боспорский феномен: проблемы хронологии и датировки памятников. Ч. II/Отв. ред. В. Ю. Зуев. СПб: ГЭ. С. 189-194.
- Бритова Н. Н., 1969. Греческая терракота. М.: Искусство, 179 с.
- Ворошилова О. М., 2012. Рельефные укРАшения деревянных саркофагов Фанагории//РА. № 2. С. 81-89.
- Гаибов В. А., Кошеленко Г. А., 2001: Буллы из раскопок Гебеклы-депе (Туркменистан)//ВДИ. № 2. С. 71-78.
- Галанина Л. К., 1980. Курджипский курган. Памятник культуры прикубанских племен IV века до н. э. Л.: ГЭ. 127 с.
- Грач Н. Л., 1999. Некрополь Нимфея. СПб.: Наука. 328 с.
- Древности Босфора Киммерийского, хранящиеся в Императорском Музее Эрмитажа. Т. 1. СПб: Тип. Императорской Академии наук, 1854. 458 с.
- Егорова Т. В., Ильина Т. А., Кутинова Т. М., 2008. К вопросу о датировании культового комплекса на Майской горе//ДБ. Т. 12. М.: ИА РАН. С. 258-286.
- Завойкин А. А., 2003а. Керамические вотивы на святилище «Береговой 4»//Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. IV Боспорские чтения: сб. науч. материалов. Керчь: Деметра. С. 93-99.
- Завойкин А. А. 2003б. ѲѲе: двойственность и троичность на святилище элевсинских богинь («Береговой 4»)//ДБ. Т. 6. М.: ИА РАН. С. 104-119.
- Завойкин А. А., 2006. Святилище Деметры и Коры на Фонталовском полуострове: природная среда и сакральная топография//ВДИ. № 3. С. 61-76.
- Завойкин А. А., 2015. Ανάθημα 18.9 в святилище Деметры и Коры («Береговой 4»)//КСИА. Вып. 240. С. 201-214.
- Завойкин А. А., Добровольская Е. В., 2007. Боги, люди, животные и птицы в святилище Деметры и Коры на Фонталовском полуострове//Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. VIII Боспорские чтения. Керчь: Деметра. С. 117-125.
- Завойкин А. А., Колесников А. Б., Сударев Н. И., 2016. Позднеархаические погребения на «Южном городе» Фанагории//Материалы по археологии и истории Фанагории. Вып. 2/Отв. ред. А. А. Завойкин. М.: ИА РАН. С. 110-207. (Фанагория. Результаты археологических исследований; т. 4).
- Завойкин А. А., Сударев Н. И., 2009. Поселение и святилище «Береговой 4». Итоги исследований в 1999-2004 г.//Археологические открытия 1991-2004 гг. Европейская Россия. М.: ИА РАН. С. 174-189.
- Кереньи К., 2000. Элевсин: архетипический образ матери и дочери. М.: Рефл-бук. 288 с.
- Кошеленко Г. А., 1979. Греческий полис на эллинистическом Востоке. М.: Наука. 295 с.
- Кошеленко Г. А. 1980. Полис и город: к постановке проблемы//ВДИ. № 1. С. 3-28.
- Кошеленко Г. А., 2004. Булла с изобРАжением двугорбого верблюда с городища Гебеклы//РА. № 3. С. 144-146.
- Кошеленко Г. А., 2005. Буллы Старой Нисы и Гебеклы-депе: сопоставление//ПИФК. Вып. 15. С. 45-56.
- Кошеленко Г. А. 2010. Религия и культы//Античное наследие Кубани. Т. II/М.: Наука. С. 355-416.
- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2010. Меоты//Античное наследие Кубани. Т. I/Отв. ред.: Г. М. Бонгард-Левин, В. Д. Кузнецов. М.: Наука. С. 186-217.
- Лосев А. Ф., 1999. Афина Паллада//Тахо-Годи А. А., Лосев А. Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. СПб: Алетейя. С. 227-328.
- Лурье С. Я., 1966. Древнегреческие паспорта для входа в рай//Вопросы античной литературы и классической филологии. М.: Наука, 1966. С. 23-28.
- Новичихин А. М., Галут О. В., 2015. Золото Горгиппии. Краснодар: И. Платонов. 112 с.
- ОАК за 1882-1888 гг. СПб: Тип. Имп. Акад. наук, 1891.CCCXXXIV, 133 с.
- ОАК за 1903 г. СПб: Тип. Имп. Акад. наук, 1906. 246 с.
- Русяєва А. С., 1971а. Культовi предмети з поселення Бейкуш поблизу о-ва Березань//Археологiя. № 2. С. 22-29.
- Русяєва А. С., 1971б. Культ Кори-Персефони в Ольвiï//Археологiя. № 4. С. 28-40.
- Русяева А. С., 2005. Религия понтийских эллинов в античную эпоху. Мифы. Святилища. Культы олимпийских богов и героев. Киев: Стилос. 560 с.
- Русяева А. С., 2010. Граффити Ольвии Понтийской. Симферополь; Керчь: Деметра. 288 с. (МАИЭТ; suppl. 8.)
- Скржинская М. В., 2002. Посвящение боспорян в Элевсинские таинства//Северное Причерноморье в античное время: сб. науч. тр. к 70-летию С. Д. Крыжицкого/Отв. ред. П. П. Толочко. Киев: ИА НАН Украины. С. 173-185.
- Соколов Г. И., 1999. Искусство Боспорского царства. М.: МЭИ. 532 с.
- Сорокина Н. П., Сударев Н. И., 2001. Предметы, связанные с культами и магией из погребений кепского некрополя VI-II вв. до н. э.//Боспорский феномен: колонизация региона, формирование полисов, образование государства. Ч. I/Отв. ред. В. Ю. Зуев. СПб: ГЭ. С. 133-139.
- Сударев Н. И., 2010. Некрополи и погребальные обряды//Античное наследие Кубани. Т. II./Отв. ред.: Г. М. Бонгард-Левин, В. Д. Кузнецов. М.: Наука. С. 418-472.
- Трейстер М. Ю., 2010. Ювелирное дело и торевтика//Античное наследие Кубани. Т. II/Отв. ред.: Г. М. Бонгард-Левин, В. Д. Кузнецов. М.: Наука. С. 534-598.
- Худяк М. М., 1962. Из истории Нимфея VI-III вв. до н. э. Л.: ГЭ. 64 с. 47 табл.
- Шкорпил В. В., 1904. Отчет об археологических раскопках в г. Керчи и его окрестностях в 1902 году//ИАК. Вып. 9. СПб: Тип. Гл. Упр. Уделов. С. 73-177.
- Яйленко В. П., 1980а. Граффити Левки, Березани и Ольвии//ВДИ. № 2. С. 72-99.
- Яйленко В. П., 1980б. Граффити Левки, Березани и Ольвии//ВДИ. № 3. С. 73-116.
- Bell M., 1981. The Terracottas. Princeton: Princeton University Press. 266 p. + 150 pls. (Morgantina Studies; vol. I.)
- Caskey J. L., 1962. Excavations in Keos, 1960-1961//Hesperia. Vol. XXXI, no. 3. P. 263-283.
- Clinton K., 1992. Myth and Cult. The Iconography of the Eleusinian Mysteries: The Martin P. Nilsson Lectures on Greek Religion, delivered 19-21 November 1990 at the Swedish Institute at Athens. Stockholm: Swedish Institute in Athens. 209 p.
- Cole S. G., 2004. Landscapes of Dionysos and Elysian Fields//Greek Mysteries. The Archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret Cults/Ed. M. D. Cosmopoulos. London; New York: Routledge. P. 193-217.
- Cronkite S.-M., 1997. The Sanctuary of Demeter at Mytilene: Diachronic and Contextual Study: A thesis submitted for degree of Doctorate of Philosophy in the London University. London: Institute of Archaeology, 1997. 2 vols.
- Fink J., 1956. Die Eule der Athena Parthenos//AM. Vol. LXXI, no. I. S. 90-97.
- Floren J., 1977. Studien zur Typologie des Gorgoneion. Münster: Heraus. von Max Wegner. 236 S. 20 Taf. (Orbis antiquus; Heft 29.)
- Gaibov V. A., Koshelenko G. A., 2008. A Horseman Chairing a Foot-soldier: a New Subject in Parthian Glyptic art//Parthica: incontri di culture nel mondo antico. Vol. 10. P. 99-107.
- Jordan D., 2001. «Written» Instructions for the Dead. Example from Mordovia//ZPE. Bd. 134. S. 80.
- Koshelenko G. A., 1996. Bullae from Gobekly-depe. General problems and main subjects//Archives et sceaux du monde hellénistique, Torino, Villa Gualino, 13-16 gen. 1993. Athènes: Ecole Française d'Athènes. P. 377-383. (Bulletin de correspondance hellénique; suppl. 29.)
- Lang M., Crosby M., 1964. Weights, Measures and Tokens. Princeton, New Jersey: The American school of Classical Studies at Athens. XII. 146 p., 36 pls. (The Athenian Agora; vol. X.)
- Merkelbach R., 1999. Die golden Totenpässe: äguptisch, orphisch, bakchisch//ZPE. Bd. 128. S. 1-13.
- Rigoglioso M., 2009. The Cult of Divine Birth in Ancient Greece. N. Y.: Palgrave and Macmillan. 278 p.
- Robinson D. M., 1952. Excavations at Olynthus. Pt. XIV: Terracottas, Lamps and Coins, Found in 1934 and 1938. Baltimore; London; Oxford: Johns Hopkins Press. XX. 533 p., 175 pls.
- Rotroff S. I., 1997. Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. Princeton: The American school of Classical Studies at Athens. 2 parts. (The Athenian Agora; vol. XXIX.)
- Salapata G., 2011. The More the Better? Votive Offerings in Sets //ASCS. Vol. 32. Selected Proceedings. P. 1-10. (http:/www.ascs.org.au/news/ascs32/Salapata.pdf)
- Schefold K., 1934. Untersuchungen zu den Kercher Vasen. Berlin; Leipzig: Verlag von W. de Gruyter & Co. 161 S. 49 Taf.
- Sparkes B. A., Talcott L., 1970. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Century B.C. Princeton, New Jersey: The American School of Classical Studies at Athens. 2 parts. (The Athenian Agora; vol. XII.)
- Stroud R. S., 1965. The Sanctuary of Demeter and Kore on Acrocorinth. Preliminary Report I: 1961-1962//Hesperia. Vol. XXXIV, no. 1. P. 1-24.
- Zavatin-Coman El., 1972. Un mormînt elenistic cu Kalpida de la Mangalia//Pontica. Vol. 5. P. 103-116.
- Zavoikin A., Zhuravlev D., 2013. Lamps from a Sanctuary of Eleusinian Goddesses -«Beregovoï -4»//ACSS. Vol. 19, no. 2. P. 155-216.