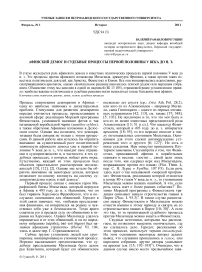Афинский демос и судебные процессы первой половины V века до н. э
Автор: Гущин Валерий Рафаилович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (114), 2011 года.
Бесплатный доступ
Исангелия, ареопаг, демос, гелиэя, судебные процессы
Короткий адрес: https://sciup.org/14749847
IDR: 14749847
Текст статьи Афинский демос и судебные процессы первой половины V века до н. э
Процесс становления демократии в Афинах – одна из наиболее значимых и дискутируемых проблем. Стимулами для развития демократии нередко считаются процессы, происходившие в военной сфере: реализация Морской программы Фемистокла, усилившей значение фетов и так называемой корабельной черни ( nautikos ochlos ), а также обретение Афинами гегемонии в Делос-ском союзе. Однако мы полагаем, что демократизация была связана не только с этими процессами. В данной работе нам хотелось бы обратить внимание на существенный рост политической значимости афинского демоса уже в первой половине V века до н. э., что находит свое отражение в судопроизводстве и, в частности, в тех судебных процессах, о которых пойдет речь ниже. Естественно, каждый из этих процессов был объектом пристального рассмотрения исследователей [15], [12], [2]. Однако мы хотели бы обратить внимание на некоторые детали, которые позволяют по-новому взглянуть на систему судопроизводства и роль в ней демоса1.
Первый процесс связан с именем героя Марафонской битвы Мильтиада, который вернулся в Афины в 493 году до н. э. Напомним, что он был тираном Херсонеса Фракийского, что и послужило основанием для обвинений. Геродот в этой связи замечает, что, «избежав преследования финикиян, он возвратился на родину и чувствовал себя уже в безопасности. Тогда враги схватили его и предали суду по обвинению в тирании на Херсонесе. Однако Мильтиаду удалось оправдаться и от этих обвинений, и он по народному избранию (αἱρεθεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου) был назначен афинским стратегом» ( Herod. VI. 104, здесь и далее пер. Г. Стратановского).
Сейчас трудно установить людей или группировку, инициировавшую упомянутый процесс. Нередко высказывают предположение, что судебное преследование Мильтиада было делом рук Ксантиппа, который будет его обвинителем несколько лет спустя (ср.: Аrist. Ath. Pol. 28.2), или кого-то из Алкмеонидов – например Мегак-ла, сына Гиппократа – одного из первых изгнанных остракизмом [42; 113], cм. также: [37; 348], [5; 103]. Не исключено и то, что это мог быть и кто-то из менее известных представителей рода Алкмеонидов [13; 51 и сл.]. Что касается Феми-стокла, который в 493 году до н. э. избирается архонтом [18; 55], то его нередко относят к числу потенциальных союзников Мильтиада. Основанием для этого служат антиперсидские устремления того и другого [6; 127]2. Но есть и иные суждения. Нам известно приводимое Плутархом замечание Стесимброта о том, что Феми-стокл, приковавший афинян к корабельным скамьям и веслам, «достиг… своей цели лишь после того, как одержал верх над Мильтиадом, возражавшим против его плана» (Plut. Them. 4, пер. С. Я. Лурье = FgrHist. 107 F3). Если речь здесь идет о так называемой «морской программе» Фемистокла, реализация которой относится к концу 80-х годов V века до н. э., то упоминание Мильтиада можно назвать ошибкой. А что, если речь здесь идет о более ранних событиях?3 Помимо Морской программы с Фемистоклом традиция связывает начало строительства гавани в Пирее (Thuc. I. 93.3)4. В таком случае разногласия между Фемистоклом и Мильтиадом можно отнести именно к этому периоду и связать их со строительством гавани в Пирее [10; 30]5. А если это так, то за организацией судебного процесса против Мильтиада можно видеть и Фемистокла.
Скудные источники, которыми мы располагаем, не позволяют выяснить окончательно, где же слушалось дело. Геродот, рассказывая об этом процессе, использует термин дикастерий. На этом основании некоторые авторы делают вывод, что слушания проводились в гелиэе, или народном собрании, другие авторы указывают на ареопаг (см. [15; 192–193]6). Очевидно, что в данном случае имело место чрезвычайное заяв- ление – исангелия, которая должна была рассматриваться ареопагом [36; 103 и сл.], [15; 201, 202]7. Мало того, именно ареопагом рассматривались обвинения в тирании (Arist. Ath. Pol. 8. 4, ср.: Plut. Sol. 19) [23; 74], [8; 308]8.
Любопытно другое. Даже если возбуждение данного процесса было связано с ареопагом, оправдательный приговор, надо думать, был вынесен в дикастерии , то есть, скорее всего, в гелиэе [2; 52]. Ареопаг при этом лишь подтвердил ранее вынесенное решение. А если учесть, что Мильти-ад был оправдан афинянами, не удивляет и то, что вскоре ими же он был избран стратегом9.
Примерно в это же время судебному преследованию подвергся драматург Фриних. Его трагедия «Взятие Милета» вызвала настолько бурную эмоциональную реакцию афинян, что автор был оштрафован10. Причиной наказания, согласно Геродоту, было то, что автор напомнил афинянам об их собственных потерях ( Herod. VI. 21). Рассказу о наложении штрафа на Фриниха Геродот предпосылает рассказ о глубокой скорби милетян по поводу взятия Сибариса кротонцами. «Совершенно по-иному, однако, поступили афиняне, которые, тяжко скорбя о взятии Милета, выражали свою печаль по-разному. Так, между прочим, Фриних сочинил драму “Взятие Милета”, и когда он поставил ее на сцене, то все зрители залились слезами. Фриних же был присужден к уплате штрафа в 1000 драхм за то, что напомнил о несчастьях близких людей. Кроме того, афиняне постановили, чтобы никто не смел возобновлять постановку этой драмы» ( Herod. VI. 21). Правда, наказание драматурга вряд ли было только следствием охватившей афинян скорби. Мотивы этого могли быть сугубо политическими. Полагают, что хорегом при постановке трагедии выступил Фемистокл, цель которого, по мнению У. Форреста, состояла в том, чтобы настроить афинян против политики примирения с Персией [20; 235]11. Если это так, то за наказанием Фриниха могли стоять противники Фемистокла – те, кто не стремился к конфликту с могущественной державой и, в частности, Алкмеониды12. Но для нашего сюжета важно другое. Хотя инициирование процесса опять-таки могло быть связано с исангелией , а значит, с ареопагом, слушания, по-видимому, происходили в народном собрании или гелиэе . На это указывает упоминание афинян (Ἀθηναῖοι), которые привлекли Фриниха к ответственности.
Следующим стал очередной процесс против Мильтиада, состоявшийся в 489 году до н. э. После Марафонской битвы Мильтиад «потребовал у афинян 70 кораблей, войско и деньги, не сказав, однако, на какую землю собирается в поход. Мильтиад объявил только, что афиняне разбогатеют, если последуют за ним, а он, по его словам, поведет их в такую землю, где они легко добудут много золота» (Herod. VI. 132). Корнелий Непот излагает иную версию событий, согласно которой афиняне поручили Мильтиаду захват островов: «После Марафонского сражения, – пишет он, – афиняне опять поручили Мильтиаду флот из семидесяти кораблей для наказания островов, помогавших варварам» (Nep. Milt. 1.7, пер. Н. Н. Трухиной).
Как бы то ни было, морская экспедиция стала для Мильтиада роковой: ему не удалось овладеть о. Парос и после возвращения в Афины он был привлечен к суду Ксантиппом. «Афиняне же, – по словам Геродота, – стали бранить Мильтиада по возвращении его с Пароса, и прежде всего Ксантипп, сын Арифрона. Он обвинил Мильтиада перед народом за обман афинян (ὃς θανάτου ὑπαγαγὼν ὑπὸ τὸν δῆμον Μιλτιάδεα ἐδίωκε τῆς Ἀθηναίων ἀπάτης εἵνεκεν)» ( Herod. VI. 136) [15; 193–194], [2; 53 и сл.].
И вновь можно утверждать, что начало данного процесса было связано с исангелией (а значит, с ареопагом). Его инициатором, по-видимому, был Ксантипп, который, если верить Аристотелю, после Клисфена становится простатом демоса ( Arist. Ath. Pol. 28.2). Упоминание Геродотом демоса свидетельствует о том, что дело рассматривалось в гелиэе или народном собрании [15; 193–194], [5; 103]. В приведенном выше отрывке говорится, что Мильтиаду грозила смертная казнь (θανάτου ὑπαγαγὼν). Однако большинством афинян столь суровая мера наказания была отклонена. «При голосовании, – продолжим рассказ Геродота, – народ поддержал Мильтиада, отклонив смертную казнь (προσγενομένου δὲ τοῦ δήμου αὐτῷ κατὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ θανάτου), но признал виновным и наложил пеню в 50 талантов» ( Herod. VI. 136). Сократ в платоновском диалоге «Горгий» замечает, что Мильтиада предлагали сбросить в пропасть (баратр, или баратрон. – В. Г. ), и сбросили бы, полагает он, если бы не вмешался притан ( Plat . Gorg. 516 d, пер. С. Маркиш)13.
Последующие процессы связаны с именами Аристида и Фемистокла, между которыми в 80– 70-е годы V века до н. э. разворачивается ожесточенное политическое соперничество. В 80-е годы Аристид обретает наибольшую известность как народный судья – гелиаст (см.: [1]). Некоторые подробности судебной деятельности Аристида мы узнаем от Плутарха. «Когда ему был поручен надзор за общественными доходами ( epimeletes ), он уличил в огромных хищениях не только лиц, занимавших государственные должности одновременно с ним, но и тех, кто занимал их прежде, в особенности Фемистокла» ( Plut. Arist. 4, здесь и далее пер. С. Маркиш)14. В ответ на выпад Аристида Фемистокл, «собрав многих недовольных Аристидом, обвинил его, когда тот представил свой отчет, в краже и, как сообщает Идоменей, выиграл дело. Но первые и лучшие из афинян возмутились, и Аристид был освобожден от наказания и даже вновь назначен на прежнюю должность» ( Plut. Arist. 4).
Если считать данные свидетельства достоверными, то в том и другом случае речь вновь может идти об ареопаге, где рассматривались отчеты должностных лиц (euthynai) [15; 201, 202]. И Аристид, и Фемистокл использовали ареопаг для инициирования судебных процессов. Но, как и в предыдущих случаях, можно предположить, что эти дела слушались в гелиэе или народном собрании. Трудно сказать, чем закончился первый процесс. Процесс же, начатый Фемистоклом, если верить Идоменею, был им выигран. Правда, «первые и лучшие», в которых можно, пожалуй, видеть ареопагитов, изменили ранее принятое решение.
На этом противостояние двух политиков не завершается. «Фемистокл, – продолжает Плутарх, – распространял слухи, будто Аристид, разбирая и решая все дела сам, упразднил суды и незаметно для сограждан сделался единовластным правителем – вот только что стражей не обзавелся» ( Plut. Arist. 7). Фемистокл, очевидно, намекает на то, что Аристид установил едва ли не тиранию, подменив собой демократические институты.
С середины 70-х годов в адрес Фемистокла все чаще звучит критика. Наибольшие опасения Фемистокл вызывал у спартанцев. Его влияние и авторитет, которыми он продолжал пользоваться, в сочетании с ярко выраженной антиспартанской позицией не могли не пугать лакедемонян15. «Лакедемоняне, – замечает Диодор, – видя, что Спарта стала слабой из-за предательства Павса-ния, а афиняне пользуются уважением, потому что у них ни один гражданин не был обвинен в предательстве, решили выдвинуть подобного рода обвинения против афинян. Поэтому, поскольку Фемистокл у них был в почете и славился своей доблестью, лакедемоняне обвинили его в измене делу эллинов, утверждая, что он был большим другом Павсания и вместе с ним сообща замышлял предать Элладу Ксерксу» ( Diod. XI. 54. 2–3, здесь и далее пер. В. М. Строгецко-го). Таким образом, именно спартанцы, которые занимались расследованием деятельности Пав-сания, выступили с обвинениями и против Фе-мистокла. «Лакедемоняне, – продолжим рассказ Диодора, – вступили в контакт и с врагами Фе-мистокла, подстрекая их к тому, чтобы они выступили против него с обвинением, и дали им деньги, убеждая в том, что Павсаний, решив предать Элладу, сообщил о своем замысле Фе-мистоклу и предложил разделить с ним его намерение. Фемистокл же не принял предложение, но и не посчитал нужным разорвать дружбу с этим человеком. Тем не менее, хотя враги выступили с обвинениями против него, он тогда избежал осуждения» ( Diod. XI. 54. 2–5).
Если верить Диодору, главным пунктом обвинения было лишь то, что Фемистокл своевременно не донес на Павсания. Обвинения в измене здесь пока еще не звучат. По-видимому, недонесение было не столь серьезным проступком, к тому же Фемистокл еще пользовался расположением демоса, что позволило ему опровергнуть выдвинутые обвинения. А если так, то можно предположить, что ареопагиты не изменили вынесенного народом оправдательного приговора.
Такова была подоплека организованного против Фемистокла политического процесса, который вслед за Диодором можно датировать 471/0 годами до н. э. [27; 114, note 203]. Впрочем, сообщение о процессе, закончившимся оправданием Фемистокла, вызывает недоверие у исследователей16. Ниже мы еще обсудим эту проблему, а пока обратимся к другим сообщениям древних авторов.
Вскользь об этом процессе говорит и Аристотель, дополняя рассказ некоторыми неправдоподобными деталями. В частности, Феми-стокл здесь оказывается союзником Эфиальта. По словам Аристотеля, Эфиальт в это время «добился устранения многих из ареопагитов, привлекая их к ответственности за действия, совершенные при отправлении обязанностей» ( Arist. Ath. Pol. 25. 2). Содействие ему оказал и Фемистокл, который, «хотя и принадлежал к числу ареопагитов, должен был судиться за сношения с мидянами» ( Arist. Ath. Pol. 25. 3).
Если этот процесс имел место в действительности, можно предположить, что его началом вновь стала исангелия , рассматривавшаяся, как мы говорили, ареопагом. Однако у нас есть основания полагать, что и это дело слушалось в народном собрании или гелиэе 17. Быть может, именно к этому процессу относится рассказ Плутарха об Аристиде, проявившем великодушие по отношению к сопернику. «…Велика была и кротость, проявленная им по отношению к Фемистоклу, – рассказывает Плутарх. – Всю жизнь тот был его противником на государственном поприще, из-за него Аристид подвергся остракизму, но когда Фемистокл, в свою очередь, попал в беду и предстал перед судом, обвиненный в преступлении против государства, Аристид забыл старые обиды, и в то время как Алкмеон, Кимон и многие иные наперебой изобличали Фемистокла, один лишь Аристид и не сделал, и не сказал ничего ему во вред; он не радовался несчастью врага, как прежде не завидовал его благоденствию» ( Plut . Arist. 25, пер. С. Маркиш). Упоминание Кимона не позволяет связывать этот процесс с ареопагом, членом которого он, возможно, не был18.
П. Грин склонен принимать сообщение Диодора, но хронологически связывает этот процесс с изгнанием Фемистокла по закону об остракизме [27; 114, note 203]19. «Персы» Эсхила, поставленные в 472 году до н. э. (хорегом при этом был Перикл), считает он, были своего рода откликом на начавшиеся нападки на Фемистокла [27; 116]. Трагедия, как известно, напоминала о славной победе афинян у Саламина, которая была одержана благодаря Фемистоклу. Несмотря на возможную хронологическую близость этого процесса и изгнания Фемистокла по закону об остракизме, П. Грин упускает из виду то, что последний, по словам Диодора, все же был оправдан.
Скажем несколько слов об остракизме Фе-мистокла. Назвать точную дату его изгнания не представляется возможным. В версии Диодора это произошло в архонтство Праксиерга, то есть в 471 году до н. э20. Возможно, изгнанию предшествовали новые, более серьезные обвинения, например в мидизме, то есть в предательстве. Однако исследователи обращают внимание на то, что вопрос о предательстве Фемистокла будет активно подниматься позднее – во время второго процесса, проходившего без участия Фемистокла – in absentia . Подобные обвинения, как правило, влекут за собой не изгнание, а осуждение на смерть [27; 116]. Возникни эти обвинения накануне изгнания, Фемистокл был бы приговорен к смерти. Следовательно, приходится подыскивать другие объяснения остракизма Фемистокла.
Если сказанное нами верно, причины изгнания кажутся не вполне ясными. Возможно, дело здесь не только в политических оппонентах. Если с доверием отнестись к сообщениям древних авторов, активность мог проявить и афинский демос. В источниках отмечается возросшее (вместе с ростом влияния) самомнение Феми-стокла, что перестало нравиться народу. Хотя обвинения в адрес Фемистокла чаще всего звучали в ареопаге, членом которого он был [15; 198–199], немалую роль в ослаблении позиций Фемистокла и его изгнании все же мог сыграть и демос (см. также [21; 177]). «Так как уже и сограждане из зависти охотно верили разным наветам на Фемистокла, – замечает Плутарх, – ему приходилось поневоле докучать им в Народном собрании частыми напоминаниями о своих заслугах. <…> Он навлек на себя неудовольствие народа также и постройкой храма Артемиды, которую он назвал “Лучшей советницей”, намекая этим на то, что он подал городу и всем эллинам самый лучший совет, и к тому же построил этот храм близ своего дома в Мелите <…> ...Фемистокла подвергли остракизму, чтобы уничтожить его авторитет и выдающееся положение; так афиняне обыкновенно поступали со всеми, могущество которых они считали тягостным для себя и несовместимым с демократическим равенством. Остракизм был не наказанием, а средством утишить и уменьшить зависть, которая радуется унижению выдающихся людей и, так сказать, дыша враждой к ним, подвергает их этому бесчестью» ( Plut. Them. 22, пер. С. Соболевского, ср.: Dem. 23. 205).
Об активности демоса в процессе изгнания Фемистокла говорит немалое количество найденных археологами острака с его именем. На сегодняшний день известно более двух тысяч острака с именем Фемистокла, а точнее 2264 [37; 279], [26; 235, note 72]. По их количеству Фемистокла можно поставить на второе место после Мегакла. Правда, следует учитывать, что вопрос о его изгнании как минимум дважды выносился на голосование. Первый раз – в конце
80-х годов, в разгар его соперничества с Аристидом. Поэтому установить, какое количество острака относится к данной остракофории, очень сложно. И все же приведенная цифра (даже если ее условно поделить пополам) достаточно внушительная и может свидетельствовать об активном участии демоса в изгнании Феми-стокла. А нам остается только гадать, было ли тому причиной охлаждение афинян к своему лидеру или успешная пропаганда его врагов.
Однако и этого врагам Фемистокла показалось недостаточно. Вскоре, уже будучи изгнанным из Афин, он подвергся новым, правда, на сей раз заочным обвинениям. Некоторые исследователи полагают, что имела место исангелия, которая в данном случае рассматривалась не в ареопаге, а в народном собрании. Этот вывод делается на том основании, что сведения о процессе содержит отрывок из Кратера (FgrHist 342 F11), корпус которого представляет собой собрание псефизм (постановлений) народного соб-рания21. Однако не исключено и то, что процесс, как и в предыдущих случаях, был инициирован через ареопаг, но дело слушалось в народном собрании [40; 124, note 41]22.
Установить точную дату этих событий весь- ма сложно [2, 60–61]. Мотивами для возбуждения процесса становятся новые обвинения со
стороны лакедемонян, а также активная анти-спартанская деятельность Фемистокла в Аргосе [20; 237 и сл.]. «Изгнанный из отечества, – рассказывает Плутарх, – Фемистокл жил в Аргосе. Случай с Павсанием дал повод его врагам к выступлению против него. Обвинителем его в измене был Леобот, сын Алкмеона из Аглавры; в обвинении приняли участие также и спартанцы» ( Plut. Them. 23, здесь и далее пер. С. Соболевского, ср.: Diod. XI. 54. 4). По-видимому, главными врагами Фемистокла в Афинах оказались Алкмеониды, действовавшие заодно со спартанцами и Кимоном. Правда, в источниках имеет место некоторая путаница. В биографии Феми-стокла Плутарх говорит, что обвинителем был не Леобот, а Алкмеон – отец упомянутого Лео-бота, и Кимон ( Plut. Arist. 25).
Основанием для повторных обвинений стали материалы, предоставленные лакедемонянами, расследовавшими дело Павсания [20; 237], [2; 58 и сл.]. Вот что пишет по этому поводу Фукидид: «Лакедемоняне, отправив послов к афинянам, обвиняли по делу Павсания вместе с ним в сочувствии к персам также и Фемистокла, доказательства чего они находили в показаниях против Павсания. Поэтому лакедемоняне потребовали подвергнуть такой же каре (то есть смерти. – В. Г.) и Фемистокла. Афиняне поверили этому (Фемистокл, изгнанный остракизмом, проживал в то время в Аргосе, но посещал также и другие места Пелопоннеса) и вместе с лакедемонянами, выражавшими готовность преследовать Феми-стокла, послали несколько своих граждан с приказанием доставить его в Афины, где бы они с ним ни встретились» (Thuc. I. 135. 2–3, пер. Ф. Мищенко). В этом сообщении мы слышим о прибытии в Афины лакедемонских послов (чего не было ранее), выступивших, надо думать, в народном собрании, и о самом серьезном внимании к нему со стороны афинян. О прибытии лакедемонских послов в Афины рассказывает и Диодор. «Они (послы. – В. Г.) также утверждали, что приговор за все преступления, совершенные против Эллады, нужно выносить не отдельно в Афинах, но на общем собрании эллинов, которое обычно созывалось в это время» (Diod. XI. 55. 4, пер. В. М. Строгецкого). Фемистокл, по словам сицилийского историка, полагал, что принятые на этом собрании решения будут угодны лакедемонянам (Diod. XI. 55. 5).
Рассказ Плутарха отличается в некоторых деталях. «После казни Павсания, – пишет он, – были найдены кое-какие письма и документы, относившиеся к этому делу, которые набросили подозрение на Фемистокла. Подняли крик против него спартанцы, а обвинять стали завидовавшие ему сограждане. Его не было в Афинах; он защищался письменно – главным образом против прежних обвинений. В ответ на клевету врагов он писал согражданам, что он, всегда стремившийся к власти и не имевший ни спо -собности, ни желания подчиняться, никогда не продал бы варварам и врагам вместе с Элладой и самого себя. Тем не менее народ поверил обвинителям и послал людей, которым велено было арестовать его и привести для суда в собрание эллинов» ( Plut. Them. 23). Здесь также говорится, что суд должен был проходить не в Афинах, а на некоем собрании эллинов, о чем не говорит упоминавшийся выше Фукидид.
Есть смысл еще раз поставить вопрос о том, сколько же процессов было возбуждено против Фемистокла. Сведения, которыми мы располагаем, позволяет высказать следующие соображения. Предположим, что Фемистокл был осужден единожды – заочно, что могло быть связано с полученными лакедемонянами сведениями о предательстве Павсания. В таком случае информация о первом процессе – ошибка. Но в рассказе о первом процессе ничего не говорится о спартанских послах, а только об инструкциях неким врагам Фемистокла. Следовательно, первый процесс еще не имел столь солидного дипломатического подкрепления. Не было и документальных оснований для такой серьезной атаки на него. А кроме того, изгнанный из Афин Фемистокл, как оказалось, представлял не меньшую опасность для Спарты. Поэтому лакедемоняне были вынуждены серьезно им заняться.
Последний из рассматриваемых нами процессов связан с именем Кимона. Незадолго до своего изгнания по закону об остракизме – возможно, в 463 году до н. э. – враги попытались привлечь Кимона к суду, но он был оправдан. «Изгнав персов и победив фракийцев, он подчинил весь Херсонес власти афинского государст- ва, а затем, сразившись на море с фасосцами, отпавшими от афинян, захватил тридцать три корабля, осадил и взял город, а сверх того, приобрел для афинян находившиеся по другую сторону пролива золотые рудники и овладел всеми бывшими под управлением фасосцев землями. Отсюда он легко мог бы напасть на Македонию и отторгнуть значительную часть ее. Считали, что он не захотел этого сделать, и обвинили его в том, что он вошел в соглашение с царем Александром и принял от него подарки. Враги объединились, и Кимон был привлечен к суду» (Plut. Cim. 14, здесь и далее пер. В. В. Петуховой, ср.: Arist. Ath.Pol. 27.1).
У Демосфена есть упоминание о том, что Кимон был оштрафован на 50 талантов за попытку изменения государственного строя – pa-trios politeia ( Dem. XXIII. 205). Это, по-видимому, следует считать ошибкой. Подобный штраф мог быть наложен, скорее, на отца Миль-тиада, который, как известно, привлекался к суду как тиран Херсонеса [37; 335], [12; 28]23.
Итак, объединившись, враги Кимона, к числу которых следует, по-видимому, отнести будущего реформатора Эфиальта и его сторонников, возбудили против него судебный процесс. Негативным фоном для процесса могло стать раздражение народа, вызванное гибелью в 464 году до н. э. афинских колонистов, поселившихся близ местечка, именуемого Девять путей (позднее – Амфиполь). Ведя военные действия во Фракии, они были разбиты фракийцами близ Драбеска ( Thuc. I. 100, 3, IV. 102.2; Diod. XI. 70, 5, XII. 68, 1).
Формальной причиной для преследования стали действия Кимона в Македонии, хотя, как резонно замечает Р. Бауман, приказа или решения о захвате Македонии у Кимона не было [12; 28]. Неясны некоторые юридические детали начатого процесса. Скорее всего, Кимон, как сообщает Аристотель ( Arist. Ath.Pol. 27.1), был привлечен к ответственности во время сдачи им должностного отчета ( euthyna ) [12; 28]. Подобные отчеты, как известно, принимались ареопа-гитами. Возможно, имела место исангелия , но слушания проходили в народном собрании или гелиэе ( Plut. Cim.14, Per.10) [12; 28]24, причем выдвинутые обвинения были столь серьезными, что могли повлечь за собой смертный приговор (τὴν θανατικὴν δίκην ἔφευγεν – по словам Плутарха) ( Plut. Per.10).
Упоминание общественных обвинителей, самым влиятельным из которых (ὁ σφοδρότατος), по словам цитируемого Плутархом Стесимброта, был Перикл, указывает на то, что слушания происходили на заседаниях народного собрания или в гелиэе. Правда, Перикл оказался не самым строгим из судей. Плутарх находит этому свое объяснение. «Упоминая о процессе, – говорит он, – Стесимброт рассказывает, что Эльпиника, решившись ходатайствовать за Кимона перед Периклом как перед самым влиятельным из об- винителей, пришла к нему домой, а тот, улыбнувшись, заметил ей: “Стара ты стала, Эльпини-ка, чтобы браться за такого рода дела”; однако же в суде Перикл был очень снисходителен к Кимону и выступил против него только однажды, да и то как бы по обязанности» (Plut. Cim. 14). На этом процессе, дополняет свой рассказ Плутарх, Перикл «только раз выступил с речью, лишь формально исполнив возложенное на него поручение, и ушел, меньше всех обвинителей повредив Кимону» (Plut. Per. 10).
Очевидно, что Перикл не был суровым гонителем Кимона. В это время он, как полагают некоторые исследователи, был теснее связан с Кимо-ном, чем это могло показаться на первый взгляд (см. [12; 28], а также [16; 58]). Дело, пожалуй, в том, что и тот, и другой имели связи с семейством Алкмеонидов25. Возможно, еще и поэтому, а не только благодаря ходатайству сестры Кимона Эль-пиники, Перикл проявил мягкость по отношению к Кимону26. Впрочем, причина снисходительности Перикла могла крыться еще и в том, что Кимон был чрезвычайно популярен в Афинах [33; 18].
«Защищаясь перед судьями (πρὸς τοὺς δικαστὰς), Кимон говорил, что он связал себя узами гостеприимства и дружбы не с ионянами и не с фессалийцами, людьми богатыми, как это делали другие, чтобы за ними ухаживали и подносили им дары, а с лакедемонянами, любит и старается перенять их простоту, их умеренность жизни, никакого богатства не ценит выше этих качеств, но, сам обогащая государство за счет его врагов, гордится этим» ( Plut. Cim. 14). Итогом этого процесса, рассказывает Плутарх, было оправдание ( Plut. Cim. 15). Если в упоминаемых Плутархом судьях видеть гелиастов, то следует предположить, что оправдательный приговор был вынесен еще в гелиэе .
Возможно, оправдательный приговор по делу Кимона был вынесен благодаря вмешательству ареопага, как полагают некоторые современные авторы [36; 105], [37; 287, 312], [15; 203, note 54]27. Действительно, ареопагиты обладали таким правом и могли оправдать Кимона, поскольку именно в ареопаге заслушивались отчеты должностных лиц. К тому же ареопаг в это время имел возможность влиять на решения народных судов и даже отменять их. Ранее ареопагом был оправдан Аристид, привлеченный к ответственности Фемистоклом ( Plut. Arist. 4).
Считается даже, что вмешательство ареопага в дело Кимона станет впоследствии поводом для проведения Эфиальтом демократических реформ [36; 105], [37; 287, 312], [15; 203, note 54]. Однако сказанное Плутархом свидетельствует о том, что народные судьи (а возможно, и гелиэя), несмотря на суровость обвинения, не склонны были применять крайние меры. Безусловно, можно предположить, что ареопагиты не оставались безучастными к судьбе представителя знатнейшей афинской фамилии. Не исключено и то, что в период слушаний имело место противостояние сторонников и противников Кимона. Однако у нас нет достаточных оснований предполагать открытое вмешательство ареопага в судебный процесс, поскольку оправдательный приговор, подтвержденный затем ареопагом, скорее всего, был вынесен в гелиэе. Иначе говоря, в этом деле противостояния народного суда и ареопага могло и не быть. Это означает, что неудачная попытка привлечь к ответственности Кимона вряд ли могла быть поводом для реформирования ареопага Эфиальтом.
Попробуем подвести некоторые итоги. Возможно, упомянутые выше судебные процессы начинались с чрезвычайных заявлений – исанге-лий , рассматривавшихся ареопагом, но главные слушания проходили в народном собрании или гелиэе , которые и выносили окончательное решение. Народное собрание или гелиэю следует, пожалуй, видеть в тех случаях, когда античные авторы говорят об «афинянах», «демосе» или дикастерии 28. Ареопагиты, возможно, лишь присоединялись к решению народа. Только в одном случае – в деле Аристида – их решение противоречило решению афинян.
В чем же здесь дело? Почему народное собрание или гелиэя на равных участвует в рассмотрении этих дел? Быть может, ареопаг утратил (или постепенно утрачивал) право вести дела по исангелиям ? И. Е. Суриков полагает, что они стали рассматриваться в народном собрании (или гелиэе ) еще до реформы Эфиальта29. Т. В. Кудрявцева, анализируя судебные процессы V века до н. э., также высказывает предположение, что некоторые из судебных дел, инициированных через исангелии , рассматривались народным собранием или гелиэей (см. [2; 65]). Но почему это происходило? Исследователи предполагают, что уже в это время существовало установление, согласно которому наиболее важные решения, в том числе и судебные, не могли выноситься без рассмотрения демоса – «без большинства народа» ( aneu demou plethuon )30. Другими словами, судебные разбирательства, инициируемые по исангелиям , а значит, ареопагом, проходили в гелиэе или народном собрании. В этом можно видеть наглядное свидетельство роста политического значения демоса и перемен, наметившихся после реформ Клисфена.
Однако в связи со сказанным выше возникает еще один вопрос, решение которого, правда, выходит за рамки данного исследования. Чем в таком случае была вызвана реформа Эфиальта? Мы уже говорили, что причину реформирования ареопага некоторые исследователи усматривают в его предполагаемом вмешательстве в дело Ки-мона [37; 312], [15; 205]. Если сказанное выше верно, то обнаружить следы подобного вмешательства крайне затруднительно. В таком случае причины реформирования ареопага остаются не до конца понятными.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВДИ – Вестник древней истории.
CQ – The Classical Quarterly.
CSCA – Californian Studies in Classical Antiquity.
GRBS – Greek, Roman, and Byzantine Studies.
JHS – The Journal of the Hellenic Studies.
TAPA – The Transactions and Proceedings of the American Philological Assocoation.
ZPE – Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik.
Список литературы Афинский демос и судебные процессы первой половины V века до н. э
- Гущин В. Р. Аристид и афинские суды//Политическая история и историография. От античности до современности. Петрозаводск, 2007. С. 25-32.
- Кудрявцева Т. В. Народный суд в демократических Афинах. СПб.: Алетейя, 2008. 464 с.
- Строгецкий В. М. Диодор Сициоийский о процессах против Фемистокла и Павсания (XI. 39-47, 54-59): Перевод и историко-критический комментарий//Из истории античного общества. Горький, 1979. С. 3-29.
- Суриков И. Е. Афинский ареопаг в первой половине V в. до н. э.//ВДИ. 1995. № 1. С. 23-40.
- Суриков И. Е. Ксантипп, отец Перикла. Штрихи к политической биографии//Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 8. М.; Магнитогорск, 1999. 100-109.
- Суриков И. Е. Политическая борьба в Афинах в начале V в. до н. э. и первые остракофории//ВДИ. 2001. № 2. С. 118-130.
- Суриков И. Е. Фемистокл: homo novus в кругу старой знати//Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 8. М., 2002. С. 342-364.
- Суриков И. Е. Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя классика. М.: Наука, 2005. 351 с.
- Суриков И. Е. Остракизм в Афинах. М., 2006. 640 с.
- Шувалов В. В. Морская программа Фемистокла//ВДИ. 2006. № 2. С. 24-42.
- Шуллер В. Афинская демократия и Афинский морской союз//ВДИ. 1984. № 3. С. 49-59.
- Bauman R. Political Trials in Ancient Greece. London & New York, Routledge. 222 p.
- Bengtson H. Einzelnpersönlichkeit und athenische Staat zur Zeit des Peisistratos und des Miltiades. Sitzungsberichte der Bayerische Akademie der Wissenschaften zu München, 1939. 122 s.
- Bicknell P. J. Themistocles' Father and Mother//Historia. 1982. Bd. 31. H. 2. P. 161-173.
- Carawan E. Eisangelia and euthyna: the trials of Miltiades, Themistocles, and Cimon//GRBS. 1987. Vol. 28. №. 2. P. 167-208.
- Connor W. R. The New politicians of Fifth-Century Athens. Princeton UP, 1971. 218 p.
- Connor W. R. Lycomides against Themistocles? A note on intragenos rivalry//Historia. 1972. Bd. 21. H. 4. P. 569-574.
- Develin R. Athenian Officials. 684-321 B. C. Cambridge UP, 1989. 556 p.
- Figueira T. J. Xanthippos, Father of Perikles, and Pritaneis of the Naukraroi//Historia. 1986. Bd. 35. H. 3. P. 257-279.
- Forrest W. G. Themistocles and Argos//CQ. Vol. 10. 1960. №. 2. P. 221-241.
- Forsdyke S. Exile, Ostracism and Democracy. The Politics of Expulsion in Ancient Greece. Princeton UP, 2005. 344 p.
- Frost F. J. Plutarch's Themistocles. A Historical Commentary. Princeton UP, 1980. 240 p.
- Gagarin M. The thesmothetai and the earliest Athenian tyranny law//TAPA. 1981. Vol. 111. P. 71-77.
- Garland R. The Piraeus. London, Routledge, 1987. 280 p.
- Gouschin V. Athenian synoikism of the Vth century B. C., or two stories of Theseus//Greece & Rome. 1999. № 2. P. 168-187.
- Gouschin V. Athenian ostracism and ostraka: some historical and statistical considerations//Greek history and epigraphy. Swansea, The Classical Press of Wales, 2009. Р. 225-250.
- Green P. Diodorus Siculus. Book 11 -12.37.1. Greek History 480-431 B. C. The Alternative Version. Austin: University of Texas Press, 2006. 312 p.
- Hammond N. G. L. Strategia and hegemonia in Fifth-Century Athens//CQ. Vol. 19. 1969. № 1. P. 111-144.
- Hansen M. Eisangelia. The Sovereignty of the People Court in Athens in the Fourth Century B. C. and the Empeachment of Generals and Politicians//Odense University Classical Studies. Vol. 5. 1975. 136 p.
- Keaveney A. The Life and Journey of Athenian Statesmen Themistokles (524-460 B. C.?) as a Refugee in Persia. Lewinston: E. Mellen Press, 2003.
- Ostwald M. Nomos and the Beginnings of the Athenian Democracy. Oxford: Greenwood Press, 1969. 228 p.
- Ostwald M. From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law. Berkeley: University of California Press, 1986. 500 p.
- Ostwald M. La Démocratie athénienne. Réalité ou illusion?//Metis. 1992. Vol. 7. № 1. P. 7-24.
- Ostwald M. The Areopagus in the Athenaion Politeia//Aristote et Athènes. Paris, 1993. P. 139-153.
- Rhodes P. J. The Athenian Boule. Oxford: The Clarendon Press, 1972. 352 p.
- Rhodes P. J. Eisangelia in Athens//JHS. 1979. Vol. 99. P. 109-114.
- Rhodes P. J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. Oxford: The Clarendon Press, 1993. 809 p.
- Rhodes P. J. A History of Classical Greek World. 478-323 B. C. London: Wiley-Blackwell, 2005. 457 p.
- Ruschenbusch E. OLONO NOMOI: Die Fragmente des solonischen Gesetzwerkes mit einer Text-und Ȕberlieferungsgeschichte. Wiesbaden, Historia Einzelschriften 9, F. Steiner Verlag, 1966. 140 s.
- Ryan F. X. The original date of the demos plethuon provisions of IG I3 105//JHS. 1994. Vol. 114. P. 120-134.
- Sealey R. The Entry Pericles into History//Idem, Essays in Greek Politics. N. Y.: Manyland, 1967. P. 59-74.
- We l l s J. Studies in Herodotus. Oxford: Blackwell, 1923. 232 p.