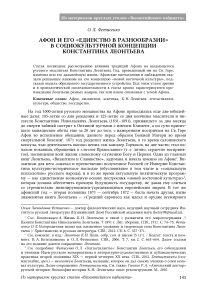Афон и его «единство в разнообразии» в социокультурной концепции Константина Леонтьева
Автор: О.Л. Фетисенко
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Из материалов круглых столов «Византийского кабинета»
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению влияния традиций Афона на выдающегося русского мыслителя Константина Леонтьева. Год, проведенный им на Св. Горе, изменил всю его дальнейшую жизнь. Афонские впечатления и наблюдения оказали решающее влияние на его концепцию «новой восточной культуры», подсказав модель образцового государственного устройства. Под этим углом зрения и в хронологической последовательности в статье кратко характеризуются произведения Леонтьева разных жанров, так или иначе связанные с темой Афона.
Афон, византизм, аскетика, К. Н. Леонтьев, гептастилизм, культура, общество, государство
Короткий адрес: https://sciup.org/140240242
IDR: 140240242
Текст научной статьи Афон и его «единство в разнообразии» в социокультурной концепции Константина Леонтьева
разрушения», — оставшаяся незавершенной4. Именно на Афоне рождается идея «триединого процесса развития» («первичная простота», «цветущая сложность», «вторичное смесительное упрощение»). Для характеристики второго периода Леонтьев использует одно из правил классической эстетики — «единство в разнообразии» как залог гармонии. Думается, что к этой мысли философ мог легко прийти, наблюдая устройство афонской «монашеской республики».
Вскоре после того, как ему пришлось покинуть Св. Гору, Леонтьев писал старцу Пантелеймоновского монастыря Иерониму (Соломенцеву), что хотел бы «хоть литературными трудами заплатить Афону за все то добро и духовное и вещественное», которое он там получил5. И он сделал это сполна — и как публицист (причем как автор «высокой публицистики»6 — аналитической, с сильной историософской составляющей), и как духовный писатель, и впоследствии как мемуарист. Нереализованным остался только замысел художественного произведения — романа «Святогорские отшельники» (1882). Перечислим основные произведения Леонтьева, связанные с Афоном:
«Афонские письма» (1872; первая, более полная, редакция утрачена; сокращенный вариант 1884 г. под названием «Четыре письма с Афона» опубликован посмертно в 1912 г.) — произведение «синтетического» жанра7; Леонтьев выступает здесь как катехизатор, который только что сам увидел и полюбил «красоту церковную» и хочет сразу же поделиться обретенным; здесь же впервые он говорит о современной религии всеобщего благоденствия (эвдемонизме) как главном новейшем враге христианства и «противовес» этой лжерелигии видит в византийской, а значит, и афонской традиции8;
«Записка об Афонской горе и об отношении ее к России» (1872; впервые опубликована в 1990 г.) — секретная аналитическая записка Леонтьева-дипломата, направленная одновременно в посольство в Константинополе и директору Азиатского департамента Министерства иностранных дел; Афон характеризуется здесь как главная «точка опоры» для России на Востоке, предсказывается скорое обрусение Афона; 1872–1874 гг. датируется и недавно обнаруженная записка «Афон и его устройство» 9;
«Панславизм на Афоне» (1873, начато в 1872; опубликовано в «Русском вестнике» под псевдонимом «Н. Константинов») — развернутая обзорная публицистическая статья, написанная во время нарастающего греко-русского конфликта на Св. Горе (греки опасались того самого обрусения, которое действительно происходило, хотя и не в тех размерах, что виделось им; Леонтьев же высмеивал истерию газетчиков «свободного королевства» и объяснял, что Россия вовсе не стремится к захватам, более того — что для самого Афона лучше было бы оставаться под властью турок, предохраняющей от национальных распрей и национальной исключительности);
«Византизм и Славянство» (1872–1875) — этот историософский трактат связан с Афоном основной своей интенцией: «...византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, проникают насквозь весь великорусский общественный организм», именно они сдерживают «натиск» «земной радикальной всепошлости»; «Изменяя, даже в тайных помыслах наших , этому Византизму, мы погубим Россию»10.
«Храм и Церковь» (1878; опубликовано в газете-журнале «Гражданин») — один из лучших образцов «высокой публицистики» Леонтьева; здесь в частности затрагивается вопрос о том, какое направление должна иметь политика России на Востоке11; смысловой центр статьи — константинопольская Св. София, но и Афон занимает не меньшее место в леонтьевской системе доказательств;
«Отец Климент Зедергольм» (1879; «Русский вестник»); — в этой духовной биографии своего покойного друга, иеромонаха Оптиной пустыни, Леонтьев снова выступает как катехизатор, но уже гораздо более опытный, чем в «Афонских письмах» 1872 г.; в главах, посвященных командировке будущего оптинского иеромонаха, а тогда синодского чиновника, в Грецию и на Афон (1860), затрагиваются важные моменты истории Церкви и русско-греческих отношений;
«Пасха на Афоне» (1882; газ. «Русь») — переработка одного из не дошедших до нас «Афонских писем»; в опубликованном варианте это замечательный художественный очерк, публицистическая же его часть — проповедь аскетизма как необходимого начала всей человеческой жизни, в том числе и государственной, была отвергнута издателем «Руси» И. С. Аксаковым12;
«Разбойник Сотири» (1883; опубликовано в журнале «Нива» в 1884) — мемуарно-автобиографический очерк, время действия которого — 1872 г.; более подробно в нем обрисован эпизод, о котором говорилось и в статье «Панславизм на Афоне» (о церкви Панагии в Ровяниках, на «мирских рубежах» Афона, откуда националистически настроенные греки хотели изгнать русских монахинь); это и следующее произведение принадлежат к циклу «консульских рассказов», над которым Леонтьев работал в 1880-е гг.;
«Майносские староверы» (1884; «Санкт-Петербургские ведомости») — рассказ о встрече на Афоне зимой 1872 г. с двумя староверами с о. Майнос, посланными своей общиной для поисков путей воссоединения с Матерью-Церковью13;
«Воспоминание об архимандрите Макарии, игумене русского монастыря Св. Пантелеймона на горе Афонской» (1889; «Гражданин»); — само название этого произведения говорит о его теме и жанре; это мемуарный очерк, но, как всегда у Леонтьева, имеющий и публицистическую составляющую14.
В нашем списке не перечислены еще многочисленные беллетристические произведения Леонтьева, а в них афонская тема тоже присутствует — иногда фоново, как например в романе «Одиссей Полихрониадес»15, иногда и сюжетообразующе. (На Святой Горе должны были закончить полную приключений жизнь главные герои романов «Две избранницы» и «Подруги».) Кроме того, существуют и неизданные при жизни тексты с афонской тематикой: с воспоминания об Афоне и его старцах начинается адресованная преп. Амвросию Оптинскому «Моя исповедь» (1878), впервые опубликованная в академическом собрании сочинений16; в 1889 г. была начата записка «Мое обращение и жизнь на Св. Афонской Горе» (сохранилось только две главы; первая, вступительная, говорит об Афоне и о том, что произведение создается по благословению старца Иеронима — как «посмертные записки»). Этим текстом составитель первого собрания сочинений Леонтьева, о. Иосиф Фудель, открыл мемуарный том своего издания. Отдельного изучения требуют дипломатические донесения, посланные со Святой Горы, где Леонтьеву поздней осенью 1871 г. пришлось даже выступать чем-то вроде судьи, примиряющего враждующие партии в Ильинском скиту17.
Как выяснилось, афонская тема была существенной и в леонтьевской «педагогической программе»: в архиве одного из его близких учеников, Ивана Кристи, сохранились фрагменты записок «Эптастилизм. Афонские порядки» и «Афон как образец реального, но не реалистического социализма»18.
Что же почерпнул Леонтьев на Афоне для своей политической, социальной и «культурофильской» программы? (Поясним здесь термин, взятый в кавычки: чтобы отличить себя от славянофилов, представлявшихся ему излишне либеральными в своем отношении к Церкви, он называл себя в последние годы жизни «культуро-филом», подразумевая, конечно, свою идею «новой восточной культуры» — культуры «мистической ортодоксии».)
В уникальном монашеском государстве Афона Леонтьев обретает живой отпрыск Византии и ее «аскетической цивилизации», школу «мистической дисциплины» — основанной не на страхе наказания, а на союзе благоговейного страха и любви к Богу. Здесь сочетаются пышность и аскетизм: суровость тесных келий и богатое убранство храмов. Афон самим своим устройством подтверждал верность идеи «единства в разнообразии»: в тот момент, что застал Леонтьев, на Святой Горе насчитывалось не менее восьми видов монашеской жизни — от большого общежительного монастыря, напоминавшего феодальный замок или средневековый город-государство, до пещеры отшельника. Разнообразие правил и образов жизни, присутствие разных национальностей дополняли друг друга, взаимно влияли, создавая «антитезы» и некоторую «борьбу» (по Леонтьеву, условие гармонии, которая «не есть мирный уни-сон» 19) и укрепляя тем самым общую нравственную силу. Сохранялись национальные особенности, но парализовалась национальная исключительность, каждый мог найти себе место по духу — жить ли в строгой киновии или в менее строгом «идиоритме» («особножительной» обители), в скиту или малой каливе.
Леонтьеву, который был одним из предшественников социологии как точной науки20, Афон был интересен своим «государственным устройством». Св. Гору он рассматривал как аристократическую республику, где привилегированными являются не отдельные лица, а «корпорации» (20 крупных монастырей, в зависимости от которых находятся остальные обители — скиты и келлии)21. Интересовало его сочетание здесь «монархических» и «демократических» начал (выборность настоятелей, эпитропов, духовников), а главное — древняя традиция старческого руководства. В дальнейшем тема «послушания» станет для Леонтьева концептуальной. Только основываясь на опыте церковного послушания, можно противостоять религии «всеобщей пользы» и «антрополатрии» (поклонению человеческой личности как новому виду идолослужения).
Афон давал богатую возможность познакомиться и с византийской эстетикой — в архитектуре, интерьере, иконописи (правда, пение и иконы Леонтьев предпочитал современные «русские», т. е. на самом деле не без итальянского влияния). Но главное — именно здесь Леонтьев пришел к мысли о монастырях как точках собирания нравственной силы, которая и держит мир. Без памяти о высшем идеале будет неизбежно падать и уровень того, что считается «хорошим» в миру22. «Монашество, — писал Леонтьев, — уже тем полезно для мирян, желающих утвердиться в Христианстве, что оно учит прежде всего себе внимать, о своем загробном спасении заботиться, а “все остальное приложится”. И как бы мы дурны ни были <…> мы при подобном к себе внимании, при боязни согрешить, при памяти о Страшном Суде Христовым, станем все-таки и по отношении к другим людям хоть сколько-нибудь справедливее и добрее. <…> время наше, наш сложный, спешный образ жизни в мирском обществе мало благоприятствует сосредоточению мыслей на духовных вопросах, и с этой-то стороны монастыри и полезны, как такие центры, в которых это собирание мыслей воедино и поднятие их до нужной высоты и бесплотности достигается несравненно легче, чем в миру»23.
Список литературы Афон и его «единство в разнообразии» в социокультурной концепции Константина Леонтьева
- Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Подгот. текста и коммент. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль, 2000 — изд. продолжается.
- Русский Афон XIX–XX веков. Т. 10: Письма выдающихся личностей России к старцам Русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Святая Гора Афон, 2015.
- Гоголев Р. А. «Ангельский доктор» русской истории: Философия истории К. Н. Леонтьева: опыт реконструкции. М.: Аиро-XXI, 2007.
- Кунильская Д. С. Ранневизантийская традиция в романе «Одиссей Полихрониадес» К. Н. Леонтьева // Проблемы исторической поэтики. 2012. № 10. С. 267–275.
- Пророки Византизма: Переписка К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова (1874–1891) / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О. Л. Фетисенко. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2012.
- Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2012.
- Фетисенко О. Л. Два этюда о Леонтьеве. I. Богородичная икона как жизненное упование и творческая тема Константина Леонтьева // Христианство и русская литература / Отв. ред. В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко. СПб.: Наука, 2012. Сб. 7. С. 356–371.