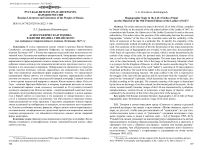Агиографическая топика в житии Иоанна Синайского (на материале старопечатного издания Лествицы 1647 г.)
Автор: Дорофеева Людмила Григорьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ топики в кратком Житии Иоанна Синайского, составленном Даниилом Раифским, на материале старопечатного издания Лествицы 1647 г. В качестве перевода на русский язык используется оптинский текст Лествицы как наиболее авторитетный. Автор решает вопрос о соотношении универсальной агиографической «схемы» житий преподобных святых и вариативности форм выражения топики в конкретном житии. Для выявления своеобразия топики используется герменевтический метод прочтения текста с углублением в его смысловое содержание. Обнаруживается каноничность структуры жития, наличие ключевых топосов, характерных для монашеского типа житий. При этом выявляется своеобразие форм выражения топосов, что определяется содержанием образа святого, его личностными чертами, характерными особенностями его подвига, а также писательской манерой агиографа. Главным топосом с точки зрения ценностной иерархии в данном Житии является образ Небесной Горы - синоним Царствия Небесного, к которому подвижник восходит по лествице (славянский вариант слова лестница), состоящей из 30 ступеней (степеней) духовного совершенства. Мотив лествицы - второй важнейший сюжетный топос, имеющий структурообразующее значение. Основной конфликт в житии выражается в борьбе святого со страстями и его движении от «вещественного» (телесного) к «невещественному» (духовному), чем обусловлена и структура топики, также разделяемой по этому принципу. Смысловое содержание топосов определяется установкой на изображение не внешнего, но внутреннего пути подвижника. В целом устойчивые мотивы, формулы, образы данного жития характеризуется символизмом, метафоричностью, предельной краткостью выражения, высокой степенью риторичности, что объясняется близостью данного жития жанровой форме панегирика.
Древнерусская переводная литература, агиография, житие иоанна синайского, агиографическая топика, герменевтический анализ, образ святого, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/149141245
IDR: 149141245 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-106
Текст научной статьи Агиографическая топика в житии Иоанна Синайского (на материале старопечатного издания Лествицы 1647 г.)
B.H. Топоров в своем известном труде «Святость и святые в русской духовной культуре» так пишет о цели жития: «Житие пишется, строго говоря, не для того, чтобы еще раз напомнить об “идеальном”, но для того, чтобы показать путь к нему от “реального”, соединив последнее с первым» (курсив здесь и далее в цитатах мой - Л.Д.) [Топоров 1995, 621]. Ученый тем самым указывает на внелитературную направленность жития, предлагающего человеку образец спасения, возможный путь к святости, и связывает этот путь с образом «лестницы»: «житие тем полнее реализует свое задание, чем убедительнее и нагляднее выявляет идею духовного восхождения (“лестница ”) и приглашает к следованию по этому пути» [Топоров 1995, 621].

Так уже архетипически воспринимается в русской культуре образ лестницы (лествицы), как путь духовного восхождения, благодаря труду преподобного Иоанна Синайского - «Лествице», книге, занимающей уникальное по своей значимости место в русской словесности. По свидетельству Т.П Поповой, «Лествица не только входила в круг обязательного чтения славянских книжников, но и была одной из их любимых книг. Об этом свидетельствует огромное число славянских списков с текстом памятника (всего более 500), подавляющее большинство которых написано в разных русских скрипториях» [Попова 2011, 5] (Выражаю искреннюю признательность и благодарность Т.П Поповой за консультативную помощь при подготовке данной статьи). Не менее значимое место в русской словесности сохраняет эта книга до сего дня. Широкое распространение в монастырях и в обществе получили переводы «Лествицы», сделанные в XVIII и XIX вв., из которых, пожалуй, самым известным является оптин-ский перевод на русский язык - коллективный труд оптинских монахов во главе с преподобными Макарием и Амвросием Оптинскими [Дионисий (Шлёнов), Кордочкин 2011].
Притом что «Лествица» изучается богословами, текстологами, лингвистами [см.: Дионисий (Шлёнов), Кордочкин 2011, 424], житие написавшего ее Иоанна Синайского «исследовано крайне мало и практически не введено в научный оборот» [Попова 2014, 83]. Литературоведческих исследований данного жития пока нет. Между тем, оно представляет несомненную ценность как литературный памятник.
Мы обратились к первому русскому старопечатному изданию толковой Лествицы 1647 г, «которое имело всероссийское значение» [Дионисий (Шлёнов), Кордочкин 2011, 408]. Его можно считать, фактически, своего рода итогом развития рукописной традиции Лествицы, которая была хорошо освоена и учтена в этом издании, что обусловливает наш выбор этого текста для литературоведческого исследования Жития Иоанна Ле-ствичника. Первое старопечатное издание было подготовлено известным и, несомненно, талантливым соловецким книжником Сергеем Шелониным, осуществлено «по указу царя Алексея Михайловича и по благословению патриарха Иосифа в Москве за несколько месяцев» [см.: Дионисий (Шлёнов), Кордочкин 2011, 408; Сапожникова 2010, 258-320]. Здесь интересующее нас краткое житие, составленное монахом Даниилом Раифским, помещено вместе с расположенными внутри его текста толкованиями, которых мы в данной статье не касаемся. В качестве перевода отдельных цитат из старопечатного издания на русский язык мы приводим оптинский текст [Иоанн Синайский 2015] как наиболее авторитетный из переводов Лествицы, имеющихся сейчас. Нашей задачей является изучение агиографической топики в кратком житии Иоанна Синайского, составленного Даниилом Раифским.
В современной медиевистике существуют две тенденции в изучении топики житий. Первая тенденция заключается в изучении житий с точки зрения агиографического «схематизма», выявления общих мест. Начало этой тенденции было положено работами Хр.М. Лопарева [Лопарев 1911], затем дальнейшее развитие она получает в трудах Д.С. Лихачева, в его теории этикетности [Лихачев 1961], О.В. Творогова [Творогов 1964] и целого ряда ученых - до исследований Т.Р. Руди с ее подробно разработанной системой топосов в соответствии с типологией житий и активным введением в научный оборот понятия imitatio (imitatio angeli, Christi и т.д.) [Руди 2003; Руди 2006].
Вторая тенденция выражается в стремлении увидеть в житии не схему, но в этой схеме живое содержание, «человеческое» в лике святого, его «творчество в Духе», по слову В.Н. Топорова [Топоров 1995, 9], и творчески-индивидуально е начало в поэтике, проявляющееся, по слову Т.П. Федотова, в «искусстве нюансов» [Федотов 1990, 28-29] (об этом см.: [Ран-чин 2012; Ранчин 2015; Кириллин 2000; Конявская 2004; Бахтина 2009]. Мы придерживаемся точки зрения, что принцип imitatio, организующий агиографический канон, не означает отсутствия вариативности в формах его реализации.
Приступая к анализу Жития Иоанна Лествичника, важно отметить тот факт, что оно составляет неотъемлемую часть книги «Лествица» [см.: Дионисий (Шлёнов), Кордочкин 2011, 408]. Объяснение этому мы находим в предпосланном к житию предисловии («Слово вЬкратцЬ прозрение с(вя)тыя лЬствицы»): «Мы же потребно вмЪнихомъ премоудраго сего содКтеля оумныя сея и б(о)же(с)твеныя лЪствицы зде предКвчинити житие, его же бо зряще труды не невзъруемъ писаннымъ» [Иоанн Ле-ствичник 1647, л. 4] («Мы признали за нужное прежде всего поместить в этой книге житие преподобного премудрого отца, чтобы читатели, взирая на его подвиги, удобнее поверили его учению» [Иоанн Синайский 2015, 8]), из которого ясно, что в образе святого должны быть явлены плоды его личного восхождения по ступеням духовной лествицы.
Сразу скажем, что структура данного жития вполне канонична, агиографическая «схема» монашеского жития организована топосами, являющимися ключевыми смысловыми сюжетно-композиционными опорами: рождения (воспитания) - ухода в монастырь - подвига равноагельской жизни - борьбы с грехом/дьяволом - отшельничества - наставничества (учительства) - игуменства - совершаемых чудес - кончины святого. Более подробная схема топики житий преподобных святых (imitatio angeli) была предложена Т.Р. Руди, представившей топосы «в том порядке, в котором они следуют житийной схеме» [Руди 2006, 436], при этом она предлагает здесь не известные всем «традиционные топосы агиографической схемы <...>, а специфические топосы, отличающие жития преподобных» [Руди 2006, 436]. Схема монашеского жития, составленная Т.Р. Руди, включает 26 топосов, [Руди 2006, 497-499], представляющих, по ее словам, «в самой общей форме только наиболее значимые и распространенные ее элементы - мотивы, образы, сравнения, устойчивые литературные формулы, цитаты, и т.д.» [Руди 2006, 434]. При этом ею сделана оговорка, с которой нельзя не согласиться, что «рассмотренный перечень далеко не
исчерпывает всего многообразия традиционной топики монашеских житий» [Руди 2006, 499].
В житии Иоанна Лествичника мы нашли 14 из указанных в статье 26 топосов, но в иных формах, а также обнаружили и другие их варианты.
Как это очевидно, само по себе перечисление топосов не может раскрыть особенностей образа святого, уникальность его личности, и не отражает содержания лично его подвига, как не способствует и выявлению особенностей поэтики жития, связанной с авторским началом. Нужно увидеть оригинальность выражения универсальных топосов в данном житии и выявить основной (или основные), выражающие суть подвига святого и его личностные черты, для чего необходим последовательный герменевтический способ прочтения с углублением в смысловое содержание текста.
Начать следует с названия Жития, которое в средневековой литературе, как правило, содержит «ключи» для понимания текста и отражает его структуру: «Житие вкратцЕ бл(а)женаго отца наше(го) Иоанна игоу-мена с(вя)тыя горы синайския, нареченнаго схоластика, во с(вя)тыхъ поистинЕ, послЕжде же от списания именоуюшася лЕствичника, на-писавшаго д(у)ховныя сия скрижали, сирень с(вя)тоую лЕствицу. Списа же ся житие се от Даниила инока смиренаго раифского» [Иоанн Лествичник 1647, л. 5] («Краткое описание жития аввы Иоанна, игумена святой горы Синайской, прозванного схоластиком, поистине святого отца, составленное монахом раифским Даниилом, мужем честным и добродетельным» [Иоанн Синайский 2015, 9]). В оптинском переводе отсутствуют слова об именовании святого Лествичником и о его труде, что, по всей видимости, объясняется обращением Сергия Шелонина и оптинских монахов к разным источникам.
В названии Жития ключевым является образ-топос Небесной горы, в данном случае Синайской. Синайская гора в Житии является и фактом биографии, и библейским символом - встречи Моисея с Богом, а также восхождения святого в Царствие Небесное. Слово «игумен» (греч. fiyoopevog - «ведущий») также связано с биографией святого Иоанна Синайского, и одновременно указывает на главное его служение - ведения людей на эту Небесную гору. Слова «прозванного схоластиком» означают мудрость святого, многое знание, книжность, что уже напрямую связано с его написанием книг как спасительного дела. Устойчивой формулой в названии являются слова «во с(вя)тыхъ поистинЕ» («поистине святого отца»), фиксирующие святость Иоанна, что отвечает сути житийного канона, который и заключается в утверждении, или свидетельстве факта святости. Именование святого Лествичником по его труду - «святой Лествице» - указывает на его главный подвиг, жизненное дело, ставшее плодом его духовного пути.
Начинается Житие с вступления, которое является важным с точки зрения топики (от слов «Еже убо кто приживый <...>» и до слов «Како же тамо с невещесвеными веществен спребывая есть повЕм паче явЕ» [Иоанн Лествичник 1647, лл. 5-6]). Оно содержит в себе топос рождения и воспитания святого, но в необычной форме - «отсутствия»: «Еже оубо кто приживыи добляго сего и б(о)жественаго, и воспитавыи прежде постнаго страдалнаго его жития, да сице рекоу достойный слышания град земныи, зЕло оухищреннЕ и испытаннЕ повтъдати не могу» [Иоанн Лествичник 1647, л. 5] («Не могу сказать с достоверной точностью, в каком достопамятном граде родился и воспитывался сей великий муж до исшествия своего на подвиг брани» [Иоанн Синайский 2015, 9]). В этих словах, скорее, звучит указание на необходимость топоса рождения святого и с ним же связанного родительского и на отсутствие этих сведений. Также нет здесь в прямой форме и обязательной для житийной схемы формулы смирения, ее можно, пожалуй, усмотреть лишь как представленную опосредованно в словах «повЕдати не могу». Главным же во вступлении, как и в названии, становится топос Града Небесного, который является сквозным в житии и определяет, на наш взгляд, иерархию в системе топосов. Он выражен как мотив, объединяющий образ Иоанна («нетлЕнною пищею питаяи всечуднаго» [Иоанн Лествичник 1647, л. 5 об.]) с образом Небесного Града, описание которого дается через характеристику чувств достигшего его святого: в этом Граде Небесном он насыщается «чюство(м) невеществены(м) ненасытнаго. И невидимаго добротою зря, яко мысленому умоу, оумомъ точию радуяся <...>» [Иоанн Лествичник 1647, лл. 5 об.-б] («блага, которым невозможно насытиться, и наслаждается невидимой добротой, духовно утешается духовным» [Иоанн Синайский 2015, 9]). С образом и идеей Небесного Града связана и топос-цитата из послания коринфянам апостола Павла, имя которого в старопечатном тексте отсутствует, вернее, присутствует имплицитно, благодаря цитате: «есть бо и той н(ы)нЕ в не(м) о не(м) же велегласный оу-читель славий здЕ нЕкако вопиетъ, их же житие на н(е)б(е)сп>х есть» [Иоанн Лествичник 1647, л. 5 об.], что как бы «исправляется» переводом: «Он пребывает ныне в том граде, о котором говорит велегласный Павел, взывая: Наше житие на небесех есть (Флп. 3,20)» (курсив издателя-Л.Д [Иоанн Синайский 2015, 9].
Так, уже во вступлении принцип иконичности, понимаемый В. Лепа-хиным как «явленное (курсив В. Лепахина. - ЛД.) благодатное двуединство видимого образа и невидимого Первообраза» [Лепахин 2012, 31], определяет символическое содержание топики: земное место рождения здесь сопоставлено с Небесным Градом. Специфика этого топоса заключается еще в том, что соединение земного и небесного происходит только в самом святом - в пространстве его образа, - ибо родился он в земном граде, и он же пребывает вечно в граде Небесном со святыми, «ихЕ же прочее нога ста на правоттъ» [Иоанн Лествичник 1647, л. 6] («с теми, которых нога ста на правоте (Пс. 25:12)» [Иоанн Синайский 2015, 10]). Данная цитата из Псалтири - ключ к пониманию святости. Эта динамика между земным/небесным, или «вещественным»/«невещественным» и определяет дальше принцип изображения лика святого, или создания словесной иконы, что и проговаривает агиограф в финальной фразе вступле-
ния: «Како же тамо с невеществеными веществе(н) спребывая есть, повЪм паче явК» [Иоанн Лествичник 1647, л. 6] («Но как сей вещественный достиг невещественных сил и совокупился с ними, это я постараюсь изъяснить по возможности» [Иоанн Синайский 2015, 10]).
Следующая часть житийного повествования, соответствующая сюжетно-композиционному топосу «подвижник покидает родительский дом» [Руди 2006, 441], повествует об уходе святого на Синайскую гору в 16 лет и о его пребывании там под началом наставника в течение 19 лет. Но выражен он в краткой, можно даже сказать, в скрытой форме, с акцентом на духовном выборе и внутреннем состоянии святого: «тЬло оубо сие на синайскую, д(у)шю же на н(е)б(К)сную гору вознесъ» [Иоанн Лествичник 1647, л. 6] («телом восшел на Синайскую, а душой на небесную гору» [Иоанн Синайский 2015, 10]).
Житие не дает информации о моменте пострига, текст в принципе отличается высокой риторичностью, символизмом, особого рода поэтикой, восходящей к библейской, конкретика там минимизирована, что объясняется близостью жанровой формы данного Жития панегирику: «В Житии содержится немного фактических данных, поскольку оно является не столько жизнеописанием, сколько панегириком» [Дионисий (Шлёнов), Кордочкин 2011, 404]. Последовательного изложения внешних событий и поступков нет, а есть описание совершенных святым внутренних подвигов, главным из которых в первой части жития является принесение себя в жертву «Великому Архиерею»: «принесе самъ себе якоже нКкую непо-рочну и бл(а)гоприятну великому с(вя)щеннику жертву» [Иоанн Лествичник 1647, л. 6] («принес себя самого как некую чистую и самопроизвольную жертву Великому Архиерею» [Иоанн Синайский 2015, 10], то есть Иисусу Христу). Ожидаемое для жития преподобного повествование по принципу жития-«Ь1о8» здесь не просматривается. При этом мы видим напряженную динамику внутренней жизни: принесения себя в «самопроизвольную жертву», отсечение «бесчестной дерзости» («дерзновение безчестное») и ее «мысленных отроковиц» («разоумныхъ наши(х) отро-ковицъ»), то есть страстей, восприятие «благолепного смиренномудрия» [Иоанн Синайский 2015, 10] («Смирение же украшенное восприем» [Иоанн Лествичник 1647, л. 6 об.]) и отгнание «обольстительного самоугодия и самоверия» [Иоанн Синайский 2015, 10] («самогоднаго и своевКрнаго прелестника» [Иоанн Лествичник 1647, л. 6 об.]). Фактически агиограф описывает самоумерщвление святого, отречение от своеволия - он и обретает смирение в течение этих 19 лет. Мотив смирения здесь центральный, и связан он здесь с мотивом умерщвления в себе греха (страстей), преодоления своей телесности. Как пишет агиограф, к концу первого этапа монашеского пути святой «имел в себе душу как бы без разума и без воли, совершенно свободную от естественного свойства» [Иоанн Синайский 2015, 10] («Сице совершений положивъ себе, яко безсловесну нзъкую и бесхопиъния д(у)шю имКти и естественаго свойства измКнену всяко» [Иоанн Лествичник 1647, л. 6 об.]).
Мы не видим в этом житии целого ряда топосов, распространенных в монашеских житиях. И не только потому, что оно краткое, но, главным образом, по причине сосредоточенности агиографа на внутренних «событиях» духовной жизни, а не на внешних. Так, характерные для этого этапа монашеского пути мотивы монастырских трудов, усердного посещения церковных служб, послушания наставнику можно усмотреть «скрытыми» в одной фразе о «преклонении своей выи»: «Смирение же оукрашенное восприем, изганяетъ изрядным зело рассмотрением со входомъ са-могоднаго и своевйрпаго прелестника, выю преклонь и ввтъривъ бл(а) гополучно учителю, в безбйднй наставлении, тяжкую пучину прейти ра(з)смотряя добре» [Иоанн Лествичник 1647, л. 6 об.] («<.. .> восприняв же благолепное смиренномудрие, он при самом вступлении в подвиг весьма благоразумно отогнал от себя обольстительное самоугодие и самове-рие; ибо преклонил свою выю и вверил себя искуснейшему учителю, чтобы, при благонадежном его руководстве непогрешительно переплывать бурное море страстей» [Иоанн Синайский 2015, 10]).
Следующий и основной этап монашеского пути святого Иоанна после смерти его наставника начинается с исхода «на бе(з)молвия поприще» [Иоанн Лествичник 1647, л. 6 об.] и продолжается 40 лет.
Здесь внутренне «работают» топосы монашеского жития: мотив «вселения» в место уединения, мотив подвижничества в соединении с формулой «горения»: «горящимъ желание(м) б(о)ж(ес)твеныя любве пр(и) ено распаляемь» [Иоанн Лествичник 1647, л. 7] («всегда пылая горящей ревностью и огнем божественным» [Иоанн Синайский 2015, 11]), что указывает на особую веру святого, соединенную с любовью к Богу, также мотив трудов, там понесенных. При этом труд имеется в виду не внешний, а внутренний, и обретает он особое значение для агиографа, стремящегося раскрыть, насколько можно, глубину духовной жизни святого. Почему и применяется риторический прием в форме вопросов, мотивирующих дальнейшее повествование и ожидание читателей: «Но кто доволенъ яже тамо сотвори труды, словесы обличити, и сказати повйстьми. Како же, идйже всякъ троудъ не явЬ сЬяшеся, проявлений изречется» [Иоанн Лествичник 1647, л. 7] («Но кто может выразить словами и восхвалить сказанием труды его, там понесенные? И как явно представить всякий труд его, который был тайным сеянием?» [Иоанн Синайский 2015, 11]). Дается здесь же и ответ, по сути, определяющий характер и содержание дальнейшего повествования: «Обаче от началъ нйких малыхъ вещехъ пребо-гатное житие трепреподобнаго услышимъ» [Иоанн Лествичник 1647, л. 7] («Впрочем, хотя через некоторые главные добродетели известимся о духовном богатстве сего блаженного мужа» [Иоанн Синайский 2015, 11]).
Следует отметить, что Даниил Раифский, начиная с момента «вселения» Иоанна на Синайскую гору в 16 лет, выстраивает повествование о святом в виде перечисления добродетелей по определенной логике, которая глубинно соответствует и логике самой книги «Лествица», - движения души по ступеням совершенствования. Т.Р. Руди, перечисляя основные
топосы житий святых преподобных, особо выделяет агиографический мотив «лествицы», происхождение которого она связывает с книгой Иоанна Синайского: «При описании иноческих подвигов святого используется мотив “лествицы”, по ступеням которой он день ото дня восходит к вершинам добродетельного жития» [Руди 2006, 482]. В рассматриваемом житии топос лествицы не вычленяется сугубо как отдельный мотив в ряду и в связи с другими, а составляет содержательную и структурную доминанту, является структурообразующим, при этом не нарушая общей «схемы» житийного канона, представленной нами в самом начале.
На первом этапе монашеского пути, за время своего 19-летнего ученичества, как мы отмечали выше, святой достигает такого духовного состояния, которое является условием для дальнейших подвигов восхождения по ступеням добродетелей: он умирает для мира, что соответствует первым трем ступеням в «Лествице» (см.: Слово 1 «Об отречении от жития мирского», Слово 2 «О беспристрастии, т.е. отложении попечений и печали о мире» и Слово 3 «О странничестве, т.е. уклонении от мира» [Иоанн Синайский 2015, 27-56]). Второй же, 40-летний, этап его монашеского пути соответствует остальным ступеням. Но это не означает описания подвигов святого в буквальном соответствии последовательности ступеней в книге Иоанна Лествичника, чего, казалось бы, можно было ожидать. Житие выстраивает не логику этапов духовного восхождения как иллюстрацию к Лествице, а пишет образ святого, его лик, уже являющий невидимое в видимом, уже взирающий на агиографа и всякого, кто прочтет молитвенно этот текст - такова творческая установка агиографа, равно как и иконописца. Поэтому, как мы помним, житие начинается с указания на достижение преподобным Иоанном Града Небесного, то есть выстраивается по принципу обратной перспективы. И поэтому в житии сквозные топосы-мотивы, выражающие высочайшую степень совершенства, какого может достичь святой преподобный, и, соответственно, характеризующие его образ, появляются в самом начале. Ведь, если идти по тексту, то еще на первом этапе преп. Иоанн обретает смиренномудрие (в Лествице это 25-е слово) и достигает бесстрастия, что ясно из приведенной ранее цитаты о его душе, ставшей «как бы без разума и без воли» [Иоанн Синайский 2015, 10]), а это уже в Лествице 29-я, предпоследняя, ступень.
Один принцип изложения неизменен, о котором выше мы сказали, -противопоставления вещественного и невещественного, и движения от первого ко второму. И топосы свидетельствуют об этом. Так, можно выделить первый комплекс мотивов, связанный с понятием «телесности», отношение святого к которой говорит о его направленности на свое внутреннее состояние - борьбу со страстями, поэтому рождаются антонимичные пары - добродетель/страсть. Например, относящийся к теме аскетических подвигов топос еды, один из ключевых в монашеских житиях, представлен с акцентом не на внешнем подвиге - постничестве, а на внутреннем -на «премудрости» святого. Он ел разнообразные блюда, разрешаемые монахам, но ел мало, и таким образом втайне укрощал плоть малоядением, а тщеславие - разнообразием пищи, которое было явно видимо другими: «Ядяше оубо все еже непорочнК желается заповеданию, мало же зело. И всем мню некако величанию рогъ сламляя прем(уд)ре» [Иоанн Ле-ствичник 1647, л. 7] («Он употреблял все роды пищи, без предосужде-ния разрешаемые иноческому званию, но вкушал весьма мало, премудро сокрушая и через это, как я думаю, рог кичливости» [Иоанн Синайский 2015, 11]). Мотив укрощения похоти плоти, также типичный для монашеских житий, представлен в отношении к святому Иоанну одной метафорой - угашения «телесной печи», что достигается пустынножительством: «Отпустениемъ же и неприближение(м) личнымъ пламень пещи сея погаси, яко до конца прочее тоу испепелити, но успити совершенК» [Иоанн Лествичник 1647, ли. 7-7 об.] («пустынножитием и удалением от людей утолил он пламень сей (то есть телесной) печи, так что он совсем испепелился и угас совершенно» [Иоанн Синайский 2015, 11]). Нужно здесь добавить, что этот топос более ярко представлен в образе Исаакия, которого исцелил преподобный Иоанн молитвой от угнетения плотской похотью, что составляет сюжет второго чуда в Житии. Далее идут мотивы раздачи милостыни (нищелюбия) и аскетической «скудости во всем потребном» [Иоанн Синайский 2015, 11]. Они тоже относятся к топосам «телесности», от служения которой стремится освободиться святой: «Идолскаго же поклонения м(и)л(ос)тию и оскудением ноужных крепкий крйпцй избежа» [Иоанн Лествичник 1647, л. 7 об.] («Милостыней и скудостью во всем потребном мужественный сей подвижник мужественно избежал идолослужения, то есть сребролюбия» [Иоанн Синайский 2015, 11]). Характерно, что оптинский перевод «расшифровывает» понятие «идольского поклонения» уточняющим понятием «сребролюбия», явно опираясь на евангельскую цитату из послания апостола Павла колоссянам: «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идол о служение» (Кол. 3:5).
Важный агиографический топос памяти о смерти телесной, весьма распространенный в монашеских житиях, здесь дан в своеобразной оппозиции «смерть душевная»/«смерть телесная», когда память о смерти тела спасает от смерти души: «Д(у)ши же всечасную смерть и ра(з)слабле-ние, смертию яко остномъ стрКча во(з)стави» [Иоанн Лествичник 1647, л. 7 об.] («От ежечасной смерти душевной, то есть от уныния и расслабления, восставлял он душу, возбуждая ее памятью телесной смерти, как остном (жалом -Л.Д.)» [Иоанн Синайский 2015, 12]).
Повествование в основной части Жития развивается по принципу отсечения святым все более тонких душевных страстей и одновременно восхождения по ступеням добродетелей. Эту особенность движения подвижника по лествице заметил В. Лепахин: «<...> существуют две лествицы: одна ведет в ад, другая - в Царствие Небесное. Они как бы накрадываются друг на друга. “Стояние” на одной ступени означает и пребывание в добродетели, и попрание какой-либо страсти <.. .> Равновесие здесь очень хрупко: не успел утвердиться в одной добродетели и попрать низшую страсть,

“отбросив” ее вниз, как сверху на тебя надвигается новая, еще более опасная или сильная. И так до самой вершины лествицы, где подвижника ждет самая сильная и опасная страсть - гордость» [Лепахин 1998, 22]. Эту логику движения мы и наблюдаем в Житии. Так, следующая оппозиция углубляет смысл противопоставления вещественного - невещественному: «Оуморение(м) же пристрастия или оубо и прочих чювственых, не-вещественую юзу печали ра(з)рУши» [Иоанн Лествичник 1647, л. 7 об.] («Сплетение пристрастия и всяких чувственных помыслов разрешил невещественными узами святой печали» [Иоанн Синайский 2015, 12]). Здесь «пристрастия» и «чувственные помыслы» - это проявления телесности, хоть и относятся к области души. При этом «святая печаль» - хоть и это тоже область души - относится к «невещественным узам», и слово «святая» противопоставляет такую печаль - несвятой печали, то есть унынию, о чем сам Лествичник пишет в Слове 7 «О радостотворном плаче» [Иоанн Синайский 2015, 144-163]).
Перечисляя победы добродетелей над страстями, агиограф может и нарушить последовательность изложения. Например, он пишет о гневе, который был ранее других страстей, перечисленных выше, побежден добродетелью послушания'. «БУже емоу прежде оуморено мече(м) послушания гнУвное томление» [Иоанн Лествичник 1647, л. 8] («Мучительство гнева еще прежде было в нем умерщвлено мечом послушания» [Иоанн Синайский 2015, 12]). А тонкая страсть тщеславия, которую метафорически называет Даниил «пиявицей» и сравнивает с паутиной, может быть «умерщвлена» только подвигами уединения и молчания: «Неисходным же тУломъ и неисходнУйшимъ вУщаниемъ паучнославную умори пиявицу» [Иоанн Лествичник 1647, л. 7] («Неисходным же уединением и всегдашним молчанием умертвил он пиявицу паутинного тщеславия» [Иоанн Синайский 2015, 12]).
Пиком драматизма в этом движении святого вверх по лестнице добродетелей является борьба с главной страстью - «восьмой отроковицей» - гордостью, которая является из восьми главных страстей последней и рождающей все остальные. Тут, при всей своей краткости изложения, Даниил, будучи в восхищении от описываемого им образа святого и от его подвигов, разворачивает метафору на основе библейского параллелизма, сопоставляя преподобного Иоанна с ветхозаветным Веселиилом, называя его «Веселиилом послушания»: «Что осмыя отроковицы, оудобляго та-инника сего побуждение, что же ли оубо очищение крайнее, еже начать убо послушания Веселеилъ, соверши же Н(е)б(ес)наго Иер(уса) лима Г(оспо)дь, пришествием своимъ прише(д), бе(з) него же не от-ребится диаволъ, и того сличная чета» [Иоанн Лествичник 1647, л. 8] («Что же скажу о той славной победе, которую сей добрый таинник одержал над восьмой отроковицей? Что скажу о крайнейшем очищении, которое сей Веселеил послушания начал, а Владыка небесного Иерусалима, пришедши, совершил Своим присутствием; ибо без сего не может быть побежден диавол с сообразным ему полчищем» [Иоанн Синайский 2015,
12]). Конечно, это не топос, а троп, но и в нем мы видим развитие агиографического мотива послушания (важный топос для монашеских житий, не представленный в упоминаемой нами выше житийной схеме Т.Р. Руди). Причем, именно победа над гордостью приводит к «крайнейшему очищению», которое святой только начал, а совершил «Владыка небесного Иерусалима», чем был побежден и диавол. Здесь отражена полнота синергии святого и Бога, которая возможна только при достижении подвижником истинного смирения - добродетели, противостоящей гордыне. Казалось бы, здесь уже вершина совершенства достигнута святым, и его образ получает завершение. Но нет, агиограф продолжает свое повествование, которое он определил как «плетение венца», что в значительной степени определяется не только задачами агиографа максимально раскрыть внутренний путь восхождения святого, но и законами жанра панегирика.
В следующем абзаце Даниил продолжает свое размышление об источнике подвига святого в его победе над гордыней и пишет о слезах-. «ГдК положю в нынКшне(м) нашемъ плетении вКнечнКм слезный того ис-точникъ, делу не во мнозК(х) соущему, их же сокровенная даже и до н(ы)нК есть храмина в пустыни нКгдК, и в подгории соущи пещера мала, отстоящи оубо от тоговы и всякия иныя клКти толма, елико тщеславию слоухъ заградити можаше. Близь же н(е)бесе соущи вопль-ми и призыванми, и инЪми таковКми, якоже обычай имутъ творити, иже мечи и жеги стрКчеми и очию лишаеми» [Иоанн Лествичник 1647, л. 8 об.] («Где помещу в настоящем нашем плетении венца источник слез его (дарование, не во многих обретающееся), которых тайное делателище и доныне остается - это небольшая пещера, находящаяся у подошвы некоторой горы. Она настолько отстояла от его келлии и от всякого человеческого жилища, сколько нужно было для того, чтобы заградить слух от тщеславия; но к небесам она была близка рыданиями и взываниями, подобными тем, которые обыкновенно испускают пронзаемые мечами и прободаемые разженным железом или лишаемые очей» [Иоанн Синайский 2015, 12-13]). Плач о грехах - также устойчивый мотив в агиографии - это плач по Богу, он «радостотворный» и покаянный, источником слез здесь и является грех, препятствующий соединению с Богом (см.: Слово 7 «О радостотворном плаче» [Иоанн Синайский 2015, 144-163]). Но в Житии Лествичника он получает несколько неожиданное образное решение: в качестве источника слез называется пещера. Причем, как это мы видели уже не единожды, она имеет и буквальный - «земной» - смысл, указано ее точное местоположение: «у подошвы некоторой горы», на определенном расстоянии от «его келлии и всякого человеческого жилища», которое имеет духовное измерение - заграждения слуха от тщеславия и одновременно близости к небесам плачем святого по Богу. Так, пещера благодаря «рыданиям и взываниям» святого обретает иконичность. В данном случае мотив слез соединяется с мотивами уединения, молитвы, и тайного делания, традиционными для монашеских житий.
После победы над главной страстью гордости далее в повествовании
снижается напряжение в противопоставлении добродетели и греха, и усиливается описание высоты духовного состояния святого. И уже на высшем этапе духовного совершенства появляются топосы «нетелесности», или «невещественности». Возникает мотив книги, который, как и в случае с образом Синайской горы, пещеры, и других топосов, связан внешне с биографией святого - написанием книг, и одновременно - с аскетикой (топос «аскетических подвигов святого» [Руди 2006, 498]), то есть с мотивом духовной борьбы монаха, в данном случае, борьбы с унынием: «Сия (сна - Л.Д.) же приемляше толико, елико же оумнаго существа точию бдЬниемъ не погубити. Много же преже спания моляшеся, и книги составляше, се бо бЪ емоу точию оуныния обротЬние» [Иоанн Лествич-ник 1647, л. 8 об.] («Сна принимал он столько, сколько необходимо было, чтобы ум не повредился от бдения, а прежде сна много молился и сочинял книги; это упражнение служило ему единственным средством против уныния» [Иоанн Синайский 2015, 13]).
Наконец, Даниил Раифский свидетельствует о «преуспеянии во всех добродетелях» святого Иоанна и о его возведении в игумены - типичный сюжетный топос монашеских житий. Здесь используется непрямая евангельская цитата («И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5:15), которую можно назвать формулой-топосом - о светильнике: «на начальственое светило добрии ис-коусници во(з)высивше» [Иоанн Лествичник 1647, л. 10 об.] («возвысивши сей светильник на свещник начальства» [Иоанн Синайский 2015, 15]).
Но связаны эти слова не только с игуменством, как кажется на первый взгляд, но и со словами о «таинственной горе», возвращающими нас к началу повествования о Граде Небесном (синоним Горы Небесной), который выражен в образе «таинственной горы»: «Таже почюдившеся вся всЬмъ его во всем исправление(м), яко новоявленна некоего Моисея, ноуж-дею на старейшинство братии возведоша, на начальственое светило добрии искоусници во(з)высивше, и не солгани быша, но и приближается к горе и той, и в невходимыи вшедъ мракъ, б(о)говоображенное приемлет, оумными во(з)водимь степенми, законоположение и б(о) говидение» [Иоанн Лествичник 1647, л. 10 об.] («Все, удивляясь преуспеянию его во всех добродетелях, как бы новоявленного Моисея, поневоле возвели его на игуменство братии и, возвысивши сей светильник на свещник начальства, добрые избиратели не погрешили; ибо Иоанн приблизился к таинственной горе, вшедши во мрак, куда не входят непосвященные; и возводимый по духовным степеням, принял богоначертанное законоположение и видение» [Иоанн Синайский 2015, 15]).
Здесь очень важное противоположение, в котором нет противоречия: «светильник» и «вшедши в мрак». Известно, что Божественный мрак - богословское понятие, указывающее на непостижимость Бога и одновременно означающее «Божественный свет» [о Божественном мраке см.: Лосский 1991, 20-36]. Важно, что это понятие связано с восхождением Моисея на Синай и его встречей с Богом во мраке, о чем пишет В.Н. Лосский, анали- зируя трактат Дионисия Ареопагита «О мистическом богословии»: «Путь восхождения, на котором мы постепенно освобождаемся от власти всего, что доступно познанию, Дионисий сравнивает с восхождением Моисея на гору Синай для встречи с Богом <...> Только тогда, перейдя за пределы мира видимых и видящих, Моисей проникает в истинно-мистический мрак неведения» [Лосский 1991, 23]. Мотив «светильника» достаточно часто встречается и является распространенным топосом, а вот мотив Божественного мрака не част, его присутствие возможно в житиях монахов-исихастов, что требует отдельного изучения.
В финале повествования появляется очень важный для данного жития мотив слова, причем, книжного, которое в одной фразе повторяется трижды («слову Б(о)жию отверзаетъ оуста, и д(у)хъ привлече, и отрыгну слово, и словеса бл(а)га от бл(а)гаго сокровища сердечнаго» [Иоанн Лествичник 1647, л. 10 об.] («Слову Божию отверз уста свои, привлек Духа, отрыгнул слово, и из благого сокровища сердца своего изнес словеса благая (Мф. 12, 35)» (курсив издателя - ЛД.^ [Иоанн Синайский 2015, 15]). В приведенной цитате представлен образец синергии - сотворчества человека и Бога в написании священных книг. Нужно «отверзнуть» вначале свои уста для Слова Божия, «привлечь Духа», чтобы «отрыгнуть слово», и все это должно совершаться в сердце человека, ставшего «благим сокровищем», откуда и могут быть изнесены благие слова. Очевидны здесь отсылки к Псалтири (Пс. 44:2) и к Евангелию (Мф. 12:35, Лк. 6:45) о сердце как источнике и злого и благого. Но насколько эти цитаты могут стать топосами-формулами - вопрос пока открытый. Здесь мы их рассматриваем как авторские топосы, соглашаясь с Т.Р. Руди, не включающей в область топики те цитаты из Священного Писания, которые не часто встречаются, «носят индивидуальный характер и не составляют какой-либо системы» [Руди 2006, 465].
И только в самом конце Жития мы обнаруживаем единственное в тексте словесное выражение топоса «лествицы» в словосочетании «богопи-санные скрижали». Связан этот топос, прежде всего, с идеей духовного восхождения самого святого, и уже затем - с его книгами: «И свидЕтеле оубо д(у)ховнымъ его глашениемъ мнози, елици тЕмъ и спасошася, и ныне спасаются. <...> СвидЕтель же и добрый Иоаннъ пр(е)п(одо) бныи нашъ пастырь, от него же паче о паствЕ оумоленъ бывъ, от горы Синайския к намъ новый сей б(о)говидец помысломъ сошедъ, показа намъ и той б(о)гописанныя своя скрижали, внЕ оуду оубо дЕлателная, вноутрь оуду же б(о)говидЕтельная имоущи оутверждения, глаголющая сице» [Иоанн Лествичник 1647, л. 11] («Дух Святой говорил его устами, свидетелями этому служат многие из тех, которые спаслись и доныне спасаются через него. <.. .> Свидетелем того же был и добрый Иоанн, преподобный наш пастырь (раифский игумен). Он и убедил сего нового бого-видца усильными своими просьбами для пользы братий сойти помышлением с горы Синайской и показать нам свои богописанные скрижали, в которых наружно содержится руководство деятельное, а внутренно - со-
зерцательное» [Иоанн Синайский 2015, 16]). Последние слова в данной цитате говорят о символизме слова в «Лествице», направленной и к деятельной внешней стороне жизни подвижника, и к внутренней духовной его жизни, к достижению духовного совершенства и соединения с Богом. Причем последнее является главной целью как жизни и подвига самого святого Иоанна Лествичника, так и его целью написания книги - ведения читателя по ступеням лествицы в Царство Небесное.
Подведем итоги наших наблюдений. Основные топосы Жития Иоанна Синайского обладают большей свободой в формах выражения в отношении к житийной «схеме» [Руди 2006]. Устойчивые мотивы в этом действительно кратком житии преимущественно даны в «свернутом» виде, предельно символичном, часто метафорически оформленном. Практически не встречаются в тексте готовые формулы-топосы, часто используемые агиографами в монашеских житиях. Даниил обращается к библейским цитатам, которые, как и во всех житиях святых, выполняют каноническую роль, раскрывая духовный смысл сюжетного момента или сторону личности святого, и реализуя одновременно собственно поэтическую функцию; он вводит и библейский параллелизм как поэтическое средство. Конечно, этот аспект поэтики требует дополнительного изучения.
Структура жития определяется мотивом-топосом пути - восхождения святого, но путь этот представлен практически только как внутренний. Основной конфликт заключается между вещественным и невещественным, телесным и духовным, выражен в борьбе святого со страстями, но представлен описательно, не в поступках. К концу Жития, на последнем этапе жизни и подвигов прей. Иоанна, уже вошедшего в Божественный мрак и тем достигшего при жизни Небесной Горы, этот конфликт практически снимается. Соответственно, топика представлена, условно, двумя типами: «телесности» («вещественности») и «нетелесности» («невещественности»), Образ-топос Небесной Горы определяет иерархию топики в данном Житии, а второй важнейший мотив-топос лествицы является сюжетным и структурообразующим. Он выражает внутренний путь святого и одновременно указывает на биографический факт - написание книги «Лествица». Конечно, ключевые топосы данного Жития - Небесной Горы и лествицы -неразрывно связаны между собой, как и со всеми остальными топосами. Агиограф искусно варьирует их, условно говоря, обыгрывает, используя все то же противопоставление земного и небесного, которое преодолевается подвижником. В финале жития это движение выстраивается следующим образом: святой Иоанн, называемый Даниилом «новым боговидцем» [Иоанн Синайский 2015, 16], «вшедъ в мракъ» [Иоанн Лествичник 1647, л. 10 об.] Божественный, то есть достигнув вершины духовного пути, «возводимый по духовным степеням» [Иоанн Синайский 2015, 15] («умными возводимь степенми» [Иоанн Лествичник, л. 10 об.]), в конце жизни по просьбе игумена Иоанна Раифского сходит помыслом с горы Синайской «к нам» («к намъ новый сей боговидец помысломъ сошедъ» [Иоанн Лествичник 1647, л. 11]), чтобы «показать нам свои богописанные скрижа- ли» [Иоанн Синайский 2015, 16] («показа намъ и той богописанныя своя скрижали» [Иоанн Лествичник 1647, л. И]), которыми «спаслись и доныне спасаются через него» [Иоанн Синайский 2015, 16] многие.
Таким образом, топика в кратком Житии Иоанна Синайского, составленном Даниилом Раифским, при соответствии в целом агиографической схеме житий преподобных святых, отличается рядом особенностей, которые определяются его панегиричностью, содержанием и характером подвигов святого. Форма выражения топосов в значительной степени зависит также от писательской манеры агиографа, и от личностных особенностей святого, которые проявляются не столько в житийной «схеме», сколько в нюансах поэтики внутри этой «схемы».