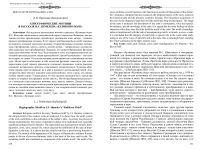Агиографические мотивы в рассказе И.С. Шмелева «Куликово поле»
Автор: Прихожая Лилия Ивановна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
Исследуются религиозные мотивы в рассказе «Куликово поле» И.С. Шмелева, написанном в эмигрантский период творчества. Выявлено, как мотивная система произведения способствует реализации идеи автора - показать процесс преображения человека. В тот период для Шмелева были особо значимыми вопросы духовной эволюции индивида. Охарактеризованы основные мотивы: чуда, преображения, креста, святого, вечной жизни, - направленные на реализацию в рассказе идеи преображения. Показано, что сюжетообразующую функцию в рассказе выполняет мотив чуда. Чудо явления в эпоху послереволюционных испытаний простым русским людям преподобного Сергия Радонежского - это основа истории, ее сюжет. Остальные мотивы рассмотрены как составляющие мотива чуда. Мотив креста объединяет в себе несколько функций: сюжетную (как точка пересечения судеб героев), временную (связывает временные пласты рассказа, соединяет историческое прошлое и настоящее), символическую. Чудесное обретение героями креста приводит их к вере и приносит долгожданный покой. Анализируется образ святого: описание лика преподобного, голос и речь, его сияние, особые знания старца. Утверждается, что внутренние ощущения всех героев при встрече со старцем выстраивают мотив святого. Мотив преображения реализуется с помощью сопутствующих мотивов: чуда, креста, святого. Делается вывод, что категория мотива играет в исследуемом произведении особую роль, выступая одним из способов повествования и вместе с тем содержательной единицей, реализуя тяготение писателя к свету, чуду, Богу.
Мотив, сюжет, чудо, крест, святой, преображение, и.с. шмелев, «куликово поле»
Короткий адрес: https://sciup.org/149141265
IDR: 149141265 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-230
Текст научной статьи Агиографические мотивы в рассказе И.С. Шмелева «Куликово поле»
Рассказ «Куликово поле» был написан И.С. Шмелевым в эмиграции, ставшей для писателя тем периодом, когда в наибольшей степени проявился его интерес к религиозным темам, прежде всего обретения веры и внутреннего преображения. «Темы обретения веры, реальности Промысла и сверхчувственного мира, небесной защиты, преодоления сомнений стали в эмигрантский период творчества Шмелева центральными в его личном опыте...» [Любомудров 2003, 116].
Над рассказом «Куликово поле» писатель работал восемь лет, с 1939 по 1947 г. Вот как он сам вспоминал об этом труде: «Сколько я тут положил души - это только я знаю: без помощи свыше я не мог бы одолеть трудностей» [Шмелев, Бредиус-Субботина 2003, 440]. Главная идея рассказа, которую Шмелев стремится донести своему читателю, заключается в том, что человек должен стремиться к собственному преображению и к вере. Вся система мотивов в рассказе - преображения, чуда, креста, святого, вечной жизни - направлена на реализацию идеи преображения.
«Куликово поле» - это повествование о чудесном явлении святого преподобного Сергия Радонежского русским людям, измученным послереволюционным временем, христианам, сильно нуждающимся в ободрении и укреплении в вере.
Главный герой, бывший следователь, помогает двум другим героям, Средневу и его дочери Ольге, разрешить их спор о случившемся с ними. В результате расследования и умозаключений бывшего следователя подтверждается чудо, в которое верила Олечка и которое опровергал ее отец: чудо явления им Сергия Радонежского. Главных действующих персонажей четверо: рассказчик - бывший следователь, лесной объездчик Вася Сухов, Среднев и его дочь Ольга. Рассказчик в самом начале уточняет: «Главные лица - нашего с вами толка, а из народа - только один участник» [Шмелев 2018, 451], имея в виду Василия Сухова, который служил лесным объездчиком у купцов и был знаком с барином Средневым и его дочерью. В «родительскую субботу» Вася отправился к своей дочери «пирожка отведать, с кашей» [Шмелев 2018, 455], ведь в тех местах, где он жил, этот

день почитали особо, как поминки. На Куликовом поле вдруг остановился его конь. «Огладил Сухов коня, отпрукал... - нет: пятится и храпит. Глянул через коня, видит - полная воды колдобина, прыгают пузыри по ней. “Чего боится?..” - подумал Сухов... Пригляделся... - что-то будто в воде мерцает...» [Шмелев 2018, 456]. Исследовательница творчества И.С. Шмелева Е.В. Параскева отмечает, что мы сталкиваемся здесь с «отголосками фольклорной традиции: герой получает предостережение от своего коня о приближении к чуду» [Параскева 2018, 189]. Сухов слез с коня и достал из воды медный крест. «И стало повеселей на душе: святой крест - добрый знак» [Шмелев 2018, 457]. Старинный медный крест воспринимается героем как знамение спасения.
Мотив креста решает в рассказе несколько задач. Для того чтобы случилось преображение человека, происходит перекрещивание судеб героев рассказа. Точкой перекрещивания становится святой крест. «Моделирующая функция мотива креста позволяет связать воедино разные судьбы и обнаружить единый вектор их духовных поисков» [Параскева 2018, 183]. До обретения креста судьбы героев несчастны. Они живут в страхе, потому что они «бывшие». Запрещена вера, закрыты храмы. Следователь вспоминает, что им владело «оцепенение безысходности» [Шмелев 2018, 453], было «тошно, гнусно, безвыходно» [Шмелев 2018, 468]. Он «ютился с дочерью в Туле, под чужим именем» [Шмелев 2018, 453]. Главной задачей каждого дня было остаться никем не узнанным, чтобы никто не вспомнил, что он «кровопийца народный» [Шмелев 2018, 453]. Барин Среднев так же бежит от революции в Сергиев Посад, «там потише», но живет, постоянно притворяясь, ходит на празднование годовщины Октября, потому что боится, что заметят его отсутствие на манифестации: «...Среднев ходил с толпой по Посаду - “часа два грязь месили под ледяным дождем”. Уклониться никак нельзя - бухгалтер! - заметили бы: “здесь всех знают”» [Шмелев 2018, 487]. В конце же рассказа герои - уже свободные, верующие люди.
Крест связывает временные пласты рассказа. Он свидетель Куликовской битвы. Пять веков назад с благословения преподобного Сергия русский князь Дмитрий Донской разгромил Мамая, оставив предкам завет хранить православную веру. С другой стороны, крест - символ нового времени, символ испытаний русского народа. «Крест с Куликова поля есть совмещение прошлого и настоящего, но и знак вневременной силы первообраза» [Параскева 2018, 183].
Крест объединяет два мира: мир земной и мир горний. Земной - поскольку он связан с историей Руси. Но также он символ горнего мира, символ спасения через страдание.
Шмелев описывает впечатления Василия от найденного креста. Василий рассматривает находку и сразу же вспоминает барина Среднева, который собирал вместе со своей дочерью редкости. И тут к нему подходит человек. «По виду из духовных: в сермяжной ряске...» [Шмелев 2018, 459]. Сердце Васи возликовало, почуяло святого. Увидел старец, что мыс-

ли у Василия растеряны, что не знает, как ему крест сберечь. Пожалел его. А как Вася упомянул барина, который смог бы крест сберечь, то старец пообещал: «Отнесу благовестие господину твоему» [Шмелев 2018, 462]. Так началась эта история чуда. Через три месяца рассказчик, следователь, приехал в Сергиев Посад и встретился с другими участниками «случая», чтобы узнать, чем эта история закончилась. Крест был в доме Среднева, его принес им тот самый старец. Оленька знала, сердцем чувствовала, что это было явление святого - преподобного Сергия. Среднев же, материалист, не мог в это верить, как сказала Оля: «Для папы в этом ничего нет, он только анализирует, старается уйти от очевидности... и не видит, как все его умствования ползут...» [Шмелев 2018, 485]. Затем Среднев и его дочь рассказали о том, как все было: как старец крест передал со словами: «Ра-дуйтеся благовестию» [Шмелев 2018, 489], как Оля на коленях просила остаться старца у них переночевать, как не могли они сомкнуть глаз ночью и как святой незаметно покинул их дом.
В рассказе очень много различного рода указаний на то, что это действительно было явление Сергия Радонежского. Образ старца Шмелев раскрывает через мотив святого, который состоит из этих указаний. Это и лик святого, как его описал Василий: «“Такой лик, священный... как на иконе пишется, в себе сокрытый”. Может быть, что и таил в себе, чувствовалось мне так: удивительно сдержанный, редкой скромности, тонкой задушевной обходительности...» [Шмелев 2018, 460]. Это и голос преподобного, который казался всем приятным: говорил «ласково, как родной» [Шмелев 2018, 462]. Речь его была особенной, он говорил на староцерковном языке. «Сухов определял, что старец говорил “священными словами, церковными, как Писание писано”, но ему было все понятно» [Шмелев 2018, 460]. Мотив святого выстраивают и внутренние ощущения всех героев. При встрече со старцем у Сухова «возликовало сердце, “будто самого родного встретил”» [Шмелев 2018, 459]. А Оля была в момент встречи со старцем как бы «блаженной». Важным элементом мотива святого является также его сияние, которое Среднев хотел объяснить по-своему, разумом: «очевидно, от блеска звезд» [Шмелев 2018, 488]. Это и икона преподобного, висящая в комнате, которую Оля с отцом определили старцу на ночлег: лик на иконе преподобного и лицо старца были одинаковы. Еще одна составляющая мотива святого - особые знания старца. Например, он знает, что Василий крест обрел, хотя сам в этот момент не присутствовал на Куликовом поле. Он также знает, где живут Средневы. «Обоим им показалось странным, что постучавшийся не спросил, здесь ли такие-то... - знает их!» [Шмелев 2018, 488]. Старец предупреждает Василия, что скоро свидится с ним, и Василий понимает, что старец говорит о его скорой смерти.
Мотив святого является особым элементом мотива чуда, без которого это чудо не состоялось бы. Героям произведения - Средневу и следователю, маловерам и материалистам, нужны расследование и доказательства. И доказательство предстает перед следователем в том факте, что и ветре-
ча Василия со святым, и встреча Средневых с преподобным произошла в один и тот же вечер, почти в одно и то же время, а ведь от Куликова поля до Сергиева Посада - больше четырехсот верст. Перед этим фактом не смогли устоять сомневающиеся. Вычислить дату, в которую все происходило, было легко, так как все точно помнили этот день - 7 ноября. Для одних это был церковный праздник, для других - «восьмая годовщина “Октября”» [Шмелев 2018, 487].
Мотив чуда в рассказе «Куликово поле» - сюжетообразующий. Это основа истории. Но главная цель чуда - преображение героев рассказа. Здесь получает свое развитие еще один мотив шмелевской прозы - мотив преображения. Принятие чуда героями ведет к изменениям в их жизни. Среднев, как и главный герой, «маловер, как все, тронутые “познанием”» [Шмелев 2018, 485], не может верить, потому что «“чердачок” превалирует», и любит пофилософствовать. Споря с дочерью, он говорит наигранно, усмешливо подмигивает, пожимает плечами, не может поверить, что преподобный Сергий Радонежский явился им. Среднев пытается найти объяснение тому, что лик посетителя схож с ликом святого:
- Что тут доказывать!.. - сказал он снисходительно-усмешливо. - Почему не объяснять не-чудесным... тожеством восприятий?.. Бывают лица, особенно у старцев... скажу даже - лики... очень иконописные!.. Не «небесной же моделью» пользуются иконописцы, когда изображают лики?.. Тот же гениальный Рублев -свою Троицу?! [Шмелев 2018, 486].
О посетителе он отзывается как о достойном человеке: «.. .может быть, болеющий страданиями народа, инок высокой жизни...» [Шмелев 2018, 496], но не верит в явление.
Следователь, как и Среднев, маловер, все время сомневается. Вот как он сам описывает свое отношение к случившемуся: «Меня этот странный случай затронул двойственно: как следователя - загадочностью, которую надо разъяснить расследованием, и как человека - явлением, близким к чуду, против чего восставало здравое чувство привычной реальности» [Шмелев 2018, 494].
Оля сильно нуждалась в поддержке следователя, ей очень хотелось, чтобы он помог «рассеять сомнения отца», помог ее отцу уверовать. Почувствовав это, следователь отнесся к расследованию с особым старанием.
Когда выяснилось, что преподобный был в один и тот же день с разницей в несколько часов на Куликовом поле и у Средневых в Сергиевом Посаде, то и профессор Среднев, и следователь вынуждены были поверить в то, что явившийся в Сергиев Посад посланник - сам преподобный Сергий Радонежский. С героями рассказа происходят перемены. Чудо повлияло на их обращение к Богу. Они «обрели верную основу, таинственно дарованную веру» [Шмелев 2018, 505].
«Среднев смотрел, бледный, оглушенный, губы его сводило, лицо перекосилось, будто он вот заплачет. <.. .> Он... закрыл руками лицо» [Шме-

лев 2018, 502]. Оля понимала, что «с ним сейчас совершается важнейшее в его жизни» [Шмелев 2018, 502]. Он уверовал! Но не только Среднев переменился - переменился и следователь:
Я тогда испытал впервые, что такое, когда ликует сердце. Несказанное чувство переполнения, небывалой и вдохновенной радости, до сладостной боли в сердце, почти физической. Знаю определенно одно только: чувство освобождения. Все томившее вдруг пропало, во мне засияла радостность, я чувствовал радостную силу и светлую-светлую свободу - именно, ликование, упованье: ну, ничего не страшно, все ясно, все чудесно, все предусмотрено, все - ведется... и все - так надо. И со всем этим - страстная, радостная воля к жизни, - полное обновление [Шмелев 2018, 503].
Внутреннее преображение героев, их обращение к Богу приносит им долгожданный покой. После осознания чуда встречи со старцем Среднев почувствовал себя «как истомленный путник, желанный покой обретший» [Шмелев 2018, 504]; после благословения старца отец и дочь испытывают чувство «безмятежного покоя» [Шмелев 2018, 492]; следователь стал «светло-спокоен» [Шмелев 2018, 503], когда поверил в явление святого, сердце его возликовало и пришло «чувство освобождения» [Шмелев 2018, 503]. Тема душевного покоя соединяется с темой бессмертия, темой, которая является венцом истиной веры. Мотив вечной жизни завершает формирование мотива преображения. Оле после встречи со старцем «открылось, что все - живое, все есть: «Будто пропало время, не стало прошлого, а все - есть!»
Для нее стало явным, что покойная мама - с нею, и... единственный брат у ней, - жив, и - с нею; и все, что было в ее жизни, и все, что она помнила из книг, из прошлого, далекого - «все родное наше», - есть, и - с нею; и Куликово поле, откуда явился крест, - здесь, и - в ней! Не отсвет его в истории, а самая его живая сущность, живая явь [Шмелев 2018, 493].
Категория мотива оказалась особенно значимой для произведения «Куликово поле», став одним из способов организации повествования. Мотивы связывают различные уровни текста, обеспечивают смысловые акценты, но главное - актуализируют смысл, что важно для читательского восприятия, для вовлечения читателя в сотворчество. Указывая на значимость мотива в произведениях писателя, В.Е. Ветловская пишет: «...не только действие, но и действующие лица, их характеры, убеждения, поступки, связи, отношения, наконец, авторская концепция... решительно все передается с помощью мотивов и их комплексов. И ничего без них» [Ветловская 2002, 100].
Основные мотивы произведения «Куликово поле» - мотив креста, святого, чуда, преображения, вечной жизни - являются мотивами религиозными и позволяют осмыслить православное учение о Божием Промысле
вечного спасения человека. Мотив преображения реализуется с помощью сопутствующих мотивов: чуда, а в нем скорбей, искушений и покаяний; мотивов креста, святого. Однако сюжетообразующим выступает мотив чуда, который стал одним из способов организации повествования. Этот мотив определенным образом соотносится с целым (сюжетом) и одновременно с другими мотивами, то есть элементами этого целого. Он скрепляет части текста, выполняя структурно-моделирующую функцию. Но мотив в произведении Шмелева - не только литературоведческая единица, а прежде всего составляющая его авторского тяготения к свету, чуду, Богу. Именно поэтому А.М. Любомудров отмечает, что мотивы, сопровождаю щие писателя в течение всего творчества, - это «не столько мыслительные концепты, сколько идеи сердечные, связанные с чувственно-эмоциональной и, отчасти, с духовной сферой» [Любомудров 2007, 14].
Список литературы Агиографические мотивы в рассказе И.С. Шмелева «Куликово поле»
- Ветловская В.Е. Анализ эпического произведения: Проблемы поэтики. СПб.: Наука, 2002. 213 с.
- Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б.К. Зайцев, И.С. Шмелев. СПб.: "Дмитрий Буланин", 2003. 272 с.
- Любомудров А.М. Интуитивное и рациональное в творческой личности И.С. Шмелева // Вестник ВолГУ Серия 8: Литературоведение. Журналистика. 2007. № 6. С. 14-17.
- Параскева Е.В. Система повествовательных мотивов в художественной прозе И.С. Шмелева: дис. к. филол. н.: 10.01.01. Сургут, 2018. 224 с.
- И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина: Роман в письмах: в 2 т. Т. 1. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. 760 с.
- Шмелев И.С. Богомолье. Повести. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2018. 512 с.
- Шмелев И.С. Душа Родины: Избранная проза. М.: Паломникъ, 2001. 560 с.