Русская литература. Рубрика в журнале - Новый филологический вестник
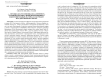
Статья научная
В статье анализируется фрагмент подготовительных материалов к роману Ф.М. Достоевского «Бесы», опубликованный в Полном собрании сочинений писателя (Л., 1974) и находящийся в логическом противоречии со всем тем, что писал Достоевский об институте папства Римско-католической церкви и догмате о непогрешимости (Infallibilitas) Папы Римского, принятом на Первым Ватиканском (20-ом Вселенском) соборе, который был созван Папой Пием IX. Догмат был провозглашен 18 июля 1870 г., получил широкую огласку и обсуждался во всех странах Европы, не исключая Россию. Новая версия прочтения записи Достоевского, выполненного в предлагаемой статье, подтверждается контекстом «записной тетради» писателя; добавочные аргументы в пользу новой версии содержатся в истории создания Достоевским романа «Бесы», а также в замечаниях об этом догмате римско-католической церкви и русском церковном Расколе, зафиксированных в «Записках из Мертвого дома», романах «Идиот» и «Братья Карамазовы», в «Дневнике писателя». В статье выдвигается следующая версия: анализируемая фраза позволяет предположить, что характер и идеология Князя первой редакции романа «Бесы» как апологета «почвенничества», проповедующего русскую религиозную реформацию на основе канонических традиций Старой веры, является прообразом «деятеля» Алеши Карамазова, практически воплощающего эту идею в эпилоге «Братьев Карамазовых», где показано единение «русских мальчиков» и Алеши на основе идей братской любви и самопожертвования - центральных категорий идеологии Достоевского.
Бесплатно
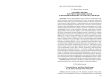
"Concordia discors" и другие музыкальные образы в драматической поэме А.К. Толстого "Дон Жуан"
Статья научная
В статье рассматривается одна из важных составляющих творческой эволюции Алексея Константиновича Толстого, уделявшего повышенное внимание осмыслению музыки как внеземного начала и как вида искусства. В статье делается попытка показать, что представление об онтологической картине мира и музыкальной природе вселенной восходит у Толстого не только к романтической эстетике и философии, как принято считать в исследованиях, но и к средневековым христианским идеям, которые согласуются со временем утопической историософии поэта. В поэме встречается сочетание «несогласимое согласно» представляющее собой русский перевод слегка измененной формулы «concordia discors» (несогласное согласие). Формула восходит к античности и означает гармонизацию несовместимых (противоречивых) предметов, явлений, понятий, образов. Так, Сатана у Толстого претендует на тотальное господство над вселенной («Господь» «только для красы»), а небесные ангелы полагают, что несогласованность явлений входит в изначальный и не постигаемый никем божественный замысел. В «Письме к издателю» 1862 г. Толстой пояснил общий смысл своего сочинения следующим образом: «Это был случайный и невольный протест против практического направления нашей беллетристики». Представляется, что в образе Сатаны можно увидеть легкий намек на нигилистов - современных «новых людей». Сатана у Толстого имитирует забвение своих истоков, однако небесные духи восстанавливают истину. Другое понятие, восходящее к ранней христианской литературе и актуальное для поэта, - это понятие «любви» как единого божественного начала, вносящего порядок в структуру музыкальной вселенной. Как показал Л. Шпитцер, в раннем христианском средневековье, в частности, в богословских сочинениях Августина Блаженного (несомненно известных Толстому), была переосмыслена концепция пифагорейско-платоновской музыкальной гармонии. Согласно мысли ученого, пифагорейцы идентифицировали музыку с космическим порядком, а христианские философы с музыкой отождествляют любовь.
Бесплатно
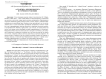
"Атлантида" Мережковского: источники и рецепция
Статья научная
Статья посвящена анализу второго тома трилогии Д.С. Мережковского «Тайна Трех» - книге «Тайна Запада. Атлантида-Европа». Тема-тически она делится на две части: первая занята анализом цитирования у Мережков-ского на предмет выявления уровня точности цитат и ссылок, вторая - реакцией совре-менников на его масштабный труд. Новизна статьи заключается в том, что исследова-ние цитат и ссылок показывает своеобразие цитирования, отмечает «ошибки» в них и предпринимает попытку объяснить их появление; отдельно отмечается цитирование Вяч. Иванова, проведенное, судя по всему, по неизвестному нам тексту этого автора; дается подборка откликов современников на «Атлантиду». Мережковский был изве-стен своей страстью к цитатам и источникам, для написания «Атлантиды» он перечи-тал, очевидно, все, что было доступно на тот момент по этой теме, и впервые снабдил свой текст, фактически, научным аппаратом. Это свидетельствует о важности для него поиска источников, однако, как показано в итоговых выводах, гигантский труд Мережковского оказался в то время не востребован современниками: ни учеными, ни литературными критиками.
Бесплатно
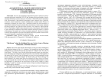
Статья научная
В статье рассматривается феномен большого романа об интеллигенции в русской литературе XIX-XXI вв. Матрицу большого романа об интеллигенции обозначил в своих замыслах «Атеизма» и «Жития Великого грешника» Ф.М. Достоевский. Структурными признаками такого романа стали: герой-интеллигент, сюжет-странствие, широта изображения духовной жизни России. В жанровом отношении мы имеем дело с романом-эпопеей об интеллигенции. В дальнейшем матрица большого романа была воплощена в таких важных романах русской литературы, как «Жизнь Клима Самгина» А.М. Горького, «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака. В работе прослеживается связь этих романов с Достоевским, а также выявляются варианты реализации матрицы большого романа у Горького и Пастернака. Последняя часть статьи посвящена роману В. Залотухи «Свечка». «Свечка» рассматривается как еще один вариант большого романа об интеллигенции, воплотившийся в новейшей русской литературе.
Бесплатно
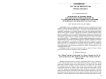
Статья научная
Анализ специфики изображения смуты в псковской летописной повести, в центре внимания которой стоит не политическая борьба царей и самозванцев, как в других памятниках цикла, а смятение и междоусобие среди самих псковичей, показывает, что история Пскова эпохи Смутного времени рассматривается сквозь призму сложных перипетий классовых взаимоотношений «буего народа» и «добрых», «лутчих» людей. Выявленные на основе сопоставления эпитетов, моделей поведения и авторских комментариев особенности контрастного изображения народа и власти в городе приводят к выводу, что повесть «О смятении и междоусобии…», написанная с позиций привилегированных псковичей и направленная на осуждение поведения простых горожан, становится невольно, вопреки намерениям ее создателя, своеобразным гимном отчаянности и дипломатии «малоумных», стремившихся в условиях общего «нестроения» сохранить свой город и не дать его разорить и уничтожить. Борьба народа с городской властью оказывается в действительности борьбой за свободу и независимость от интервенции любого типа.
Бесплатно
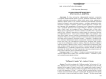
"Гофмановский комплекс" в рассказах Л. Андреева
Статья научная
В статье исследуется «гофмановский комплекс» в рассказах Л. Андреева. Романтическая ирония и гротеск, проблема механизации жизни и человека, нашедшая воплощение в образах игры, маски, куклы, марионетки и двойника, образы зеркала и глаз, ставшие символами распознавания подлинной сущности человека, а также оппозиция «живое» - «неживое» проявляются в произведениях Андреева и отражают духовное падение общества, в котором человек утрачивает себя, превращаясь в бездушную куклу. Разрушение человеческой души у Андреева происходит как изнутри («Мысль», «Рассказ о Сергее Петровиче», «Ложь» и др.), так и снаружи («Смех», «Красный смех», «Стена» и др.). Образы маски и карнавального костюма становятся способом уйти от реального мира («Смех», «Маска»), защититься от ужасов жизни, но в результате достигается обратный результат - маска только усиливает эффект, она узурпирует душу героя. Игра лишает личность свободы, индивидуальности, обрекая ее на новые страдания. Образы глаз и зеркала становятся основными средствами распознавания утраты души человеком. Оппозиция «живое» - «неживое» у Андреева создается с помощью гофмановского приема одушевления «неживых» предметов (проволока, окна, дом и др.) и абстрактных понятий (ложь, молчание, мрак, смерть), а также путем изображения «живого» мертвым. Приступы безумия у Гофмана и Андреева связаны с образами смеха, хохота и сопровождаются появлением двойника, который угрожает целостности личности. Созидательная ирония Гофмана трансформируется у Андреева в разрушительную иронию, которая, как болезнь, охватывает все общество и достигает максимума в гротескно-символических образах стены и красного смеха в одноименных рассказах.
Бесплатно
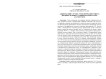
"Дьявольский случай": трансформация сюжета договора человека с дьяволом в рассказах А.Н. Толстого
Статья научная
Статья посвящена исследованию рассказа «Дьявольский случай», который не входил в прижизненные собрания сочинений А.Н. Толстого и не привлекал внимание исследователей в контексте раннего творчества писателя. Научная новизна применяемого подхода заключается в применении текстологического и биографического методов к изучению произведений А.Н. Толстого 1910-х гг. Необходимость изучения рассказа «Дьявольский случай» в контексте раннего творчества писателя вызвана тем, что тематически он связан с произведениями 1910-х гг., в которых автор соотносит «причудливость фантастики с буднями большого города». Как и в рассказах «Фавн» и «Американский подводный житель», появление нечистой силы происходит во сне героя, что позволяет Толстому показать самые неприглядные стороны современного писателю города и его обитателей. Рассказ «Дьявольский случай» был опубликован дважды: в газете «Русские ведомости» (1914) и в сборнике «Обыкновенный человек» (М., 1915). В ходе текстологической работы были выявлены особенности, важные для воссоздания процесса работы писателя над образами (Абрамова, «искусителя», собирательным образом московской публики). В тексте, опубликованном в газете «Русские ведомости», непонятный тревожащий героя «голосочек» крепнет благодаря совершенным низостям (подсмотренная карта, украденный кошелек) и материализуется в финальной сцене. Эта трансформация в сборнике не происходит, т.к. автором снимаются связанные с появлением «искусителя» детали и характеристики. Фразы становятся лаконичнее и проще во второй публикации. В результате правки для сборника «Обыкновенный человек» была изменена и финальная сцена рассказа. Особо выделяются реалии времени и характеристики современного писателю общества, которые также подвергаются авторскому исправлению. В ходе исследования были сформулированы выводы о том, что в рассказе «Дьявольский случай» Толстой совмещает фантастический сюжет о договоре с дьяволом с конкретно-историческими реалиями.
Бесплатно
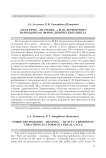
"Есть речи - значенье..." М.Ю. Лермонтова: вариации как форма лирического цикла
Статья научная
В статье рассмотрены три текста М.Ю. Лермонтова, которые начинаются строкой «Есть речи - значенье.». Последовательное издание нескольких смысловых версий на тему «речей» в итоге образует ряд вариаций, которые воспринимаются как читательский цикл. Но в отличие от других циклических форм, например, от книги стихов 1918 года Б.Л. Пастернака «Темы и вариации» или его цикла «Тема с вариациями», Лермонтов не ставил своей задачей создание цикла. Существенная часть первого текста остается без изменений во втором и последующем случае, что характерно для авторского черновика. Но, в отличие от черновика, они опубликованы и зачастую воспринимаются как самостоятельные стихотворения поэта. Новизна статьи состоит в том, что привычное отношение к этим трем текстам как разным редакциям одного стихотворения изменяется, если принять во внимание феномен читательской циклизации. Соприсутствие в мире произведений двойного кругозора оцельняющего (божественного) и разбивающего (демонического), которое отмечено С.Н. Бройтманом, требует отражения в форме, а именно вариации предрасположены к отражению таких ситуаций. Мы считаем, что народные истоки склонения слова «пламя», примененного Лермонтовым, отсылают читателя и к народным истокам формы музыкальных вариаций. Сама оппозиция волшебных звуков и шума мирского заставляет читателя вспомнить о музыке. Мы приходим к заключению, что данные тексты Лермонтова нецелесообразно рассматривать изолированно друг от друга, каждый из них проясняется при обращении к двум другим.
Бесплатно
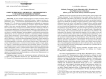
Статья научная
В статье впервые реконструируется история создания «Завета Белинского» Д.С. Мережковским от публичной лекции к первым газетным публикациям и далее - к окончательно сформировавшемуся тексту в одноименной брошюре 1915 г. В качестве источников привлекаются собранные по периодике и преимущественно не переиздававшиеся материалы времен Первой мировой войны (в том числе газетные хроники). Текстологический анализ позволил выявить отличия между устными выступлениями писателя в Петрограде, Москве и их печатными вариантами. Изучение авторской правки на стилистическом, композиционном и содержательном уровнях показало, что Мережковский внимательно отнесся к изданию брошюры, актуализировав ее общественно-политическую проблематику. В статье приводятся аргументы, касающиеся выбора основного текста «Завета Белинского» для включения в состав нового собрания сочинений Мережковского в 20 томах. Вслед за текстологической реконструкцией исследователь обращается к проблеме функционирования брошюры, которая привлекла внимание ее первых читателей, - критиков и рецензентов. Впервые их отклики систематизированы и осмыслены. В результате делается вывод о дальнейшем изучении «Завета Белинского» с учетом его метатекстовых связей в четырех ракурсах: наряду с литературно-критическими выступлениями писателя; в контексте его публицистических статей о роли интеллигенции, патриотизме, национализме, войне и революции; в связи с художественным (прежде всего драматургическим) творчеством Мережковского тех лет; наконец, с точки зрения автобиографического истолкования (до сих пор - наименее очевидного, поскольку проблема осознанного и бессознательного автобиографизма в публицистике Мережковского не была сформулирована учеными).
Бесплатно
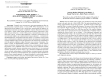
"И поднимет щит девица...": дева-воительница в лирике А. Блока. (статья первая)
Статья научная
В первой статье двухчастного цикла рассматривается образ девы-воительницы в ранней лирике А. Блока (1898-1904). Показывается, что он представлен весьма широко, но не в чистом виде: воительница, как правило, интерпретируется Блоком как вариант «софийной» героини. Выявляются источники этого образа у Блока; первая линия рецепции представлена тетралогией Р. Вагнера «Кольцо нибелунга», «Сагой о Вёльсунгах», переложениями песен «Старшей Эдды», другая - поэзией и философией Вл. Соловьева с отразившимся в них гностическим мифом в двух взаимодополнительных вариантах - о пленной, спящей Мировой Душе, подлежащей спасению героем, и о плененном злыми силами герое, освобождаемом софийной героиней (причем вагнеровская интерпретация истории Зигфрида и Брунгильды рассматривается как имплицитно содержащая в себе оба варианта софийного мифа). Показано также влияние Овидиевых «Любовных элегий» на формирование концепта «любви-войны» у Блока. Рассмотрены константные мотивы ранней лирики Блока, составляющие как сюжет о воительнице, так и софийный сюжет (огонь на горе вкупе с брачным мотивом, пробуждение спящей героини, священная весна, измена героя и / или унижение героини, прозрение на пороге смерти и др.). Показаны модификации архетипи-ческих мотивов любви-вражды и любви-борьбы, поединка, рокового неузнания. Выявлены постоянные взаимопревращения двух вариантов образа софийной героини у Блока: спящей царевны, т.е. героини пассивной, и воительницы, героини активной, соответственно в двух ролях участвующей в сюжете спасения.
Бесплатно
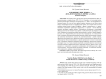
"И поднимет щит девица…": дева-воительница в лирике А. Блока (статья вторая)
Статья научная
Во второй статье двухчастного цикла рассматривается образ девы-воительницы в лирике Блока 1905-1916 гг. Показано, что если ранее вагнеровские мотивы были вынесены на маргиналии, то с 1905 г. они встраиваются в основной сюжет. И если для более ранней лирики главными из них были пламя вокруг спящей Брунгильды и ее пробуждение героем, то во втором томе их место занимает мотив измены и смерти Зигфрида - наряду с анамнесисом, т. е. припоминанием (утерянного героического прошлого), а в третьем - мотив забвения, рокового неузнания «первой любви». Описывается соотношение с валькирией образов девы-змеи (во втором томе лирики) и лебединой девы (во втором и третьем). Выявляется соположение образа воительницы не только с Девой Марией и ангелом, но и с Родиной (Русью) в третьем томе. Указывается, что в типологическом отношении блоковская креативная рецепция образа воительницы включает две сюжетные возможности, казалось бы, противоположные: с одной стороны, происходит испытание силы лирическим героем и воительницей, причем оно сопровождается гибелью персонажей, а с другой, происходит их отказ от испытания силы, и поединок замещается любовным преследованием, эротическим поиском. Благодаря тому, что у Блока главной сюжетной коллизией является гностическая коллизия спасения, пробуждения одного персонажа другим, причем статус «спасающего» и «спасаемого» оказывается меняющимся, нестабильным (как и факт осуществления / неосуществления интенции спасения), эти сюжетные возможности чередуются, мерцают, взаимоотражаются.
Бесплатно
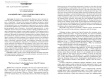
"Кабацкий локус" в русской поэзии ХХ века: статья вторая
Статья научная
Во второй статье, посвященной кабацкому тексту в русской поэзии ХХ века, рассматривается творчество С. Есенина, И. Бродского, В. Высоцкого, А. Башлачева. У Есенина этот комплекс «ресторанных мотивов» в первую очередь реализуется в цикле «Москва кабацкая». Есенин дает несколько ипостасей ресторанной темы, где аккумулируются практически все мотивы и образы, составляющие кабацкий текст в символизме и акмеизме. Высоцкий как ключевая фигура авторской песни и Башлачев - поэтический лидер рок-поэзии - в своих «кабацких текстах» наследуют основные мотивы и образы Серебряного века. Однако в произведениях поющих поэтов второй половины ХХ века присутствуют и элементы, ранее не входившие в пространство кабацкого текста, например, мотив кощунства. Бродский восстанавливает модернистскую мотивную матрицу почти без изменений. В завершение статьи дается общая типологическая матрица кабацких мотивов в русском модернизме и поэтической песенности (на материале обеих статей цикла). Система персонажей в кабацком тексте чаще всего следующая: «заблудший» лирический герой, потусторонние медиаторы, насельники гиблого места (своеобразный «персонал»), гости-бражники, женственно-эротические персонажи. Находящиеся внутри кабацкого локуса пьют, курят, дерутся, играют в азартные игры, пляшут и т.д. Пространство характеризуется, как замкнутое, мертвенное, инфернальное, миражное. В статье реконструируется сквозной сюжет, определяющий специфику кабацкого текста в русской поэзии ХХ века: затрудненный путь в гиблое место, вход в пограничье (преддверие), пребывание в кабацком локусе и выход из него, часто равнозначный спасению.
Бесплатно
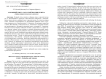
"Кабацкий локус" в русской поэзии ХХ века: статья первая (символизм и акмеизм)
Статья научная
В первой статье дилогии о кабацком локусе в русской поэзии ХХ в. рассматривается творчество представителей символизма и акмеизма. Кратко даются истоки «кабацкой темы» в русской поэзии. По гипотезе авторов статьи, ключевым стихотворением для выстраивания кабацкого текста в русском модернизме стал «Трактир жизни» И. Анненского. На материале творчества А. Блока, Вяч. Иванова, О. Мандельштама, А. Ахматовой, Н. Гумилева показано, как видоизменялся и обогащался матричный сюжет, созданный И. Анненским. Отмечается жесткая матрица «кабацких мотивов», которая кочует от одного текста к другому; данные тексты вступают в сложный интертекстуальный диалог. Это свидетельствует о единстве кабацкого локуса в творчестве символистов и акмеистов. При этом поэты Серебряного века нередко пропускают кабацкий мотивно-образный комплекс через призму какой-либо философско-религиозной / мифологической системы. У Блока это неоплатонизм, пропущенный сквозь призму «соловьевства», у Вяч. Иванова - авторский дионисийский миф, у Анненского это культурный миф, у Ахматовой - фольклор и православно-христианский код, у Гумилева и Мандельштама - синтез всех перечисленных традиций. Авторы приходят к выводу, что кабацкий локус оказывается своеобразным семиотическим паттерном, который структурирует определенную модель бытия. Центральным здесь становится мифологический комплекс пира как смерти, который обусловливает появление ряда неомифологических структур, воплощающихся в трактирном тексте русского модернизма.
Бесплатно
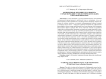
Статья научная
Статья написана в русле фундаментальных исследований исторической преемственности различных эпох в литературе, того, как фольклорная поэтика проявляется в индивидуальном авторском творчестве, каково ее идейное значение, ее влияние на формирование образа человека в литературе. Цель статьи - определить характер восприятия К. Д. Бальмонтом фольклорного опыта в жанре колыбельной песни для уяснения путей эволюции фольклорных форм на рубеже XIX-XX вв. Научная новизна исследования определяется концентрацией внимания на конкретном жанре народной поэзии, ставшем для Бальмонта одним из способов воспроизведения его авторской картины мира, представляющей собой сложный синтез идиллического мира грез и мечтаний, детской безмятежности и изменчивой, таящей в себе множество неожиданных поворотов и испытаний действительности. Основное содержание статьи представлено анализом путей и способов трансформации устнопоэтического жанра колыбельной песни в творчестве Бальмонта (мотив скорби жизни, мотив глубокого проникновения судьбы ребенка в душу лирического героя, прием пересемантизации призыва «спи», «усни», введение свето-звукового и обонятельного ряда, распространение семантического поля колыбельной на другие сферы жизни). Полученные результаты исследования показали, что продуктивное усвоение фольклорной традиции определялось свойствами самого жанра колыбельной, его универсализмом, позволяющим в доступной, внешне простой поэтической форме концентрированно выразить глубокое, философское содержание мира и человеческой сущности, а также склонностью Бальмонта воспринимать и творчески перерабатывать окружающую действительность сквозь призму образов и мотивов, специфичных для жанра колыбельной песни.
Бесплатно
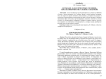
"Мотыльки, как беспризорные снежинки": тема беспризорности в "Лолите" В. Набокова
Статья научная
Статья посвящена теме беспризорности в романе В. Набокова «Лолита». Автор показывает, что Гумберту важна и удобна именно беспризорность (в одном или другом значении слова) женщин, с которыми он вступает в отношения. Появляющийся в конце романа (в главах, события которых Гумбертом придуманы) образ мотыльков, как беспризорных снежинок, позволяет не только уточнить эту беспризорность избранниц Гумберта (в первую очередь, Лолиты), но и выявляет его собственную «беспризорность», которая, однако, приобретает высокий смысл безнадзорности творца.
Бесплатно
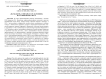
"Наука жить" в письмах Н.М. Карамзина и П.А. Вяземского 1821 г
Статья научная
В статье проанализирован комплекс высказанных в письмах Н.М. Карамзина П.А. Вяземскому морально-философских суждений в качестве своеобразной «науки жить», которую автор стремился передать «питомцу» в 1821 г., когда молодого «либералиста» настигла опала, усилившая его глубокую «хандру». Значительное внимание уделяется литературно-историческому контексту непростого диалога Карамзина и Вяземского, отсутствие писем которого к «наставнику» отчасти компенсируется привлечением переписки Вяземского и А.И. Тургенева и других эпистолярных материалов. Показан интерес Карамзина к изречению «век живи, век учись... жить», отразившийся в письмах, высказаны предположения о его происхождении и причинах умолчания адресантом имени Сенеки как автора «пословицы». Сопоставление «Разговора о счастии» (1797), эссе «О счастливейшем времени жизни» (1803) и писем Карамзина Вяземскому в 1821 г. обнаруживает, что ключевые для карамзинской «науки жить» суждения - об относительности «возможного земного счастья» и зависимости его главным образом не от внешних условий жизни человека, а «уменья наслаждаться» тем, что имеешь, которые прозвучали еще в произведениях рубежа веков, в той или иной форме продолжали транслироваться в 1821 г.
Бесплатно
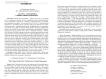
"Не муза, а моя жизнь": о лирике Лидии Чуковской
Статья научная
Поэзия Лидии Чуковской - важная, но все еще не изученная часть ее творческого наследия. В статье своеобразие лирики Чуковской выявляется в соотношении с контекстом, к которому отсылает поэтика ее стихотворений. Материал исследования - поэтические тексты 1938-1995 гг., документальная («Прочерк») и дневниковая проза. Сравнительный анализ проводится на мотивно-семантическом, структурно-ритмическом, метафорическом и композиционном уровнях стиха. Вначале выявлен общий принцип организации лирического сюжета у Чуковской. Как показывает сопоставление стихотворений Чуковской, посвященных расстрелянному мужу («М.»), и Набокова («Расстрел», «Весна» и др.), во многом сходных, лирическое событие создается перечислением деталей, организующим суггестивный ритм. При этом сами изображенные миры у двух поэтов противоположны: светлый набоковский рай и непреодолимый ад у Чуковской. В ее стихах личная тема неотделима от социальной; документальный факт достигает высоты лирического звучания. Далее рассматриваются стихи Чуковской, диалогически связанные с поэзией Мандельштама, Ходасевича («В тифу», «Ташкентские розы»), Заболоцкого («Мне тоже захотелось написать.»). В ходе контекстного анализа обнаружен двойственный характер рецепции: причастность к традиции «высокой лирики» и спор с ней, манифестируемый через прием антитезы. Антитеза имеет метатекстуальное значение; метафоры и символы, мотивная и синтаксическая структура стиха, самый его смысл и строй говорят о принципе «прозаизации» лирики у Лидии Чуковской: «не муза, не лира, а жизнь прожитая моя». И в этом еще одна яркая особенность ее поэтического дискурса.
Бесплатно
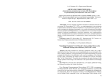
Статья научная
В статье впервые подробно освещаются публицистические выступления Д.В. Философова 1917-1918 гг., не переиздававшиеся и не входившие в прижизненные авторские сборники. Прибегая к текстологическому анализу, ав-торы на конкретных примерах показывают, что в своей публицистике Философов выступал рупором идей Мережковских, а следовательно, его статьи могут восприниматься в качестве своеобразного «газетного дневника» этого «тройственного союза». Одновременно воссоздаются основные вехи на пути, который публицист прошел в своих размышлениях о современности перед вынужденным бегством за рубеж.
Бесплатно
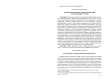
"Новое оледененье": Иосиф Бродский и глобальные угрозы
Статья научная
В статье на материале стихотворения И. Бродского «Стихи о зимней кампании 1980 года» рассматривается связь между эксплицитной политической оценкой, высказанной в стихотворении, и той имплицитной логикой, которая заложена в саму поэтическую структуру произведения, а также в эстетическую программу поэта, нашедшую выражение на уровне автометатекста. По мнению автора работы, выступая против войны в Афганистане и глобальных последствий холодной войны, Бродский в то же время помещает проблематику глобальной угрозы в универсальный контекст своей трагической метафизики, согласно которой милитаризм современных сверхдержав оказывается аномальной, но в конечном счете оправданной частью мировой энтропии, противостояние которой невозможно, а потому более или менее адекватной реакцией на происходящее становится эстетический и этический стоицизм. Это «короткое замыкание» между детально проработанным художественным и довольно аморфным политическим воображаемым дает возможность исследовать идеологические установки поэта. В статье анализируется субъектная организация стихотворения, его композиция, стилистика, интертекстуальные связи, комментируются отдельные элементы текста и образно-символического строя произведения в контексте поэтологии Бродского.
Бесплатно
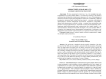
"Новостной" роман 1860-х гг.: эскалация и преодоление опасностей
Статья научная
В статье выдвигается гипотеза о том, что специфическая ориентированность русского романа 1860-х гг. на новостную повестку дня связана с особенностями восприятия исторического времени в эту эпоху. Рассматриваются типичные способы литературной переработки новостных сообщений о наиболее резонансных про-исшествиях, общий вектор которой - усиление событийности происходящего, включая повышение актуальности, значимости, смысловой и ценностной наполненности собы-тий, а также - создание более масштабных нарративов о текущей современности. Клю-чевая коллизия рассматриваемой эпохи - появление новой общественной силы («ниги-листов» или «новых людей»), с которой связывалось множество опасений. На вопрос о том, как в романе 1860-х гг. создавался этот нарратив угрозы, приводивший одновре-менно к эскалации и воображаемому преодолению чувства опасности, и пытается ответить автор статьи.
Бесплатно

