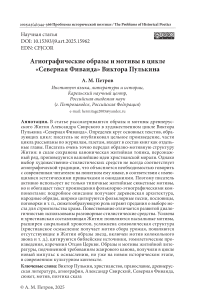Агиографические образы и мотивы в цикле «Северная Фиваида» Виктора Пулькина
Автор: Петров А.М.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются образы и мотивы древнерусского Жития Александра Свирского в художественном цикле Виктора Пулькина «Северная Фиваида». Определен круг основных текстов, образующих цикл: писатель не опубликовал цельное произведение, части цикла рассыпаны по журналам, газетам, входят в состав книг как отдельные главы. Писатель очень точно передал образно-мотивную структуру Жития, в сказе сохранена каноническая житийная топика, персонажный ряд, проповедуются важнейшие идеи христианской морали. Однако выбор художественно-стилистических средств не всегда соответствует агиографической традиции, что объясняется необходимостью говорить с современным читателем на понятном ему языке, в соответствии с имеющимися эстетическими привычками и ожиданиями. Поэтому писатель активно использует не только типичные житийные сюжетные мотивы, но и обогащает текст произведения фольклорно-этнографическими компонентами: подробное описание получают деревенская архитектура, народные обряды, широко цитируются фольклорные песни, пословицы, поговорки и т. п., сюжетообразующую роль играют предания о выборе места для строительства храма. Повествование отличается развитой диалогичностью, использованы разговорные стилистические средства. Усилена и христианская составляющая Жития: появляются пасхальные мотивы, расширен сакральный хронотоп, усложнена символическая структура (христианское осмысление получает мотив сбора урожая, появляются отсутствующие в Житии образы звезд, включен мотив колокольного звона и т. д.), цитируются библейские источники, гомилетические произведения, изречения Отцов Церкви. Образы и мотивы житийной литературы, подчиненной требованиям жанрового канона, получили в цикле новый импульс к осмыслению, но уже на новом историческом этапе, в современном культурном контексте.
Виктор Пулькин, христианство, православие, древнерусская литература, агиография, Александр Свирский, Северная Фиваида, сюжет, мотив, поэтика сказа
Короткий адрес: https://sciup.org/147252390
IDR: 147252390 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15962
Текст научной статьи Агиографические образы и мотивы в цикле «Северная Фиваида» Виктора Пулькина
С овременное литературоведение уделяет существенное внимание проблеме отражения христианских традиций в русской литературе [Захаров, 1994b: 7]. Благодатным материалом для исследований подобного рода являются произведения севернорусских писателей: в частности, современная литература Карелии исторически связана с древнерусской литературой, с новгородским культурным гнездом и книжным центром [Маркова: 13].
Христианские традиции в севернорусской художественной литературе получили новый импульс к жизни в 1990-е гг. Одним из мастеров слова, обратившихся в это время к христианским (православным) мотивам как к источнику для творчества, был петрозаводский писатель, публицист Виктор Иванович Пулькин (1941–2008). Основной жанр, в котором он нашел свое призвание, — сказ ; «творчество В. Пулькина развивалось в пограничной области между литературой и фольклором» [Дюжев, 2005: 207].
Христианские сюжеты в творчестве В. Пулькина возникли в связи с определенным духовным, мировоззренческим, жизненным кризисом конца 1980-х — начала 1990-х гг.: «…принятая в Москве рукопись прозы была возвращена автору в связи с финансовым крахом издательства <…>. В условиях рыночной экономики оказались востребованы лишь сказы об основателе
Петрозаводска Петре Первом» [Дюжев, 2005: 209]. Именно тогда писатель «по просьбе церкви» [Дюжев, 2005: 210] подготовил и опубликовал в журнале «Север» первый цикл произведений под названием «Северная Фиваида»2. Тексты представляли собой литературную обработку агиографических сочинений о святом Александре Свирском и его учениках. Предыстория создания «Северной Фиваиды» изложена писателем в экспозиции первого цикла новелл: на творчество в области православной литературы его вдохновила встреча со священником Михаилом Михайловичем Жаковым, настоятелем церкви Серафима Саровского в г. Пудоже, дальним родственником философа, писателя Каллистрата Жакова3.
Историография цикла
Название «Северная Фиваида» используется довольно широко (см.: [Муравьев], [Федотов: 122]). Этот образ восходит к наименованию одной из областей Древнего Египта, ставшей в свое время «известным местом поселения раннехристианских монахов-отшельников» [Шилова, 2011: 473].
Цикл был задуман В. Пулькиным как своего рода «метатекст», который бы включал небольшие очерки о севернорусских святых, литературные пересказы сюжетов из соловецкого и олонецкого патериков4. Однако только этим материалом он не ограничился — житийные повести были помещены в существенно более широкий культурный контекст:
«Красками, цветами народной фантазии, передающей отношение крестьян к православной вере и святым подвижникам, будущие сказания дополнят фольклорные легенды. Не раз мне доводилось слышать и записывать их на просторах Русского Севера. Православие питают корни глубокие, они в Библии, в трудах Отцов Церкви, в античном наследии, в речениях греческих философов, живших и задолго до Рождества Христова. Огромный пласт культуры накоплен человечеством. И дивно, трогательно перекликается немудрящая крестьянская пословица, поговорка, присловье с мудрой мыслью Пифагора, Менандра, Диогена <…>. Устрашась бездны премудрости, я все же тянулся к этой работе, столь новой для меня — и в то же время служащей продолжению давних поисков. К тому же это повод еще раз — хотя бы мысленно — пройти просторами Русского Севера, проникнуть во глубь прошумевших над моим краем времен»5.
Можно понять трудности, с которыми столкнулся писатель, ориентированный на поэтику севернорусского сказа, на краеведение и фольклор. В то время еще чрезвычайно скудны были источники, к которым он мог обращаться; перо было привычнее к народной речевой стихии, чем к православной, церковной стилистике. Однако смелый творческий эксперимент все же был предпринят. В изложении В. Пулькина агиографические сочинения подверглись беллетризации [Шилова, 2013: 26], «древнерусский агиограф обрел современное звучание и стал частью духовной жизни современников» [Дюжев, 2005: 210].
Опыт создания сказов по мотивам древнерусских житий был продолжен в последующие годы. Важно отметить, что «текстовые границы цикла установить непросто: сказы публиковались <…> в разных периодических изданиях, часто с вариантами» [Шилова, 2011: 473]. Однако «ядро цикла» [Шилова, 2011: 473] выделить все-таки удается: это «около двух десятков сказов, вышедших под заглавием или в рубрике "Северная Фиваида" в журналах "Север", "Журавка", газете "Карелия". Тематически к ним примыкает ряд публикаций, напечатанных под иными заглавиями в журналах "Север", "Слово", "Природа и человек"» [Шилова, 2011: 473]. Основные части «Северной Фиваиды» публиковались в журналах «Север» (1993, № 10; 2008, № 1–2, № 3–4) и «Журавка» (1994, №№ 1, 2).
Несмотря на то, что историография изучения «Северной Фиваиды» не столь велика, некоторые предварительные наблюдения все же были сделаны.
В частности, о месте цикла «Северная Фиваида» в творчестве В. Пулькина, о мотивах, побудивших писателя взяться за перо в непривычной области, о некоторых художественных особенностях и тематике сказов писал Ю. И. Дюжев [Дюжев, 2000: 316–317; 2005]. Литературовед отметил «исключительную бережливость» и «трепетное уважение», с которыми В. Пуль-кин отнесся к первоисточникам [Дюжев, 2000: 316].
Много ценных наблюдений о «Северной Фиваиде» содержится в работах Н. Л. Шиловой. Исследовательница рассмотрела цикл как единую сюжетно-тематическую совокупность произведений; раскрыла принципы совмещения в художественно-эстетическом пространстве «разных смысловых пластов», «стилевых начал» [Шилова, 2011: 473]; выявила некоторые черты поэтики [Шилова, 2013].
Мы предлагаем несколько иной способ исследования цикла. В центре нашего внимания — каждый сказ, каждое звено, образующее «Северную Фиваиду». Поэтому анализу подвергнется только одно произведение: сказ «Венец света» об Александре Свирском, первое издание6. C этого сказа зародилась «Северная Фиваида».
Истоки поэтики и стилистики цикла
В цикле «Северная Фиваида» нет сквозного сюжета, последовательно развивающегося от завязки до развязки. Каждый сказ, конечно, тематически включен в структуру целого и согласуется с общей концепцией цикла, перекликается с другими сказами, но в то же время он относительно автономен, его сюжет замкнут в границах жизнеописания святого.
Цикл содержит множество лирических, философских отступлений, что местами сближает его с высокохудожественной публицистикой. Повествователь не старается развлечь читателя, основное свойство «Северной Фиваиды» — душеполезность . При чтении невозможна спешка; только вдумчивое погружение в текст поможет уловить духовную энергию цикла.
Сам повествователь (рассказчик) предстает как глубоко верующий человек, подчас как проповедник. Однако важно подчеркнуть, что фигуры повествователя и автора биографического совпадают лишь частично. В. Пулькин действительно в трудное для себя время в какой-то степени нашел опору в христианских ценностях, однако на роль проповедника претендовать не дерзал, оставаясь в первую очередь писателем. Поэтому страстные духовные интонации «Северной Фиваиды» принадлежат по большей части рассказчику. Но подчеркнем: во всем, что касалось осмысления христианского историко-культурного опыта и обретения смысла жизни в идеалах мира горнего, сам писатель всегда был искренен и серьезен. Иначе не могло быть. Создание «Северной Фиваиды» содержало и глубоко личный мотив: цикл был посвящен памяти матери писателя — Марии Николаевны Корнеевой.
Прямой источник сказания «Венец света» — житие святого Александра Свирского, известное В. Пулькину по книге «Олонецкий патерик» архимандрита Никодима (Кононова)7 (см. об этом: [Шилова, 2011: 473]). Это конспективное изложение Жития, в котором, например, почти не содержатся описания прижизненных и посмертных чудес, но именно на этот текст ориентировался В. Пулькин, внеся некоторые несущественные изменения в композицию источника.
Вторым источником знаний о святом и его жизни мог стать труд [Яхонтов], в котором приведен подробный текстологический разбор Жития [Яхонтов: 37–87]8.
Однако вполне вероятен и третий источник. В сказе В. Пуль-кина в топосе «предсмертного наставления святого братии» [Руди, 2006: 491] отражен мотив «небрежения к телу» [Руди, 2009: 491]:
«Свяжите тело мое грешное крепко-накрепко, стяните вервием по рукам и н огам. Отволочите в дебрь лесную, в хлябь болотную.
Там, закопавши во мху сыром, затопчите ногами скудель неизбывного греха…» (26).
В издании «Олонецкий патерик» этот мотив отсутствует. Он упомянут в книге [Яхонтов: 74], но имеются издания Жития, в которых этот мотив очень близок к сказу В. Пулькина. Например: «Свяжите тело мое грешное по ногу ужем и совлецыте е в дебрь блата и, покопавше во мху, потопчите ногами своими» [Преподобный Александр Свирский: 188]. Поэтому третьим источником могло стать другое издание Жития. Очевидно, что с какой-то публикацией писатель был знаком — возможно, с тем текстом, который мы только что процитировали (он воспроизводит петербургское издание 1905 г.).
История создания агиографического памятника
Житие Александра Свирского (1448–1533) было написано учеником святого «игуменом Александро-Свирского монастыря Иродионом в 1545 г. по поручению митрополита Макария и новгородского архиепископа Феодосия. Житие сохранилось в большом числе списков (около 400) и известно в нескольких вариантах и редакциях…» [Пигин, 2013: 219–220]. Его создатель игумен «…Иродион был образованным, начитаннейшим человеком» [Соболева: 69].
Композиция Жития соответствует древнерусской литературной топике; оно построено на последовательности мотивов: пренатальные божественные знамения, рождение от благочестивых родителей, мечта о постриге с детства и т. д. [Руди, 2006: 497–499].
Опираясь на эти и другие житийные топосы, представленные в исходном агиографическом сочинении, В. Пулькин создает оригинальный, приближенный к современности текст.
Особенности творческой переработки
С первых же строк произведения читатель погружается в мир фольклора и этнографии: в тексте описывается обряд первого выгона скота, которому предшествует пасхальная литургия9:
«На пасхальной службе Васса не замогла стоять заутреню и опустилась перед святой Тихвинской иконой Божьей Матери на колени, глядя в пресветлый лик, обрамленный багряным омофором с золотой каймой, сквозь слезу радости, упования, ибо была непраздна: ждала дитя, зачатое в любви, вымоленное у Бога. Вот выгнали впервой на бережок родимой Ояти, что впадает в синюю Свирь, пахнущее парным молоком стадо. Хозяйки понесли торжественно, словно свечи, свяченые во храме веточки вербы. И молодой пастух, родом с далекой речки Ваги, вышел в берестяных лапотках-верзнях, с берестяной же трубой и со свежеоструганным рябиновым посохом, весь сияя. Васса и тут, окропив любимую скотинушку водой из медного колокольца, вдруг уронила слезу умиления и радости» (6–7).
Рассказчик перечисляет характерные атрибуты и элементы обряда: ветви вербы (ими выгоняли скот на пастбище) [Плотникова, 1995: 469], окропление стада водой (вода в данном случае «символизирует молоко дойного стада») [Плотникова, 1995: 472]; коровий колокольчик [Логинов: 547]; рябиновый посох : «…ряби-на наряду с сосной и елью устойчиво фигурирует в пастушеских обрядах» [Криничная, 1986: 187]. Особое значение имеет образ берестяной трубы , которая в традиционной культуре была наделена магическими свойствами [Логинов: 549], одна из ее функций — «ограждение скота от всевозможной "нечисти"» [Криничная, 1986: 186].
житийным хронотопом: Пасха приходится на время, предшествующее появлению Амоса на свет. Это обстоятельство позволило писателю усилить православное звучание сказа. Но это и дань историческим традициям русской литературы, в которой пасхальный хронотоп всегда играл выдающуюся роль [Захаров, 1994а]. Интересно, что в разных источниках указывается разный год рождения Александра Свирского: 1449 г. в изданиях: ( Олонецкий патерик : 46), Новый Олонецкий патерик (см.: Новый Олонецкий патерик. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. С. 224). Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения Новый Олонецкий патерик и указанием страницы в круглых скобках; 1448 г. — в публикациях справочного характера: [Дмитриев: 20], [Макарий (Веретенников), архим., Журавлева, Полякова: 536], [Пигин, 2010: 93]. В «Венце света» В. Пулькин использует дату не из Олонецкого патерика, а из справочной литературы: 15 июня 1448 г. (7). В переработанном варианте из сборника «Кленовое кантеле» содержится опечатка: 15 июля 1448 г (см.: Пулькин В. И. Кленовое кантеле. Сказания о пришедших издалека. Петрозаводск: Карелия, 2008. С. 61).
Соотнесение обряда первого выгона скота с Пасхой не совсем обычно: общепринятой датой считается все же Егорьев день, даже в северных краях. При слишком холодной погоде выпуск мог носить чисто символический характер, так как «настоящий первый выгон коров производился тогда, когда корова могла захватить траву языком» [Логинов: 547]. Вероятнее всего, В. Пулькин ориентировался на данные по русской этнографии, но аналогичные традиции зафиксированы и у вепсов [Винокурова]; указать на это обстоятельство необходимо, поскольку действие происходит на берегу р. Оять, т. е. на одной из территорий исторического расселения вепсов [Муллонен: 307]10. К Пасхе выгон скота был приурочен реже, хотя такие свидетельства тоже имеются [Плотникова, 2002: 98].
Отметим христианско-православную тему слезного умиления : Васса постоянно заливается слезами умиления и радости. «Слезная» тематика поддержана и образным параллелизмом слеза–дождь :
«А потом набежала малая, но бойкая, как молодайка на торгу, тучка, и внезапно, словно рассмеявшись, прыснула скорым, звонким ливнем, насквозь пронизанным солнышком, его теплом и светом. Светилось оно во всякой капле, и жило, ликовало» (7).
О таком дожде говорят: «царевна плачет» (7). Этот образ мог быть знаком писателю по очерку К. Г. Паустовского «Язык и природа»:
«О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: "Царевна плачет". Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слезы. А кому же и плакать такими сияющими сле зами горя ил и радости, как не сказочной красавице царевне!»11.
«И услышав знаемое присловье о дожде, пронизанном солнцем, опять прослезилась Васса…» (7).
Описание дождя сопровождается цитированием фольклорной детской заклички: «Дождик, дождик, пуще! // Будет хлеба гуще! // Дождик, дождик, перестань! // Я пойду на Иордан, // Богу молиться, // Христу поклониться!» (7). Подобные тексты были опубликованы в сборнике русского детского фольклора Карелии [Русский детский фольклор: 92–94] незадолго до создания «Северной Фиваиды». Имеется образец стиха с почти дословным совпадением: «Дождик-дождик, перестань! // Я поеду на Ердань // Богу молиться, // Христу поклониться» [Русский детский фольклор: 92].
В сказе картина дождя, идущего при солнце, становится знамением богоизбранности Амоса; Стефан говорит Вассе:
«Не иначе — святого родишь, женка» (7).
Мотив знамения усилен христианской символикой белого цвета как цвета святости и духовной чистоты:
«И пречисто было цветение белой черемухи, белых ландышей, потом — белых цветов лесной, укромно живущей земляники» (7).
Сближение агиографического источника с бытовыми реалиями Русского Севера хорошо заметно и по множеству прочих признаков.
Подробно описывается жилище:
«Светилась свежесрубленная сосновая плоть горенки. Трепетала под напористым речным ветром слюдяная околенка» (8).
Отражены крестьянские сельскохозяйственные, промысловые занятия:
«Амос был еще подростком, когда на дальнюю лесную пожню, где он вместе с родителями своими, Стефаном и Вассой, сено косил и метал стога, пришли, свернув с тракта, три монаха» (9); «Догорал август — конец уборочных работ. Миновал третий — Хлебный! — Спас. В деревне солили огурцы, а кое-кто и поспешал квасить капусту» (25).
Последний пример относится к топосу «предсмертного наставления святого братии» [Руди, 2006: 499]. В сказе этот топос орнаментирован цитатой из народной песни: «Растворю я квашонку на донышке, // Я покрою квашонку черным соболем, // Опояшу я квашонку чистым золотом…» (25). Эта песня неоднократно публиковалась в разных источниках12.
Время отхода святого в мир иной — это время сбора урожая. Повествователь вновь, как и в начальном эпизоде празднования Пасхи, сопрягает события жизни святого с годовым циклом. В финальной сцене, когда Александр Свирский собирает вокруг себя множество учеников, угадывается важная для рассказчика мысль: святой оставил на земле «плоды добрые».
В «Венце света» нашли применение и обширные познания писателя в области севернорусской деревянной архитектуры. Описывая строительство храма, рассказчик уделяет внимание каждой детали:
«Юноши творили людям всякую помощь — в бору, куда ездили за мхом для конопачения стен меж венцов, и на срубе, когда вздымали матерую матицу, балку; и мастеру, вырезающему узоры-прибасенки для очелий, коневого бревна или наличников, просветляли разум скоропослушные зову святые ангелы <…>. Стены-посомки вывели и шатер срубили. И луковички покрыли лемехом. И очелье изузорили» (17).
Мотив воздвижения храма — один из значимых в творчестве В. Пулькина [Петров, 2023: 56]. Однако этот христианский мотив в «Северной Фиваиде» подвергается фольклорной кон-текстуализации. Рассказчиком использованы народные предания о выборе места для строительства сакрального объекта. В Житии Александра Свирского эти предания не отражены, это индивидуальное привнесение.
Мотив выбора места структурирован в соответствии с фольклорным принципом троичности: «мужики с ближних деревень», «сплавщики-плотогоны» и «бабы-портомойницы» дают «отцам-инока м» три разных совета:
-
1) «Надо привязать в постромки неезженному коню бревно, приуготовленное для рубки первого венца. Да и пустить лошадь на волю. И где остановится конь, там и будет храм» (17),
-
2) «…лес, сплоченный в плоты, да будет пущен на волю волн. И где пристанет, там рубить» (18),
-
3) «Нет вернее обычая: обрящется икона где ни на есть под кустышком — на том месте становят храм» (18).
Предания подобного типа были распространены на Русском Севере и записывались самим В. Пулькиным и Н. А. Криничной в фольклорных экспедициях. Они были опубликованы в сборнике [Криничная, 1991: 39–47]. Разновидности мотива выбора места для сооружения культового объекта подробно описаны в работе Н. А. Криничной о народной исторической прозе [Криничная, 1987: 43–53]. Исследовательница указывает на архаичность этого мотива и приводит соответствующие параллели из древнеисландской саги, античных и библейских источников и т. д.
Текст «Венца света» отличает развитая диалогичность, время от времени в сказе вспыхивают искорки незатейливого юмора, появляются шутливые интонации, что несовместимо со стилистикой агиографического канона:
«Ну, что глядишь, парень, как гусь на зарево! <…> Собирайся, поедем домой. Скоро осенины, а девки выросли ныне ядрены и у нас, в русских деревнях, и на чудской стороне Ояти. За тебя пойдет любая. Клобук-то, поди, не гвоздем прибит» (12).
Разного рода присловья, пословицы и поговорки вовсе не призваны искусственно снизить стиль Жития, десакрализировать книжный источник. Их роль заключена в другом: они вводят севернорусскую речь в мировой культурный контекст. Для повествователя очень важна мысль о смысловых перекличках, пересечениях народных выражений с древней премудростью, освященной авторитетом античных и христианских авторов. Об этом прямо говорится в одном из философских отступлений:
«Святой Василий многомудрый и славный, что жил в Цареграде за тысячу лет до нас, рек, звеня медью литых словес: "За факелом приходит свет, за миррой благоухание. Благочестие же рождает добрые дела"13. А дедушко-пастух на Ояти скажет просто, но то же самое: "Честь ум рождает, бесчестье последний отнимает". Аристотель написал: "Бог может сотворить, что захочет. Из людей же воистину хорош тот, кто приносит зримую пользу и просвеще-ние"14. Крестьянский философ-пахарь вторит ему со всегдашней кратостью, суровой и ладной, как рубка углов избы: "Бог творит что хочет, а человек — что может". И таких примеров, убеждался калугер, тьма тем. Мудрость вечна и разлита широко» (13).
Однако было бы заблуждением думать, что агиографический источник растворен в фольклоре и этнографии. Напротив, христианская составляющая в рассказе даже усилена.
В «Венце света» воспроизведен известный житийный топос: «отрок, будущий святой, с самого детства мечтает о постриге, будучи объят божественной любовью» [Руди, 2006: 439]. Согласно Житию, учение плохо давалось юному Амосу, поэтому «опечаленный отрок обратился с молитвою к Божией Матери о просвещении ума и очей сердечных, чтобы "разумети учение божественного писания", и благодать Божия осенила его, так что он стал учиться лучше своих товарищей» ( Олонецкий патерик : 46–47). После этого Амос решил посвятить себя Богу, «ел один хлеб и то «не до сытости», спал мало» ( Олонецкий патерик : 47).
Эта схема точно передана В. Пулькиным, однако в сказе воссозданы образы и мотивы, которые лишь контурно обозначены или вовсе отсутствуют в Житии. В частности, расширено историко-культурное пространство: в сцене обучения цитируется Книга пророка Амоса (Ам. 7: 14; 8: 11–13), чье имя по святцам при крещении получил будущий святой. Юный Амос «питал свою душу высоким примером ветхозаветного провидца» (8). Здесь автор, хотя и добавляет новую деталь в повествование, в сущности все же следует житийному канону: ориентация на образцы (imitatio) — один из важных принципов агиографической топики [Руди, 2005: 62].
Переосмыслен эпизод пребывания святого в пýстыни. Согласно Житию, «врагу рода человеческого неприятны были такие подвиги преподобного; диавол сначала хотел устрашить зверями и змеями, а потом явилось целое воинство бесов, которые хотели прогнать подвижника с этого места; но молитва святого прогнала их самих» ( Олонецкий патерик : 49). Ср.: «…когда зверь свирепый нападал на него с рычанием, он молитвой его отражал <…>» ( Новый Олонецкий патерик : 241).
В «Венце света» эпизод решен в совершенно ином ключе:
«И к той же криничке, которую святой обнес осиновым срубцем, ходили на водопой дикие звери. Раньше иных, на исходе ночи — медведь старый, седой. Потом — лоси, кабаны, иные. И преподобный никого не спугнет, не изобидит. Звери его знают: горбушку хлеба с ладони брали. А коли хлеба нет, так хоть кисточку ягоды брусники сорвет отец Александр, почествует зверя, Божью тварь. Приветит Господним именем зайчика и беленького горностай-ку. И тварь несмысленная просветится любовью, восчувствует Бога» (16).
Кормление диких животных (леопарда, льва, медведя, волка, горностая и т. д.), ведущих себя как ручные, — распространенный мотив в агиографии [Буфеев: 38–44]. Писатель мог позаимствовать его из любого другого житийного текста (о Сергии Радонежском, Серафиме Саровском и др.). В. Пулькину такое художественное решение могло показаться более привлекательным по разным причинам, но предположим, что решающую роль сыграло наполнение эпизода значимой для писателя высокой этикой спасительной, всеобъемлющей христианской любви.
Важное свойство поэтики «Венца света» — расширение, в сравнении с Житием, сакрального пространства. Юному Амосу грезятся православные святыни, киновии Цареграда, Киева, Новгорода, остров Валаам (9). Здесь же повествователь упоминает патерики; «Лавсаик» Палладия, епископа Еленополь-ского; сочинение «Луг духовный» блаженного Иоанна Мосха.
Рассказчик прибегает к обильному цитированию творений пророков, апостолов, богословов, Отцов Церкви. В сцене прихода Александра в пýстынь цитируется покаянный стих «Приими мя пустыня…», освоенный русской фольклорной традицией и бытовавший в виде многочисленных вариантов духовного стиха о царевиче Иоасафе [Петров, 2021]. В обработке В. Пулькина эта инициальная формула стиха вложена в уста Александра:
«И склонился инок в великой радости: "Прими меня, мати прекрасная, пресветлая пустынь"» (15).
Рассуждая о значении молитвы в жизни верующего, повествователь вспоминает слова египетского пустынника Аввы Агафона:
«…нет более трудного дела, чем истинная молитва» (19).
Христианское звучание сказа усилено и благодаря использованию некоторых символических образов. В момент прощания Александра с отцом, когда выбор сделан, раздается звон колоколов , знаменующий торжественность сцены, обозначающий Божественное присутствие:
«Звонили <…> колокола на звонницах и колокольнях больших и малых, на большом отоке и на малых островах» (13).
В начале избранного пути Александр говорит: «Ныне это — моя страда, моя жнива» (13), что перекликается с уже упомянутой финальной сценой упокоения святого, с символикой возделываемого поля и собираемого урожая.
Символ Божественного знамения — яркая звезда , загоревшаяся на небе «в зените среди бела дня» (15). В этот момент открывается предназначение Александра на земле:
«"Александр!" — тихо позвал Господь. — Приуготовил аз тебе множество людей, коих ты будешь водитель ко спасению. Смотри, не отринь — сколько бы ни было их, чающих Царства Небесного» (15).
Очевидны ассоциации с Вифлеемской звездой. В Житии они отсутствуют. Образ звезды очень важен в поэтике сказа:
«Медленно кружился перед глазами юноши Амоса звездный купол мироздания. Срывались с него и упадали, сгорая, звезды…» (9),
«Ночами он молился под частыми звездами…» (13), «Следующую и еще несколько ночей Александр не спал, проведя их в горячей молитве, по обычаю своему — на берегу озера, под звездным небом. Был август. Небо сияло светилами, а озеро горело их отражениями» (14).
Сам Александр уподоблен звезде (13). Звездное сияние символизирует святость, вместе с тем это и символ красоты, цельности, бесконечности Божьего мироздания: вспомним описание звезд, отраженных в озере, картину слияния миров дольнего и горнего в пространстве вечности. Звезда является Александру и как святое знамение, обетование Божие.
***
Житийные образы и мотивы в сказе Виктора Пулькина «Венец света» из цикла «Северная Фиваида» располагаются в русле агиографического канона. Автору удалось познакомить читателей с содержанием важнейших христианских текстов, с миром древнерусской книжной культуры, пусть это и потребовало поиска новой художественной формы, соответствующей эстетическим привычкам и ожиданиям современников.
Виктор Пулькин, сохранив сюжетную канву, топику Жития, соединил в одном произведении фольклорно-этнографические и христианские традиции. Писатель очень ответственно подошел к делу. Текст «Венца света» плотно насыщен культурноисторической информацией: это своего рода художественная вселенная в миниатюре, сложный лабиринт имен, цитат, аллюзий, реминисценций и т. п.
Изменения, в сравнении с Житием, претерпел и стиль: рассказ изобилует пейзажными зарисовками, диалогами, авторскими отступлениями; агиографические интонации сближаются с интонациями разговорной речи, широко используются пословицы, поговорки, приметы. Все это, по мысли писателя, должно было «оживить» повествование, сблизить героев с читателями, при этом сохранив серьезность, торжественность звучания Жития. Художественно-стилистические средства, характерные для поэтики севернорусского сказа, использованы для бережной передачи важнейших идей агиографического текста.
Образы и мотивы житийной литературы получили новый импульс к осмыслению — уже на новом историческом этапе, в современном культурном контексте.