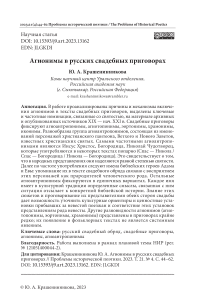Агионимы в русских свадебных приговорах
Автор: Крашенинникова Ю.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В работе проанализированы причины и механизмы включения агионимов в тексты свадебных приговоров, выделены ключевые и частотные номинации, связанные со святостью, на материале архивных и опубликованных источников XIX - нач. XXI в. Свадебные приговоры фиксируют агиоантропонимы, агиотопонимы, эортонимы, храмонимы, иконимы. Разнообразна группа агиоантропонимов, состоящая из именований персонажей христианского пантеона, Ветхого и Нового Заветов, известных христианских святых. Самыми частотными агиоантропонимами являются Иисус Христос, Богородица, Николай Чудотворец, которые употребляются в некоторых текстах попарно (Спас - Никола / Спас - Богородица / Никола - Богородица). Это свидетельствует о том, что в народных представлениях они наделяются равной степенью святости. Далее по частоте употребления следуют имена библейских героев Адама и Евы: упоминание их в тексте свадебного обряда связано с восприятием этих персонажей как прародителей человеческого рода. Остальные агиоантропонимы фиксируются в единичных вариантах. Каждое имя имеет в культурной традиции определенные смыслы, связанная с ним ситуация отсылает к конкретной библейской истории. Знание этих сюжетов и проговаривание их представителями обеих сторон свадьбы дает возможность уточнить культурные ориентиры и ценностные установки прибывших за невестой поезжан и соответствие этих установок представлениям рода невесты. Другие разновидности агионимов (агиотопонимы, эортонимы, храмонимы) представлены в приговорах крайне редко; их появление в фольклорных текстах не является системным явлением.
Русский свадебный обряд, свадебные приговоры, агионимы, агиоантропонимы
Короткий адрес: https://sciup.org/147242343
IDR: 147242343 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.13162
Текст научной статьи Агионимы в русских свадебных приговорах
С вадебные приговоры — тексты русского свадебного обряда, которые регулируют «движение» ритуала, организуют и комментируют действия персонажей. В числе жанровых разновидностей — приговоры и диалоги сватов, дружек (представителей жениха), подруг невесты, приглашенных гостей, зрителей ритуала.
Изучение ономастической лексики предпринималось на материале разных фольклорных жанров. Так, сделаны наблюдения корпуса имен русских заговоров [Юдин, 1997], восточнославянских загадок [Юдин, 2007] и др. Объектом исследовательского анализа становятся также отдельные собрания текстов. Имена христианских персонажей, героев Нового и Ветхого Заветов и их место в антропонимическом пространстве «Олонецкого сборника заговоров XVII века» рассмотрены А. Л. Топорковым [Топорков], анализ библейского ономасти-кона в тексте «Лествицы» Иоанна Синайского сделан Т. Г. Поповой [Попова].
Вопрос об исследовании онимов в русских свадебных приговорах ранее не ставился. Первые подступы к теме показывают, что этот жанр включает антропонимы (имя, отчество, фамилия, прозвище, кличка), топонимы (названия поселений, местечек, рек, озер, стран, регионов, губерний, и проч.), агио-нимы, хрононимы. Настоящая работа посвящена агиони-мам — номинациям имен собственных, связанных со святостью [Бугаева]. Согласно И. В. Бугаевой, в сложную систему агионимов «входят агиоантропонимы (собственно имена святых), агиотопонимы, эортонимы (название церковных праздников), храмонимы (название храмов и монастырей), икони-мы (наименование икон), которые составляют ономастическое пространство, объединенное значением святости» [Бугаева]. Материалом для наблюдений послужили опубликованные, архивные и экспедиционные материалы XIX — нач. XXI вв.
Самыми частотными агиоантропонимами являются Иисус Христос, Спас, Богородица. Именование Спас встречается по преимуществу в записях XIX — нач. XX в., редко сопровождается эпитетом, в нашем корпусе текстов зафиксировано три таких случая: Чюдной Спас ( Гладких : 56, Красноуфимский у.
Пермской губ.), Спас Всемилосливый 1, Спас Святитель 2. В единичной записи из Крестецкого уезда Новгородской губернии 1882 г. отмечена номинация Господь Бог Савалоф 3 (sic!). Чаще имя Иисуса Христа упоминается в молитвенном обращении «Господи Иисусе Христе, Боже наш…» и его вариантах, которое представляет собой инципитную формулу и выполняет функцию зачина во многих приговорах, особенно тех, в которых персонаж просит благословения на выполнение каких-либо действий.
Вторым частотным агионимом является имя Богородицы (вар.: Пре(и)святая Богородица4, мать Божья Богородица, мать Пресвятая Богородица, Пречистая Богородица). Оно зафиксировано в текстах, которые произносились при подъеме на крыльцо и входе в дом невесты, в ритуальных обращениях дружки к присутствующим (при дарении или угощении).
Богородица часто упоминается вместе со св. Николаем или Спасом. Так, комментируя подъем по ступеням на крыльцо («Пошла дружка княжая // <…> // Со крылечка красивова на моста на калиновыё, переводы малиновыё»), дружка говорит, что «На мостах калиновых, переводах малиновых стоит Спас, Пресвята Богородица»5. Этот фрагмент отсылает к стилистике заговорно-заклинательных текстов, которые описывают путь героя к мифологическому центру и его встречу с представителем сакрального пространства или, как пишет С. Г. Шиндин, «конечной инстанцией» — Богородицей и/или Христом [Шиндин: 121].
В записях из Нижегородской и Костромской губерний процедура дарения или угощения начиналась формульным приглашением, в котором упоминались Богородица и св. Никола: «У великого Николы канун пей, у пресвятой Богородицы хлеб кушай, от молодой княгини бери дары, люби да жалуй»6. Б. А. Успенский сопоставляет это приглашение со свадебным обычаем великорусов давать невесте икону Богородицы, жениху — икону Николы или Спасителя [Успенский: 74], а также находит соответствие ему в карпатском свадебном ритуале, где Никола и Богоматерь представлены живыми людьми — отцом и матерью жениха, перед которыми он встает «как перед святым Николаем и <…> как перед Богородицей» [Успенский: 74–75].
Еще один устойчивый прием — метонимическая замена: под именами Богородицы, Спаса Всемилосливого подразумеваются иконы, и примеров таких иконимов в материалах разных территорий много: «(дружка спрашивает у родителей невесты. — Ю. К. ) — Чем вы свое дитя наделяете? // — Матерью Пресвятой Богородицей» ( Александров : 69); «(обращается к родителям. — Ю. К .) …бери жо ты Спаса Всемилосливова, Присвятую Богородичю и затоплей жо ты свицю воскоярую, бласловлей жо ты своево чада милова»7 и др.
Из православных святых чаще всего упоминается Николай Чудотворец (вар.: Никола(й) Угодник, Никола8, Микола, Микола угодник), в некоторых случаях имя сопровождается адъектива-ми великий, милосливой .
Общим местом записей преимущественно костромской традиции является лаконичный диалог, произносящийся при входе в дом невесты сватом или дружкой, с одной стороны, и представителями невесты — с другой. На вопрос дружки, свата «Кто в доме большой?» представитель невесты отвечает: «Микола угодник, а потом хозяин с хозяйкой» ( Мыльникова, Цинциус : 97), «Бог (или)9 Никола угодник»10. В диалоге Николай Чудотворец получает характеристику главного, старшего по положению , выдающегося, значительного (см.: Ефремова ).
В записях последней трети XX в. адъектив большой информанты заменяют лексемой хозяин , в числе значений которой владелец, полновластный распорядитель, глава дома и др. ( Ожегов : 752):
«Сваты: Кто в дому хозяин?
Мать невесты: Марфа Ивановна.
Отец невесты: Никола Угодник»11 и др.
Вариант диалога «Кто в доме начал? — Спас да Никола»12 сообщает дополнительные характеристики св. Николе ( см.: Начало — основа, сущность ( Ефремова ), «первый источник или причина бытия; сила рождающая, производящая, создающая» ( Даль, 1995 : 494) ) . В записи 1929 г. из Галичского уезда Костромской губернии в ответе перечисляются «Спас, Пресвятая Богородица»13. Употребление в некоторых текстах именований попарно (Спас — Никола, Спас — Богородица, Никола — Богородица) свидетельствует о том, что в народных представлениях они наделяются сходной степенью святости14.
В связи с Николаем Чудотворцем внимания заслуживает весьма редкий для свадебных приговоров сюжет встречи поезжан в дороге с чудесным помощником 15, получивший развитие в записях второй половины XX в. из вилегодской локальной традиции ( Крашенинникова : 63, 67, 72, 78, 101). По сюжету поезжане, следуя в деревню к невесте, на перекрестке (вар.: «росстань», «чистое поле») встречают дерево, на котором находится икона или сидит чудесный помощник, благословляющий и указывающий дорогу к дому невесты:
«Мы ехали да гнали,
С горы на гору наши кони скакали,
Доехали до росстаней, Тут наши кони стали.
На тех росстанях стоит дряво зелено-кудряво, На том дряве сидит Николай Угодник.
Мы ему помолились, покрестились, На путь-дорогу попросились.
Он нас направил на путь-дорогу»16.
В записях 1950–1970-х гг. у дерева отсутствуют дополнительные характеристики (например, порода), есть указание, что на нем находится «святая икона Николай Чудотворец». В записях 1980–1990-х гг. образ дерева конкретизируется («дерево-кыпарис», «купористое дерево», «дряво зелено-кудряво»), на нем сидит святой — Николай Чудотворец или Пресвятая Богородица, указывающие дорогу к дому невесты. Появление в репертуаре дружек приговоров, содержащих мифологический сюжет, сопоставимо с деятельностью колядовщиков ([Островский: 21], цит. по: [Самоделова: 37]); это суждение находит правомерным Е. А. Самоделова [Самоделова: 37]. Однако приговоры с описанием встречи поезжан в дороге с чудесным помощником содержательно ближе к заговорам, в которых реализуется идея посещения потустороннего мира, контакта с его представителем и возвращения в более высоком статусе (об этом: Шиндин: 109]. Эта идея определяет выбор образов — элементы ландшафта, дендросимволы, образы чудесных помощников, большинство из которых в традиционных представлениях маркированы. Так, росстань в севернорусской религиозно-мифологической топографии обладала ярко выраженными маргинальными свойствами, в народных представлениях была связана с выбором жизненного пути, судьбы [Теребихин: 60]. Дополнительные признаки дерева — «зеленокудряво», уточнение породы (кипарис, т. е. «вечнозеленое») — позволяют охарактеризовать его как живое (противоп. сухое, безжизненное, мертвое). Сидящий чудесный помощник (неслучаен образ Николая Чудотворца, часто встречающийся в заговорах и традиционных напутствиях при отправлении в дорогу17) указывает свадебному поезду дорогу, другими словами, предсказывает жениху его судьбу, что актуализируется в финальной фразе цитированного выше текста: «Мы ему (Николаю Угоднику. — Ю. К.) помолились, покрестились, // На путь-дорогу попросились. // Он нас направил на путь-дорогу»18.
Свадебный диалог отца невесты и дружки (naitaa), записанный в 1989 г. в Бокситогорском районе Ленинградской области от вепсской исполнительницы, также отсылает к заговорам, в которых актуализируется идея замыкания пространства вокруг заговаривающего с помощью святых помощников:
« Отец невесты спрашивает :
— Павел Иванович, далёче ль путь держишь?
N. — Мы богосужены, мы богоряжеными.
О. н. — А кто у вас передóм?
N. — Сам Сус Христос!
О. н. — А п о зади?
N. — Мать Пресвятая Богородица!
О. н. — По правой стороне?
N. — Егорей на свету храбром!
О. н. — По левой?
N. — Никола милосливой!» [Лапин: 267].
Модель с элементом ограждения пространства встречается в заговорно-заклинательных текстах, которые произносились перед отправлением в дорогу или в обрядах лечения некоторых заболеваний19.
Остальные агиоантропонимы упоминаются в приговорах гораздо реже (1–2 раза). Однако это самая интересная группа. В ней встречаются наименования персонажей Ветхого и Нового Заветов, христианских святых, мучеников (имена прародителей человеческого рода Адама и Евы, архангелов Михаила и Гавриила, царя Давида, Лазаря, пророка Ильи, персонажа Пятикнижия Иосифа, св. мученика Кирика). Практически все имена появляются в диалогах, которые произносились представителями обеих сторон на свадьбе у закрытых дверей дома невесты или внутри при выкупе места для жениха, — кульминационных моментах ритуала. Со стороны невесты дружке задавались вопросы и загадки, последний отвечал на них. Эти вопросы-ответы связаны в том числе с житийными повествованиями, сюжетами Ветхого и Нового Заветов. Правильные ответы дружки давали возможность определить уровень знания христианской истории и конфессиональную принадлежность прибывших. Загадывание предполагало получение единственно верного ответа на вопрос. В подтверждение приведем фрагмент комментария к диалогу, записанному на Нижней Вычегде в 1920 г.: «Дружке задавали, по Разманову (фамилия собирателя. — Ю. К.), обычно такие вопросы, и так бы [он] должен был на них отвечать»20.
Некоторые вопросно-ответные пары отсылают к определенным библейским сюжетам Ветхого или Нового Завета, представляя собой его квинтэссенцию (см. об этом приеме на материале загадки: [Цивьян: 189]). Так, Архангел Гавриил («— Кто назвал Христа Иисусом? — Ангел по имени Гавриил»21), согласно Евангелию от Луки, возвестил Деве Марии благую весть о рождении Иисуса Христа («…зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь ему имя: Иисус», Лк. 1:28–33). Загадка о св. Лазаре («— Кто одинове (т. е. один раз. — Ю. К .) родился, а два раза умирал? — Ответ: Лазарь»22) отсылает к повествованию из Евангелия от Иоанна, посвященному событиям воскрешения Лазаря (Ин. 11:1–53). В вопросно-ответной паре «— Кто был взят на небо живым? — Пророк Илья…»23 речь идет о ветхозаветном персонаже св. пророке Илье, который, согласно славянским народным легендам, опирающимся на книжную традицию, был взят на не бо живым [Белова: 405].
Имена прародителей рода человеческого Адама (вар.: Адам-глава) и Евы (вар.: Ева-матушка) зафиксированы четыре и два раза соответственно. Парой они упоминаются в двух случаях. Во-первых, в диалоге, записанном в Вологодской губернии в 1920 г.24, у дружки спрашивают имена «первого человека» (Адам-глава) и «первой женщины» (Ева-матушка). Во-вторых, имена Адама, Евы и Господа Бога Савалофа отмечены в тексте из Крестецкого уезда Новгородской губернии, который произносился в доме жениха перед выездом за невестой. Посредством этого приговора дружка получал благословение жениху от родителей и присутствующих гостей. В зачине приговора — обращение к ветхозаветному апокрифу «Сказание о сотворении Богом Адама», повествующему библейскую историю сотворения Богом первого человека. Согласно сказанию, Бог создал человека из явлений и предметов окружающей природы (земля, камень, море, солнце, облако, свет, ветер, огонь). В приговоре источниками частей человеческого организма становятся черная грязь, камень, бел кочан, капустный лист, чистая пенька, текучая вода, ясный месяц, святой Дух, ветер. Ср.:
«[Сотворил Господь человека так]: «Зародил Господь Бог Савалоф двух 1) из земли — тело, 2) из камня — кос- шлеф(?) человеческих — Адам и Еву. ти, 3) из моря — кровь, 4) из солнца — Пошла от них крестьянска плоть, от очи, 5) из облака — мысли, 6) из света — черной грязи — тело, от камня — кость, свет, 7) из ветра — дыхание, 8) из огня — от бела кочана — буйна голова, от капу-теплоту» (Сказание). стнаго листа — уши, от чистой пень ки — суставы, кость, от текучей воды — горяча кровь, от яснаго месяца — очи в[о] лбу, от св[ятого] Духа — душа, от ветра — ум!»25.
В-третьих, имя Адама является отгадкой на загадку «Кто не рожден, а умер?»26, которая содержательно близка фрагмен ту апокрифа « Беседа трех святителей». Ср.:
«Кто не рожден умер, а рожден не умер и умер, а не истлел? — Не рожден умер Адам, а рожден не умер Илия-пророк, взят был на небо…» ( Голубиная книга : 193–194).
В-четвертых, имя Адама наравне с именами ветхозаветного святого пророка Ильи, персонажа Пятикнижия Иосифа, св. мученика Кирика упоминается в загадке об изготовлении горшка, на которую должен был ответить дружка при выкупе места для жениха:
« Вышел из земли, как Адам; взведен на колесницу, как Илья; посажен в огонь, как Кирик; вышел из огня, как Иосиф; кто увидит, всяк к себе в дом берет? » ( Дерунов : 123).
В этой загадке «сконцентрировано» несколько отсылающих к христианской истории сюжетов, сжатых до размеров формулы [Цивьян: 189]. Все они «работают» на идею метафорического описания процесса изготовления предмета (горшка), одной из стадий которого является обжигание, т. е. связь с огнем. Так, по народным представлениям, Илья-пророк ездит по небу на огненной колеснице, запряженной огненными конями [Белова: 405], мученики Кирик и Улита были подвергнуты мучению на костре и варению в котлах с раскаленным оловом [Корюнкова: 290, 292]. Согласно тексту жития, преподобный Иосиф Песнописец во время пребывания в тюрьме удостоился видения святителя Николая Мирликийского, который помог Иосифу выйти из тюрьмы и обрести свободу27. Другими словами, подобно преподобному Иосифу, освободившемуся чудесным образом из тюрьмы, горшок «выходит из огня» целым и невредимым.
Единичны упоминания храмонимов. Так, по нашему предположению, в записи из Олонецкой губернии зафиксировано название храма Рождества Христова: «Ехали мы с Рождества Христова // И до города Ростова» ( Колобов : 57). В вологодской публикации упоминается, по всей видимости, храм Благовещения Господня. Дружка говорит: «Ехать нам в Божью церковь, // К Благовещенью Господню…» ( Александров : 64).
В нижневычегодском диалоге на вопрос о месте венчания царя дружка отвечает: «В Москве, в Успенском соборе»28.
Названия церковных праздников (эортонимы) в приговорах также явление редкое. Так, в диалоге представителей невесты и жениха, записанном в 1926 г. в Грязовецком уезде Вологодской губернии, загадка об осле, носившем в вербное воскресенье на себе Бога («— Кто родился, не крестился, а на себе бога носил? — Ответ: Осел в вербное воскресенье»29), отсылает к христианскому празднику Входа Господня в Иерусалим в шестое воскресенье Великого Поста: согласно Евангелию от Матфея, Иисус въезжает в Иерусалим верхом на осле (Мф. 21:1–9).
Из агиотопонимов упоминаются гора Фавор, Иордан вода, Сионские горы, город Иерусалим (вар.: Ерусалим), т. е. объекты, связанные с событиями Священной истории. Два текста из нижневычегодского диалога содержательно близки духовному стиху «Голубиная книга», заключающему и транслирующему сведения об устройстве мира и его «основных природных и социальных объектах с выяснением первых элементов в каждом классе этих объектов» [Топоров, 2010: 131]. Вопросы строятся как «"тавтологизирующе-мультипликативная" игра» (термин В. Н. Топорова) [Топоров, 1994: 51]:
«— Какая гора над горами гора?
— Гора Фавор.
— Какая вода над водами вода?
— Иордан вода»30.
Сионские горы в костромском приговоре имеют особое значение. Они представляют собой «конечную точку» путе шествия поез жан, маркируют местонахождение невесты31
(ср. сказочный сюжет, в котором описывается трудный, с препятствиями, путь героя к невесте):
«Поедет ваш сын чистыми полями, быстрыми реками, темными лесами, черными грязями, уездными городами. Приедет ваш сын к сионским горам; на этих сионских горах стоит высок нов терем. В этом терему сидит красна девица, шьет она, вышивает белые полотна; ждет, поджидает к себе доброго молодца…» ( Поспелов : 132–133).
В связи с невестой упоминается и город Иерусалим. По возвращении из церкви дружка рассказывает («отдает отчет») о состоявшемся путешествии свадебного поезда; в этом фрагменте Иерусалим выступает как место инициации невесты: «… И поехали мы в город Ерусалим. // В городе Ерусалиме эту красну деви цу // Сделали молодой молодицой»32.
Таким образом, в свадебных приговорах зафиксированы агиоантропонимы, агиотопонимы, эортонимы, храмонимы, иконимы. Группа антропонимов состоит из именований персонажей христианского пантеона, Ветхого и Нового Заветов, известных христианских святых. Частотными в этой группе являются Иисус Христос, Богородица, Николай Чудотворец: употребление их в некоторых текстах попарно (Спас — Никола / Спас — Богородица / Никола — Богородица) свидетельствует о том, что в народных представлениях они обладают равной степенью святости. Далее по частоте встречаемости следуют имена библейских героев Адама и Евы: упоминание их в тексте свадебного обряда связано с восприятием этих персонажей как прародителей человеческого рода, «перволюдей». Остальные агиоантропонимы фиксируются в единичных вариантах: каждое имя имеет в библейской культурной традиции определенные смыслы, связанная с ним ситуация отсылает к конкретной библейской истории. Знание этих сюжетов и проговаривание их представителями обеих сторон свадьбы дает возможность уточнить культурные ориентиры и ценностные установки прибывших за невестой поезжан, а также близость этих установок представлениям рода невесты. Другие разновидности агионимов (агиотопонимы, эортонимы, храмони-мы) представлены в приговорах крайне редко, поэтому их появление в фольклорных текстах нельзя назвать системным явлением.
Список литературы Агионимы в русских свадебных приговорах
- Белова О. В. Илья св. // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 1999. Т. 2: Д–К (Крошки). С. 405–407.
- Бугаева И. В. Агиотопонимы: частный случай отражения ментальности в географических названиях // Образовательный портал «Слово» [Электронный ресурс]. URL: https://portal-slovo.ru/philology/39039.php?ELEMENT_ID=39039 (05.05.2023).
- Корюнкова Л. А. Икона «Мученики Кирик и Улита» из Заонежской экспедиции ГИМ // Рябининские чтения — 2019: мат-лы VIII конференции по изучению и актуализации традиционной культуры Русского Севера. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2019. С. 288–292.
- Крашенинникова Ю. А. Свадебные приговоры дружки: структурно-семантический, функциональный аспекты жанра: дис. … канд. филол. наук: 10.01.09. Сыктывкар, 2003. 342 с.
- Крашенинникова Ю. А. «Путь-дорога» свадебного поезда (организация универсума в свадебном приговоре дружки) // Славянская традиционная культура и современный мир: сб. мат-лов науч.-практ. конф. М., 2005. Вып. 8. С. 62–75.
- Крашенинникова Ю. А. Заговорно-заклинательный репертуар лоемской локальной традиции Республики Коми (обзор материалов в записях начала XXI века) // Фольклористика Коми. Фольклорные жанры Европейского Северо-Востока России: динамика развития, трансформации, классическое наследие и современные формы. Сыктывкар, 2016. С. 38–58.(Сер.: Труды Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН; вып. 74.)
- Лапин В. А. Русский дружка — naitaa на вепсской свадьбе (к проблеме фольклорного двуязычия) // История, современное состояние, перспективы развития языков и культур финно-угорских народов: мат-лы III Всерос. науч. конф. финно-угроведов(1–4 июля 2004 г., Сыктывкар). Сыктывкар: Изд-во Коми науч. центра УрО РАН, 2005. С. 266–271.
- Островский Е. Б. Вологодский свадебный фольклор (история, традиция, поэтика): дис. … канд. филол. наук. М., 1999. 231 c.
- Попова Т. Г. Ветхозаветные антропонимы в тексте «Лествицы» Иоанна Синайского // Вопросы ономастики. 2022. Т. 19. № 2. С. 66–84 [Электронный ресурс]. URL: http://onomastics.ru/content/2022-t-19-%E2%84%962-2 (05.05.2023). DOI: 10.15826/vopr_onom.2022.19.2.017
- Самоделова Е. А. Дружка и его помощник // Мужской сборник. М.: Лабиринт, 2001. Вып. 1: Мужчина в традиционной культуре. С. 28–47.
- Теребихин Н. М. Сакральная география Русского Севера: религиозно-мифологическое пространство севернорусской культуры. Архангельск: Изд-во Помор. междунар. пед. ун-та им. М. В. Ломоносова, 1993. 220 c.
- Топорков А. Л. Ономастикон Олонецкого сборника заговоров XVII века // Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 1. С. 115–133 [Электронный ресурс]. URL: http://onomastics.ru/content/2018-t-15-%E2%84%961-4 (05.05.2023). DOI: 10.15826/vopr_onom.2018.15.1.005
- Топоров В. Н. Из наблюдений над загадкой // Исследования в области балто-славянской духовной культуры: загадка как текст. 1. М.: Индрик, 1994. С. 10–118.
- Топоров В. Н. О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией «мирового дерева» // Мировое дерево: универсальные знаковые комплексы. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. Т. 1. С. 107–161.
- Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М.: Изд-во МГУ, 1982. 248 с.
- Цивьян Т. В. Отгадка в загадке: разгадка загадки? // Исследования в области балто-славянской духовной культуры: загадка как текст. 1. М.: Индрик, 1994. С. 178–195.
- Шиндин С. Г. Пространственная организация русского заговорного универсума: образ центра мира // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор. М.: Наука, 1993. С. 108–128.
- Юдин А. В. Ономастикон русских заговоров: имена собственные в русском магическом фольклоре. М.: МОНФ, 1997. 319 с.
- Юдин А. В. Ономастикон восточнославянских загадок. М.: ОГИ, 2007. 120 с.