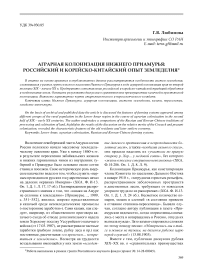Аграрная колонизация Нижнего Приамурья: российский и корейско-китайский опыт земледелия
Автор: Любимова Г.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XX, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе архивных и опубликованных данных рассматриваются особенности систем земледелия, сложившихся у разных групп сельского населения Нижнего Приамурья в ходе аграрной колонизации края во второй половине XIX- начале XX в. Предпринято сопоставление российской и корейско-китайской традиций обработки и возделывания земли. Освещены результаты дискуссии о сравнительных преимуществах казачьей и крестьянской колонизации. Выявлены характерные черты старожильческого и переселенческого хозяйств.
Нижнее приамурье, аграрная колонизация, системы земледелия, казаки, переселенцы, зазейские маньчжуры
Короткий адрес: https://sciup.org/14522147
IDR: 14522147 | УДК: 39+930.85
Текст научной статьи Аграрная колонизация Нижнего Приамурья: российский и корейско-китайский опыт земледелия
Включение левобережной части Амура в состав России положило начало массовому земледельческому освоению края. Уже к началу 1860-х гг. в результате переселения забайкальских казаков и нижних гарнизонных чинов из внутренних губерний в Приамурье было основано около сотни станиц и поселков. Свою историческую роль амурское казачество видело в том, чтобы служить «верным проводником русских государственных начал на далеких окраинах Империи» (ХКА. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 1. Л. 17, 17 об.). Подтверждением распространенного мнения о том, что «казаки на Амуре не склонны к земледелию» [Приамурье…, 1909, с. 351–352], явились широко представленные в казачьей среде неземледельческие промыслы («посторонние заработки»). Сами казаки, как следует, например, из общественного приговора казачьего схода об отводе дополнительного надела земли Хорскому поселку Уссурийского казачьего войска (от 17.03.1907), не рассматривали частные заработки (рыбную ловлю, рубку леса и пр.) как постоянные, рассчитывая «со временем… возвратиться к земледелию». Несмотря на трудности возделывания имеющейся у них земли «вследст- вие далекого протяжения и непроходимости болотных мест», а также «изобилия сильного гнуса», они просили наделить их «участком по правую сторону р. Хор… у медовой сопки», без которого «жизнь в поселке совершенно невозможна» (ХКА. Ф. И-286. Оп. 1. Д. 8. Л. 9).
Колонизация Приамурья, как констатировали члены Комитета по заселению Дальнего Востока в январе 1910 г., «затруднена гористым рельефом, распространением заболоченных пространств и девственных лесов, требующих от новоселов упорного труда по их раскорчевке» (ХКА. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 1. Л. 24 об.). Несметное количество комаров, мошек и слепней «в состоянии привести в отчаяние степняка-переселенца». Бывали случаи, согласно автору публикации в газете «Приамурские ведомости», когда «переселенцы снимались с места и возвращались в Россию, откуда их выгнала нужда». Зато казаки-старожилы сложили по этому поводу песню: «Обтерпелись мы в тайге и живем не тужим, на далеком рубеже царю верой служим!» (13.08.1903).
Вместе с тем, публичная дискуссия рубежа XIX–XX вв. о «сравнительных преимуществах казачьей и крестьянской колонизации», в ходе которой проведено экономическое обследование 259 казачьих и крестьянских поселков края, завершилась однозначным выводом: «…крестьяне по сравнению с казаками являются более исправными и сильными хозяевами». Таким образом, вопрос «Могут ли крестьяне по трудолюбию и хозяйственным навыкам служить поучительным для казаков примером в хлебопашестве» был разрешен в пользу крестьян. Решающие аргументы касались не только хозяйственной, но и социальной сферы. «Возможность выдела и укрепления земли в личную собственность дает крестьянам больше перспектив для развития хозяйства», чем «общинный строй войскового поселения», который «не позволяет рассчитывать на… значительный прогресс сельскохозяйственной культуры у казаков» (ХКА. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 1. Л. 17, 17 об., 20).
Относительные успехи крестьянской колонизации были достигнуты, скорее, не «благодаря», а «вопреки» деятельности властей. Ссылаясь на то, что «наплыв представителей желтой расы находится в полном противоречии с задачами обороны края», а также на необходимость подготовки земледельческой базы для армии, правительство взяло курс на «плотное заселение» порубежной территории «русскими людьми в кратчайший срок» (ХКА. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 1. Л. 4, 16, 18). Из двух областей – Амурской и Приморской – первая «росла медленно, но упорно развивая свои силы», вторая «строилась давлением извне, механическими толчками, благодаря политическим и ведомственным соображениям». В итоге, как пишут авторы исследования «Приамурье: факты, цифры, наблюдения», «необходимый правительству русский хлеб» дает не Уссурийский край, а поставляют «пасынки правительства» – переселенцы Амурской области [Приамурье…, 1909, с. 720–722]. «Поучительный вывод» из данного опыта, по мнению земских авторов, заключается в том, что «колонии создаются не повелениями начальства... а свободной деятельностью живых людей» и «собственной инициативой переселенцев». Лучшим доказательством этому служат хозяйственность, энергия и «усердие к водворению на новом месте», отличающая «своекоштных» поселенцев от тех, кто прибыл казенный счет [Приамурье…, 1909, с. 84, 128–129, 169].
С 1905 г. переселенческое дело в России было сосредоточено в руках Главного управления землеустройства и земледелия. В 1906–1917 гг. заселение и освоение Приамурья осуществлялось преимущественно за счет выходцев из средней и южной полосы России, представленных в основном русским и украинским крестьянством. Однако назначив крестьянам «выполнять государст-370
венную задачу в суровых и мрачных низовьях Амура», начальство «упустило», что переселенцы происходят из различных местностей: жителей степных пространств и лесной полосы поселили в лесной таежной местности Приамурья [Приамурье…, 1909, с. 101–102]. Так, в донесении землемера Гр. Смирнова сообщалось, что он «закончил работы по распланированию деревни Каменец Подольской на участки». Расположенная среди крупного смешанного леса деревня была разбита на каменистой подпочве низкого и сырого берега протоки. Протекающие по участку ручьи летом пересыхали, поэтому «воду… можно добыть лишь из глубоких колодцев». Всего было нарезано 87 усадеб, из которых сразу заселили 72. «На случай прибытия новой партии новоселов» дополнительно было «прирезано (еще) три просека» (ХКА. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 2. Л. 2, 2 об.). Не удивительно, что, ознакомившись с условиями водворения, часть потенциальных мигрантов предпочла отказаться от переселения. В отказной записи одного из несостоявшихся переселенцев говорилось, что «нижеподписавшийся крестьянин с. Кислицкого… Ямпольского уезда Подольской губернии Василий Федоров Мартынюк» , переуступает свою землю «крестьянину с. Отченашевки… Карпу Григорьеву Герману» . Последнему, таким образом, переходил записанный в 4-ом Хорском участке Киинской волости Хабаровского уезда надел «в количестве шести долей» (ХКА. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 2. Л. 4).
Разработка новых участков требовала от новоселов немалых трудов. После неизбежных палов и корчевания поселенцы приступали к борьбе с кустарником. «На такую пашню крестьяне собираются и вооружаются, как… в поход на лютого врага» [Приамурье…, 1909, с. 410–411]. За редким исключением, в русских хозяйствах Приамурья преобладала залежная система, когда пахотная земля засевалась несколько лет подряд, пока давала удовлетворительные урожаи. Затем для восстановления плодородия ее бросали «в залежь», а под пашни занимали новые участки целины или отдохнувшей несколько лет залежи. По мере увеличения «густоты населения» и уменьшения «земельного простора» на смену экстенсивным системам земледелия пришли интенсивные. Сокращение сроков залежи вынудило крестьян «прибегать к пару» и, в конце концов, переходить к трехпольной системе полеводства [Приамурье…, 1909, с. 385–386]. По контрасту с «примитивным хозяйством» русского новосела, основанным на «беспорядочной переложной системе», «цветущее состояние» хозяйства амурских духоборов, молокан и староверов-семейских выделялись зажиточностью и применением машин.
Однако истинную причину успеха молокан – «этих российских американцев» – исследователи связывают с пребыванием на территории «дешевых и добросовестных» работников – «зазейских маньчжур» [Приамурье…, 1909, с. 81, 110, 361 и др.].
Во времена походов русских землепроходцев маньчжуры, известные как дючеры , занимались хлебопашеством по берегам Амура, в районе впадения в него р. Зеи [Золотухин, 2013, с. 30–31]. К началу XX в. зазейские маньчжуры занимали около 100 тыс. дес. земли и вели «образцовое земледельческое хозяйство», но в связи с политическими событиями в Китае в 1900 г. были выселены за р. Амур. Местная администрация, охотно принимавшая в край корейцев и китайцев, которых гнали с родины «неурожаи, малоземелье и поборы чиновников», стала ограничивать их приток [Приамурье…, 1909, с. 88, 149–151].
«Несмотря на первобытность орудий» корейско-китайское полеводство, по оценке земских авторов, являлось одной из высших форм земледелия, особенность которого заключалась «в наиболее интенсивной эксплуатации надельных земель» при полном отсутствии залежей и пара. Наряду с зерновыми культурами (пшеницей, ярицей, овсом и пр.), характерными для русской земледельческой традиции, корейцы и китайцы возделывали растения, свойственные «исключительно культуре желтой расы» (бобы и просо – чумизу и пр.). Вся земля находилась у них под посевами, а восстановление плодородия достигалось удобрением, тщательной обработкой (напоминающей огородную) и плодосменом. Пашни удобряли навозом, а грядки постоянно сменялись меж- дугрядьями. Интенсивность корейско-китайской системы достигалась за счет громадных затрат ручного труда при очень незначительных затратах капитала [Приамурье…, 1909, с. 400–403]. Так, при посеве главной культуры (чумизы) весной один рабочий слегка перепахивает подготовленное с осени поле. Одновременно с этим другой рабочий высевает из особой трубки семена. Третий закрывает их, ступая по обе стороны борозды и слегка сдавливая ее бока. Четвертый уплотняет борозду, идя по грядке «так, чтобы ступня одной ноги примыкала к ступне другой». Пятый старается ступать на стыки следов предшественника. Полка и пропашка повторяются за лето четыре раза. К сказанному следует добавить, что корейцы и китайцы обладают «изумительной нетребовательностью, терпением и выносливостью» [Приамурье…, 1909, с. 463]. Сложившуюся в крае ситуацию в сфере земледелия авторы-составители сводного труда характеризуют как «экономический парадокс». В то время как себестоимость русской и корейско-китайской продукции приблизительно одинакова, русское земледелие, требующее больших капиталовложений, «по политическим соображениям» всячески поощряется, а корейско-китайское – «еле терпится, урезается или попросту изгоняется».
Список литературы Аграрная колонизация Нижнего Приамурья: российский и корейско-китайский опыт земледелия
- Золотухин С.Ф. Древнее рыболовство в районе Хабаровска. -Хабаровск: Ковчег, 2013. -128 с
- Приамурье: факты, цифры, наблюдения. -М.: Гор. тип., 1909. -922 с