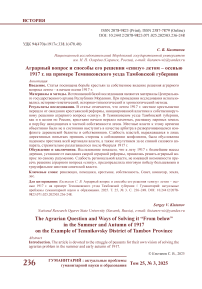Аграрный вопрос и способы его решения «снизу» летом – осенью 1917 г. на примере Темниковского уезда Тамбовской губернии
Автор: Кистанов С.В.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3 (71), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена борьбе крестьян за собственное видение решения аграрного вопроса летом – в начале осени 1917 г. Материалы и методы. Источниковой базой исследования являются материалы Центрального государственного архива Республики Мордовия. При проведении исследования использовались историко-генетический, историко-типологический и хронологический методы. Результаты исследования. В статье отмечается, что летом 1917 г. местное крестьянство перешло от ожидания крестьянской реформы, инициированной властями к собственноручному решению аграрного вопроса «снизу». В Темниковском уезде Тамбовской губернии, как и в целом по России, крестьяне начали передел пахотных, распашку паровых земель и порубку находящихся в частной собственности лесов. Местные власти к этому времени объективно были не в состоянии выступить в качестве арбитра в разворачивающемся конфликте деревенской бедноты и собственников. Слабость властей, выражавшаяся в лишь директивных попытках призвать стороны к соблюдению конфликтов, была обусловлена падением престижа всей вертикали власти, а также отсутствием за ее спиной силового аппарата, стремительно разлагавшегося после Февраля 1917 г. Обсуждение и заключение. Исследование показало, что к лету 1917 г. беднейшие массы деревни, уставшие от ожидания скорой аграрной реформы, принялись решать аграрный вопрос по своему разумению. Слабость региональной власти, не имевшей возможности пресечь решение аграрного вопроса «снизу», предопределила итоговую победу большевиков и триумфальное шествие советской власти.
Революция, помещики, крестьяне, собственность, Совет, комиссар, земля, лес
Короткий адрес: https://sciup.org/147252161
IDR: 147252161 | УДК: 94(470)«1917»:338.1(470.40) | DOI: 10.24412/2078-9823.071.025.202503.236-248
Текст научной статьи Аграрный вопрос и способы его решения «снизу» летом – осенью 1917 г. на примере Темниковского уезда Тамбовской губернии
1917 г. стал вполне закономерным итогом нерешенности социально-экономических и общественно-политических проблем, стоявших перед Российской империей. Даже потрясения периода революции 1905–1907 гг. не стали причинами проведения структурных реформ, которые могли бы оздоровить внутриполитическую ситуацию в стране.
Одним из важнейших дестабилизирующих факторов в Российской империи начала ХХ в. являлся аграрный вопрос. Малоземелье, зависимость крестьянина от общины, выкупные платежи и приниженное правовое положение крестьянства объективно являлись тормозом для развития российской экономики, не давали возможности роста товарности сельского хозяйства. Эти проблемы, стоящие перед русской деревней в начале ХХ в., должны были заставить власти ускориться с разрешением аграрно-крестьянского вопроса. Однако следует отметить, что после отмены крепостного права в 1861 г. власти не сделали ничего существенного в плане его разрешения. Соответственно, в начале ХХ в. в стране сложилось два подхода к его разрешению – «сверху» и «снизу». Попыткой решения аграрного вопроса «сверху» стала аграрная реформа, проводимая председателем Совета министров П. А. Столыпиным, но, несмотря на все ее положительные аспекты, она так и не была доведена до логического завершения. Альтернативный вариант разрешения аграрного вопроса «снизу» предлагали радикальные политические организации, прежде всего социалисты-революционеры. Однако в условиях политического строя Российской империи эсеровский и иные подобные проекты могли бы быть реализованы только при условии коренной ломки общественно-политического и социально-экономического строя страны.
Казалось бы, Февральская революция 1917 г. могла бы дать исторический шанс на разрешение аграрного вопроса в России. Однако Временное правительство, оставшееся в июле того же года единственной властью в стране, не смогло воспользоваться им. Обещанное Учредительное собрание, которое должно было решить все стоящие перед страной задачи, в том числе аграрный вопрос, так и не было созвано. Вместо решения аграрно-крестьянского вопроса Временное правительство и стоящие за ним силы выбрали тактику затягивания его созыва, а затем и вовсе лишились власти, будучи свергнутыми в ходе Октябрьской революции 1917 г. и прихода к власти большевиков. Закономерно, что не получившее рекомендаций «сверху» крестьянство стало решать вопрос с землей, лугами и лесами «снизу», что и стало одним из символов российской действительности между Февралем и Октябрем 1917 г.
Стоит отметить, что проблемы, связанные с аграрно-крестьянским вопросом в России начала ХХ в., в том числе в 1917 г., традиционно являлись среди приоритетных исследований в советской историографии, а рассмотрение основных тем шло буквально следом за рассматриваемым периодом.
В советской историографии проблемам социально-экономической истории традиционно уделялось повышенное внимание, особенно в контексте революционного движения и революционных событий. Актуальными темами были классовая борьба в деревне, борьба большевиков за крестьянство с мелкобуржуазными партиями, формирование союза пролетариата и беднейшего крестьянства, проведение социалистических преобразований в деревне [4; 12; 15; 17; 19; 20]. Однако стоит отметить предельную однобокость исследований, положительно характеризующих лишь роль большевиков, делая всех их политических противников отрицательной стороной событий 1917 г. Постепенный ввод в научный оборот новых источников позволил советским историкам сконцентрировать акценты в своих исследованиях на противостоянии большевиков с эсерами и иными социалистическими партиями [2; 3], на роли крестьянских съездов в развитии крестьянского движения в 1917 г., а также роли большевиков в росте самосознании российского крестьянства и радикализации их борьбы с землевладельцами в тот же период [18]. В 1970–1980-х гг. появляются работы, в которых проводится тщательный анализ и обобщение аграрно-крестьянского движения накануне Октябрьской революции 1917 г., а также дается погубернский разрез форм, числа и промежуточных итогов крестьянских выступлений [14–16]. Изменение историографической ситуации, произошедшее со второй половины 1980-х гг., на первый план в исследованиях вынесло общественно-политические вопросы, оттеснив проблемы, связанные с аграрно-крестьянским движением в 1917 г., на второй план. Поэтому в основном рассмотрение аграрного движения в период Великой российской революции приходится на обобщающие труды по истории России данного периода либо на работы, посвященные политическим партиям или революционному движению [1; 10; 20].
Региональная историография советского периода традиционно рассматривала аграрно-крестьянское движение в контексте революционных событий 1917 г. Крестьянскому движению отдавалось должное в процессе формирования мордовской большевистской организации [17], прослеживались общие тенденции в развитии крестьянского движения в 1905–1907 гг. и 1917 г. [5]. Отклики политической борьбы в мордовской деревне даже спустя 50 лет содержатся в региональной прессе и сборниках воспоминаний непосредственных участников установления советской власти на территории мордовского края [21]. Однако и здесь постсоветская историография сместила свои акценты, например, к периоду столыпинской модернизации [13]. Вопросы аграрного движения в 1917 г. по-прежнему отражаются в обобща- ющих трудах по истории Мордовии, а также в отдельных журнальных публикациях [6–8].
Однако стоит отметить, что исследования аграрно-крестьянского движения в России 1917 г. имеют ряд серьезных недостатков. В советский период они страдали однобокостью, рассматривая данные события с точки зрения большевиков и игнорируя или переворачивая информацию, не укладывающуюся в заданные шаблоны. В настоящий момент достаточно слабо изучено развитие крестьянского движения в мордовском крае на уездном уровне. Авторы оперируют общими тенденциями губернского уровня или же отдельными фактами, не способными дать общей картины происходившего. Следовательно, изучение аграрно-крестьянского движения на низовом уровне способно закрывать многие белые пятна региональной истории, а также вводить в научный оборот новые источники.
Материалы и методы
Основным источником исследования служат материалы Центрального государственного архива Республики Мордовия (ЦГА РМ), в частности фонд Темников-ского уездного исполнительного комитета Советов (фонд Р-62), содержащий в себе переписку уездных властей с губернским комиссаром, а также жалобы, прошения и протесты частных лиц по имущественным вопросам в период между Февралем и Октябрем 1917 г. Также при написании работы использовались научные работы предыдущего периода, преимущественно общероссийского характера. При работе с источниками были использованы специальные научные методы, такие как историкогенетический, историко-типологический и хронологический, позволяющие рассматривать протестное движение в уезде во всех его проявлениях строго в хронологической последовательности. Из общенаучных методов нами были использованы ана- лиз и сравнение, позволяющие проводить аналогии с общероссийскими событиями рассматриваемого периода. Рассмотрение аграрно-крестьянского движения на уездном уровне позволяет привлекать микро-исторический подход к анализируемым событиям.
Результаты исследования
Революционные события, прошедшие в Петрограде в феврале 1917 г., вызвали бурный отклик на просторах Российской империи. В первую очередь (наряду с заключением мира в Первой мировой войне) это касалось аграрного вопроса, решения которого ждали массы крестьянского населения страны. Однако пришедшее к власти после свержения монархии Временное правительство отказалось немедленно приступать к решению наболевших проблем, ссылаясь на необходимость созыва Учредительного собрания, которое примет все важнейшие решения. Таким образом, крестьянские массы были поставлены перед перспективой ожидания своей участи, которую решит созываемое в перспективе Собрание.
В первые два-три месяца после Февральской революции 1917 г. российское крестьянство не предпринимало радикальных шагов с целью решения аграрного вопроса со своей точки зрения. Во многом это было обусловлено надеждами населения на то, что Временное правительство, а также Советы как можно скорее примутся за законодательное разрешение земельного вопроса. Также стоит отметить некоторую эйфорию среди населения, опьяненного наступившими «днями свобод» после свержения монархии в России. Поэтому все, на что в эти первые месяцы были настроены крестьяне, – это принятие приговоров на крестьянских съездах, которые проходили в губерниях России в апреле – мае 1917 г. [18].
Однако к концу весны 1917 г. ситуация стала меняться. Проведенная посевная кам- пания в условиях крестьянского малоземелья, контроля помещиков над лесными и луговыми угодьями, общая задолженность деревни помещикам и кулакам привели к перелому в настроениях крестьянства. Начиная с мая 1917 г. отмечается подъем аграрно-крестьянского движения, имевшего целью решение аграрного вопроса «снизу», не дожидаясь, когда же власти решат его «сверху». В Нижегородской губернии за апрель – июль было зафиксировано 340 крестьянских выступлений (апрель – 32, май – 58, июнь – 77, июль – 73). В Симбирской губернии за тот же период было отмечено 288 выступлений (апрель – 53, май – 89, июнь – 134, июль – 12), в Пензенской губернии – 160 (апрель – 19, май – 21, июнь, 50, июль – 70) [14, с. 134].
В июне 1917 г. крестьянские выступления, направленные против помещиков и зажиточной верхушки деревни, начались в Темниковском уезде Тамбовской губернии. К традиционным объективным проблемам, таким как малоземелье, высокая арендная плата, добавились трудности, вызванные идущей Первой мировой войной. Все это не могло заставить крестьян смиренно ждать разрешения своей участи, они сами стремились разрешить стоящие перед ними проблемы.
Традиционно главной мечтой крестьянства был «черный передел», вызванный малоземельем. К началу ХХ в. среди уездов, вошедших в состав Республики Мордовия, эта проблема была наиболее острой в Тем-никовском и Ардатовском уездах. Местные крестьяне элементарно не имели возможности обеспечивать себя необходимыми продуктами со своих небольших земельных наделов. Единственным законным выходом из этой трудной ситуации становилась возможность аренды земли у помещиков, которые увеличивали долю своих земель, сда- ваемых в аренду крестьянам. В частности, в начале ХХ в. в среднем по Тамбовской губернии из 1 037,3 тыс. десятин пахотных земель доля арендуемых составляла 24,2 % [11, с. 113]. Также в не меньшей мере силовые действия крестьян, преимущественно крестьянской бедноты, были направлены и против верхов деревни (кулачества). Это было объяснимо тем, что богатые крестьяне в ходе Столыпинской аграрной реформы выходили из общины и закрепляли свои земли в собственность, одновременно с этим стремясь к увеличению площадей земельных владений путем покупки земли, как у низов деревни, так и у частных землевладельцев-помещиков [13].
Теперь же крестьяне, недовольные сложившимся положением вещей, приступили к силовому захвату земель, принадлежавших собственникам, начав явочным порядком «черный передел». Документы, извлеченные нами из фондов Центрального государственного архива Республики Мордовия (ЦГА РМ), дают наглядную картину аграрной борьбы крестьян, направленной против помещиков, духовенства, а также крестьян-собственников. Раскрывающаяся перед нами панорама лета 1917 г. на примере Темниковского уезда показывает основные направления низового разрешения аграрного вопроса: земля, луга и леса, с чем у «низов» деревни была серьезная нехватка.
В июне на имя руководителя уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Буренина поступила жалоба от священнослужителей местного прихода о том, что крестьянами с. Спасско-Раменье (ныне Рязанская область) у причта было отобрано 8 дес. пахотной земли и 11 дес. земли под паром, которую они разделили между собой. Священники просили вернуть им паровую землю, пока крестьяне не начали распахивать ее1.
В том же месяце с жалобой на самовольные захваты пахотных земель в исполком Совета обратился помещик из дер. Николаевка Гаврила Николаевич Конкин. Он сообщил, что в захвате его земель приняли участие крестьяне деревень Марьевка, Су-морьево и Заулки. Ко всему прочему, помещик жаловался и на то, что крестьяне не только отобрали у него жито, находившееся при дер. Заулки, но и уже начали продавать его как свое, на что у помещика уже находился соответствующий акт2.
В том же июне крестьяне-бедняки начали раздел пахотных земель и покосов у зажиточной части сел, расположенных возле крупного села Вознесенский Завод (ныне Нижегородская область).
Телеграмму уездному комиссару Владимирову о том, что крестьяне с. Варнаево приступили к самовольному захвату земли и потравам лугов, направил крестьянин из того же села Михаил Моисеев. Он откровенно написал, что «крестьяне, не признавая изданный закон, руководствуются известными лицами вселяющими анархию»3. Здесь налицо сведения об организованных действиях местного населения, действующего под руководством либо левых эсеров, либо большевиков (что более вероятно).
7 июня в адрес Вознесенского исполкома Советов поступило заявление крестьянина с. Вознесенский Завод Ивана Ивановича Богатова, который жаловался на самоуправные действия крестьян с. Варнаево. По словам Богатова, упомянутые крестьяне, действуя коллективно, отобрали у него 12 дес. земли, засеянной озимым хлебом у с. Буколей, которую он ранее сдавал им же в аренду по 1,5 дес. на одного арендатора. Теперь же он просит издать распоряжение, которое приостановило бы самовольные действия местных крестьян4. Заявление наглядно свидетельствует, что богатая крестьянская верхушка еще верила в силу закона, намереваясь таким путем оградить себя от действий крестьянской массы.
В июле в Темниковский Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов поступило заявление от крестьян дер. Енаково Аксельской волости Мамятьевых, которые жаловались на крестьян деревень Подайке-ево и Ишеек, самовольно разделивших принадлежавшую заявителям паровую землю площадью около 7 дес. Мамятьевы сообщали, что ранее эта земля была единственным источником их дохода, теперь же они вообще остались без земельных владений5.
Нормальное функционирование крестьянского хозяйства было немыслимо без скота, поэтому проблема с лугами для выпаса скота и покосов травы на корм стояла так же остро, как и проблема малоземелья. Здесь на острие крестьянских «ударов» находились помещики, во владении которых со времен отмены крепостного права в 1861 г. находилась значительная часть луговых угодий. При этом основное количество жалоб на незаконные покосы травы в Тем-никовском уезде пришлось на июль 1917 г.
Телеграммой на имя уездного комиссара жалобу на крестьян с. Игнатьево, самовольно скосивших 70 дес. клевера, подал помещик Греков, проживавший в Кадоме6.
В середине июня жалобу в адрес уездного комиссара направил Юрий Юрьевич Новосильцев. Согласно его сведениям, экономия сдавала в аренду луга крестья- нам с. Кочемирово и деревень Кущапино, Марьевка, Починки, Сумерки и Каляево площадью 347 дес. Однако местные крестьяне оказались недовольны фактом разделения лугов и всеми своими сельскими обществами принялись самостоятельно косить траву на помещичьих лугах. В сложившейся ситуации Новосильцев, предвидя столкновения между арендаторами, уже уплативших арендную плату, и основной массой крестьянства указанных населенных пунктов, просил уездного комиссара принять все необходимые меры, чтобы не допустить этого7. В ответ на полученное письмо Новосильцева уездный комиссар запросил содействия исполкома Советов в прекращении и предотвращении в будущем беспорядков на почве правонарушений по аренде лугов7.
С жалобой на захват местными крестьянами клеверных лугов к уездному комиссару обратились помещики Андреевы. В телеграмме они сообщали, что лично им было оставлено лишь 20 дес. плохого клевера, которого в хозяйстве им не хватит даже до осени, а также, что крестьяне были готовы заплатить за клевер лишь 5 руб. за десятину, хотя посев стоил 35 руб. за десятину9.
Настоящим богатством Темниковского уезда были леса, которые принадлежали либо помещикам, либо государству в виде лесных дач. Поэтому требования к разделу лесных угодий также начинают встречаться летом 1917 г. наряду с требованиями передела пахотной земли и земельных угодий.
19 июля с заявлением о наведении порядка в исполком Советов обратился управ- ляющий кондровской фабрикой Николай Иванович Подлинов. В нем он жалуется на крестьян дер. Львовка, которые проводят незаконную порубку леса на принадлежащей фабрике Верловской даче10.
25 июля с прошением на имя уездного комиссара обратился управляющий имением Архангельское в с. Ермишь Н. В. Перрот. Он просит принять хоть какие-то меры воздействия по отношению к крестьянам сел Мердушь и Спасско-Раменье, которые массово вывозят строевой и дровяной лес. Управляющий заявляет, что местные крестьяне занимаются угольным промыслом, поэтому порубки леса становятся массовыми, вследствие чего имению в ближайшее время грозит полное расхищение. Также Перрот жалуется, что все его обращения в адрес исполнительного комитета остаются без внимания, а все действия местных крестьян, соответственно, безнаказанными11.
Дальнейшее расследование данного дела привело к выявлению многочисленных фактов самовольных порубок леса и кражи большого количества лыка, проведенных крестьянами сел Мердушь и Спасско-Ра-менье. Как оказалось, разграбление имения Архангельское началось еще в середине мая 1917 г. и продолжалось вплоть до середины июля, когда была подана жалоба управляющего имением, и началось расследование со стороны уездного комиссара. Однако, кроме констатации фактов, деятельность властей ни к каким конкретным результатам не привела, так как они не смогли даже установить пофамильно тех крестьян, кто участвовал в расхищении имущества. Попытка же повлиять на настроение крестьян на сходе в с. Мердушь закончилась тем, что местное население потребовало выдать приехавших на расправу12.
19 сентября Кадомская городская управа направила телеграмму уездному Совету с просьбой принять срочные меры по прекращению порубок леса на ивановской и красноярской дачах, проводимых крестьянами с. Теньгушево и деревень Красный Яр и Выселки13.
Все вышеприведенные факты свидетельствуют, что крестьяне Темниковского уезда летом 1917 г., как и в целом по стране, приступили к решению аграрного вопроса «снизу», не дожидаясь проведения реформ в общероссийском масштабе. Здесь возникает вполне закономерный вопрос: а что же могли предложить летом 1917 г. крестьянским массам местные органы власти? Пожалуй, ничего. Это было обосновано внутренней политикой Временного правительства, с июля 1917 г. оставшегося в одиночестве в качестве верховного органа власти в стране. Курс Временного правительства на созыв Учредительного собрания, которое и решит стоящий перед страной аграрный вопрос с одновременным затягиванием его созыва, был более чем наглядной иллюстрацией его текущей внутренней политики. В этих условиях власти не могли что-либо предложить крестьянству, которое начнет решать аграрный вопрос явочным порядком, а Тамбовская губерния, куда в 1917 г. входил Темниковский уезд, станет одним из главных очагов крестьянского восстания осенью того же года [17].
Документы исполнительного комитета Советов наглядно свидетельствуют о слабости властей на местах в период между революционными взрывами Февраля и Октября 1917 г. Все их попытки повлиять на ситуацию в уезде, как и в стране в целом, были непоследовательными и не несли под собой ощущения реальной силы, стоящей за ними. Поэтому влияние комиссаров и Советов на крестьянскую активность в основном оставалось на бумаге, не перерастая в конкретные шаги, направленные на разбор запутанной ситуации, что на местах, что в масштабах всей страны. Не зря во многих региональных документах постоянно упоминается, что обращения к Советам и к уездному комиссару ни к чему в итоге не приводят.
Можно привести несколько характерных примеров. В Темниковском уезде сложилась напряженная ситуация с порубками леса, вызванная, кроме всего прочего, нежеланием владельцев сдавать лесные угодья и материалы крестьянам по сниженным ценам. Например, в ответ на крестьянские просьбы о снижении цены на лыко уездный комиссар Владимиров сообщает исполкому Советов, что обязать сдавать лыко по сниженной цене он не может без согласия ле-совладельца П. М. Шахаева14.
О бессилии властей просто «кричит» телеграмма уездного комиссара Владимирова своему губернскому начальнику. Приведем ее текст полностью. «Кадомские городские владения кроме окрестностей Кадома раскинуты по четырем волостям. Кем и где захвачены луга и что именно разгромлено управа умалчивает. Против лесных порубок всю прошлую неделю принимались меры воздействия через волостные комитеты, из которых Бутаковский и Веденяпинский постановили воспретить порубки и штрафовать виновных. Погорельцам Теньгушево Кадомской управой отведен особый участок леса для рубки по сниженным ценам. Пределы дозволенного нарушены. Отдано распоряжение милиции на розыск похищенного леса и привлечение виновных к ответственности, что крайне затрудняется безучастием городской управы в этом от-ношении»15.
Наконец, 6 октября 1917 г. в помещении уездной земской управы было назначено проведение чрезвычайного совещания представителей местных организаций с привлечением уездного комиссара и председателя Темниковского уездного Совета. На совещании следовало обсудить два вопроса: 1) по охране лесов от массовых порубок; 2) против всякого рода насилия и захватов16. Напомним, что к этому моменту захваты земель и порубка леса шли уже четыре месяца, а до прихода большевиков к власти в Петрограде оставалось всего лишь 19 дней.
С другой стороны, можно задаться вопросом: а была ли на стороне новых властей сила, чтобы заставить местное население выполнять их требования? На этот вопрос можно ответить достаточно просто: нет, не было. Политические силы, пришедшие к власти в России после Февральской революции, сломали старый имперский аппарат принуждения, намереваясь выстроить вместо него новый. Однако в этом они нисколько не преуспели.
После расформирования полиции, произошедшего в марте 1917 г., Временное правительство постановило создать вместо нее милицию. В процессе строительства новой структурной единицы возникли серьезные трудности, преодолеть которые на местах не удавалось. Самой главной среди них стала финансовая, ибо сотрудникам милиции нужно было выплачивать жалованье, а средств на это в губерниях и тем более в уездах не было. В Темниковском уезде при формировании милиции сначала пришлось сокращать штат силовиков, а затем искать средства для ее финансирования. Получался настоящий замкнутый круг, когда комиссар пытался перекладывать проблему на исполком местного Совета, а тот – на городскую Думу. В итоге уже в конце июня 1917 г. начальник уездной милиции И. Гош-ко просит выплатить ему задолженность по заработной плате за прошедшие месяцы, но даже после увольнения из рядов милиции невыплаченное жалованье ему так и не было выдано [9].
Что же касается темниковского гарнизона, то он тоже не мог стать надежной опорой новой власти, так как в нем (как и во всей стране) стали усиливаться большевистские настроения. Летом 1917 г. из Темникова в Тамбовский Совет, а также командующему Московским военным округом несколько раз направлялись телеграммы с просьбой присылки верных войск, так как в городе усиливается большевистская агитация, которая велась бывшим дезертиром Семиковым и большевиком Шмелевым17. В начале июля 1917 г. ситуация в Темникове стала критической. В телеграмме, отосланной в Тамбов, уездный Совет и вовсе характеризует состояние гарнизона как восстание и просит прислать войска на его по-давление18.
Обсуждение
Стоит отметить, что Темниковский уезд Тамбовской губернии в летние дни 1917 г. стал типичным примером развития событий общероссийского масштаба. Установившийся после свержения в России монархии режим двоевластия не смог решить ни одного насущного вопроса, стоявшего перед страной. Одним из главных требований населения являлось решение аграрного вопроса, бывшего одним из главных кризисных явлений после отмены крепостного права в России в 1861 г. Однако те силы, которые пришли к власти в феврале-марте 1917 г. и оформившиеся в лице Временного правительства, наглядно показывали, насколько же они далеки от простого народа, затягивая решение данного вопроса, относя его к компетенции Учредительного собрания.
Уездные власти в лице комиссара и исполкома Советов также оказываются не в состоянии решить насущные вопросы, выдвигаемые крестьянством. В своих требованиях передела земли и лесов крестьянские массы, не получая определенного ответа от властей, приступают к решению аграрного вопроса «снизу», что сразу же приводит к столкновениям между собственниками и бедным большинством деревни.
Отметим, что уездные власти занимают сторону собственников, стремясь защитить их интересы или хотя бы прекратить насильственные действия над их имуществом. Однако это не сильно удавалось вследствие того, что как моральный авторитет, так и силовая компонента властей к тому времени стремительно деградировали. В этих условиях действия крестьянских масс, нередко проводимые «всем крестьянским обществом», приносили им положительные результаты. Жалобы помещиков, крестьян-кулаков, за-водовладельцев в подобных условиях ни к чему привести не могли, так как комиссар и исполком не имели возможности заставить крестьян прекратить передел земель и расхищение имущества. Попытки Советов директивным путем призвать крестьян к восстановлению законности ни к чему не приводили, а все крестьянские акции завершались для них успехом. Единственный раз, когда власти попытались заставить крестьян прекратить разграбление имения Архангельское, завершилась для них полной катастрофой, а против представителей исполкома Советов на крестьянском сходе зазвучали откровенные угрозы.
Слабость местных властей, продемонстрированная летом 1917 г. в попытке не допустить решения аграрного вопроса самими крестьянами «снизу», вполне закономерно привела к росту влияния большевиков на массы населения, затем к большевизации Советов, а затем и к переходу к ним власти в масштабах всей России в период так называемого «Триумфального шествия Советской власти».
Заключение
Летом 1917 г. на территории Темни-ковского уезда Тамбовской губернии население продемонстрировало свое видение решения аграрного вопроса – «снизу». К радикализации действий низов деревни вполне закономерно приводила ситуация в аграрном секторе России перед революционными событиями 1917 г., выраженная в малоземелье большей части крестьянства, росте арендных платежей, фактическом бесправии большей части крестьян. К радикализации населения приводила и продолжающаяся четвертый год Первая мировая война.
Во время своих попыток решения аграрного вопроса темниковские крестьяне приступали к насильственному переделу пахотной и паровой земли, значительные площади которой находились в собственности помещиков и кулаков. Летом 1917 г. на территории уезда были отмечены четыре факта передела земель. Все крестьянские действия завершились для них успешно, власти были вынуждены лишь констатировать происшедшее. В июле 1917 г. на территории уезда произошли три случая распашки крестьянами лугов, без которых нормальное ведение хозяйства было затруднительным. И здесь местные власти ничего не смогли сделать для защиты собственников, которые были вынуждены лишь считать свои убытки да отписываться, что у них забрали их последнее имущество. Наконец, на территории Темниковского уезда в июле – сентябре 1917 г. было отмечено три случая самовольной порубки крестьянами леса, составлявшего значительные богатства местных помещиков и фабрикантов.
За рассмотренный период в Темников-ском уезде нами было выявлено десять фактов действий местных крестьян против имущества собственников, что наглядно демонстрирует настрой низов деревни к разрешению аграрного вопроса так, как им видится самим. Дальнейшее промедление центральных властей и их представителей на местах привело к полной потере доверия им со стороны народных масс и вполне закономерно обеспечило победу большевиков в октябре 1917 г. и их приход к власти.