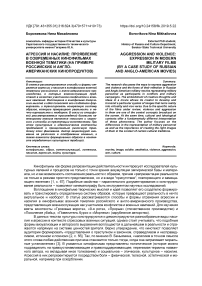Агрессия и насилие: проявление в современных кинофильмах военной тематики (на примере российских и англо- американских кинопродуктов)
Автор: Боровикова Нина Михайловна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 5, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются способы и формы отражения агрессии и насилия в кинофильмах военной тематики российского и англо-американского производства, в которых военнослужащие предстают в качестве участников конфликтов и военных кампаний. Воплощение в кинофильме творческих мыслей и идей позволяет его создателю формировать и транслировать конкретную систему образов, которые превращают реальность в нечто виртуальное и наоборот. В связи со спецификой рассматриваемых произведений базовыми категориями анализа являются «насилие» и «агрессия» и способы их презентации кинотекстами. При этом культурные и идеологические контексты предлагают и принципиально различную трактовку этих феноменов. Автор акцентирует внимание на различиях в отображении военных, а также важности формирования образов в контексте определенных культурных традиций.
Кинофильмы, образ, военнослужащий, эстетика, насилие, агрессия, война, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/149133972
IDR: 149133972 | УДК: [791.43+355.01]:316.624.3(470+571+410+73) | DOI: 10.24158/fik.2019.5.22
Текст научной статьи Агрессия и насилие: проявление в современных кинофильмах военной тематики (на примере российских и англо- американских кинопродуктов)
Боровикова Нина Михайловна
Кинофильмы как форма репрезентации действительности интересует исследователей культурных явлений и процессов не только с точки зрения аккумуляции эмпирической базы и материала, но и как возможность соотнесения реальности с образом, причем «репрезентации реальности не только в режиме простого представления, но и в виде "присутствия", повторяющего и замещающего явление» [1, с. 67]. Подобные свойства – параллельного документирования и конструирования реальности – позволяют кинематографу быть инструментом научных исследований.
Воплощение в кинофильме творческих мыслей и идей позволяет его создателю формировать и транслировать определенную систему образов, которые превращают реальность в нечто виртуальное и наоборот. В статье рассматриваются способы и формы отражения агрессии и насилия в кинофильмах военной тематики российского и англо-американского производства, представляющих военнослужащих как участников конфликтов и военных кампаний. Для изучения взяты кинотексты «Грозовые ворота», «9-я рота», «Прорыв» (отечественное производство) и «Поколение убийц», «Повелитель бури» и «Морпехи» (зарубежное авторство).
В данных текстах культуры конструируются и демонстрируются разнообразные виды насилия и агрессии в контексте стрессовых военных ситуаций, однако стоит учитывать, что подобные формы визуализации и авторского выражения воплощаются в дальнейшем в реальности и отражаются напрямую на системе ценностей зрителя. Верно утверждение, что кинотекст позволяет аудитории формировать «представления о преступном и законном, справедливом и несправедливом, истинном и ложном» [2, с. 56]. Так, по мнению В. Беньямина, «насилием в точном смысле этого слова любая действенная причина становится только тогда, когда она затрагивает моральные установления» [3]. В указанных кинофильмах представлены политическое (которое можно подразделить на правоустанавливающее и правоподдерживающее, перенимая термины названного автора, но вкладывая иное толкование) и социальное – этическое, культурное – насилие. Агрессия в них репрезентируется посредством боли – физической, телесной, эстетической и моральной, например при оскорблении.
В связи со спецификой анализируемых кинофильмов насилие и агрессия в них выступают одними из центральных понятий, транслируемых экраном. Тем не менее их передача кинотекстом зрителю различается, в частности в отечественных фильмах ее можно считать скорее правоподдерживающей, рассматривая агрессию и насилие как политические феномены: боевые столкновения происходят в России, т. е. являются внутренними конфликтами легитимной власти с бандформированиями, за исключением событий фильма «9-я рота», разворачивающихся на территории Афганистана. Однако помощь братскому народу, оказываемую советскими военными, также уместно изучать в рамках данного определения агрессии и насилия, что связано с законностью нахождения воинских формирований на территории другого государства.
В западном кинопроизводстве политическое насилие происходит из милитаризма, попыток американского истеблишмента захватить власть, установить определенный государственный строй и политический режим путем проведения военных кампаний в других странах. Следовательно, в англо-американском кинематографе пропагандируется правоустанавливающее насилие, причем заметим, что происходит возвеличивание актов насилия и агрессии, глобализируются сами деструктивные процессы – разрушение, причинение боли, смерть: «…образы насилия представляют собой экранный аттракцион, являющийся… очень эффективным способом привлечения внимания потенциальных зрителей к фильму» [4, с. 147]. За счет широкой географии распространения кинопродуктов (в отличие от российских) и нацеленности на получение коммерческой выгоды, формы отражения агрессии множатся, а варианты ее проявления – физические, моральные, эстетические – становятся приоритетными способами разрешения моделированных конфликтных ситуаций.
Российские и англо-американские кинофильмы различаются в трактовке и репрезентации насилия, а также его образном, эстетическом осмыслении. Если в отечественном кинопродукте акцентируется внимание на трансформации агрессии в позитивную сторону – человеколюбие, терпимость, солидарность, уважение, честь, то западные производители пренебрегают такой возможностью и в духе низшего проявления масскульта тиражируют образы насилия, заявляя их новым паттерном поведения, играя на склонностях и интересах потребителя, провоцируя агрессивное поведение, формируя установки и искаженные представления о реальности.
Поведение военных в кинофильмах западного производства противоречит и установленным в обществе законам – общечеловеческим, причем сами персонажи пытаются возвести подобные неэтичные или противозаконные поступки в ранг нормы: « Тут в людей можно стрелять, а не бросаться ключами » («Повелитель бури»), « Брэд, ты хоть понимаешь, что дома за такое нас точно бы закрыли» («Поколение убийц»). Нынешние информационные технологии, используемые в медиапродуктах, по сути обесценивают значения кодов, и, по выражению Ж. Бодрий-яра, ценность такого нарратива не больше, чем у «какого-нибудь сонника» [5, с. 25].
Активно осваивается в медиапродуктах англо-американского производства и социокультурная агрессия, которая, согласно Й. Галтунгу [6], представлена религией, языком, идеологией и по сути оправдывает осуществляемое военными насилие: «Культурное насилие ведет к тому, что… насилие начинает выглядеть и восприниматься как справедливое, или, во всяком случае, не дурное дело» [7]. В связи с этим необходимо задуматься о транслируемом мнении, закладываемом во все анализируемые кинопродукты, ведь, «рисуя страшного врага, оно формировало ненависть к нему» [8, с. 30] – традиционному исламу. Западная культурная традиция, противопоставляя себя остальным культурам, пытается «подмять» под себя, «переварить» или растворить в себе других, превращая их в однообразные и индифферентные. «Но исламский мир – единственная культура, которая отрицает западную систему ценностей, систему ценностей эпохи модерна» [9, с. 192]. Именно поэтому сопротивляющиеся завоеванию и несовместимые с западными традициями исламские ценности должны подлежать уничтожению, в том числе посредством медиатекстов. При этом в отечественных кинолентах зритель может наблюдать яркое различие между отношением к традиционному исламу и радикализированным представлением о нем, что может быть связано с политикой мультикультурализма в России.
Кардинально различаются и в эстетическом, и в нарративном проявлениях образы женщин в текстах культуры, а также отношение военных к ним. Героиня фильма «9-я рота» Белоснежка – молодая женщина, отличающаяся фривольным поведением, однако, несмотря на легкодоступ-ность в сексуальном плане, мнение о ней у военных достаточно позитивное: « Киприда! Киприда, из моря выходящая! Богиня красоты! » Другие женские персонажи не прописаны авторами сценария, но упоминания о них обладают уважительными коннотациями. В картине «Грозовые ворота» жена одного из главных персонажей показана меркантильной (« Я выходила замуж за будущего генерала Доронина, а не за вечного Сашку Ротного ») и неверной женщиной, которая уходит от супруга к другому мужчине, сослуживцу героя, имеющему высокий социальный статус. В противовес ей представлена другая женщина, отличительными чертами характера которой являются сила, женственность, мудрость и душевность. При этом институт брака, несмотря на разлады и измены, не осуждается и не критикуется.
В противоположном ключе изображены ситуации в англо-американских кинопроизведениях: « - В этой коробке то, от чего я чуть не погиб. /- И что это, Уилл?/- Мое обручальное кольцо - это то, от чего я мог умереть » («Повелитель бури»). В кинофильме «Морпехи» один из военных собирает сослуживцев для показа порнографического видео и сообщает, что в главных ролях его жена и сосед, при этом только один из коллег высказывается, что необходимо прекратить просмотр по данной причине, остальные одобрили подобное зрелище. По ходу действия осуждается поведение супруги, но не самого военного, решившего показать спорный видеоконтент. Противозаконное и аморальное поведение военных по отношению к женщинам также проявляется в других сценах: « По арабскому телевидению показали одиннадцать американцев, которые убили и изнасиловали арабскую женщину » («Поколение убийц»). Данные сцены не обсуждаются и не осуждаются внутри кинотекста главными героями, что еще хуже, ведь они являются символическими насилием и агрессией.
Различаются и формы отношения к событиям, мотивации нахождения в зоне боевых действий: « Мы будем защищать нефтяные вышки наших друзей. И учтите, нефти здесь много, очень много » («Морпехи») против «- Они что, обкуренные, раз так прут? / - А мы тогда кто, раз так стоим? / - А мы - русские, нам так положено! »; « Мой дед был генералом, причем не штабным, а самым что ни на есть боевым. "Георгием" был награжден, кстати, за Кавказ » («Грозовые ворота»).
Таким образом, можно утверждать, что в российских кинопроизведениях заметно проявлен эстетический эффект при выстраивании образов военных, в то время как в фильмах западного авторства именно агрессивное проведение военнослужащих носит героический характер. «Раз искусство существует посредством знака, а его действенность определяется подражанием, оно может функционировать лишь в системе культуры, а теория искусства выступает как теория нравов. "Нравственное" впечатление, в отличие от "чувственного" впечатления, передает свою силу знаку. <…> Воздействие эстетических знаков может быть определено лишь внутри культурной системы», – отмечает Ж. Деррида [10, с. 374].
Кинофильмы превратились в некие идеальные проекты: в них на экранах в эстетическом вытесняется и воплощается то, что невозможно в реальности, функционируя при этом в качестве желаемого. Кинопроизводство стало сферой, которая позволяет моделировать новые социальные роли, стратегии поведения, расширять границы дозволенного. Именно с помощью медиатекстов через культуру осуществляется проникновение в общественное сознание, транслируемое поведение обретает нормативность, становится частью бытовой культуры, оказываясь в ином контексте, наполняется новым смыслом.
Стоит отметить, что происходящая в рамках глобализации вестернизация культуры в отечественном кинопроизводстве отражается наиболее сильно на построении кадров и использовании эффектов. При этом в анализируемых кинофильмах образы персонажей сконструированы на основании российской ментальности, западные формы поведения не ложатся на образы героев, происходит органическое отторжение. Возможно, трансляции образов военных в отечественном кинопроизводстве свойственны отголоски советских произведений о Великой Отечественной войне, где воины представали в качестве спасителей от «коричневой чумы». «Война на экране – лишь символическая проекция "маркетинговых войн" в борьбе за сознание потребителя при очередной попытке "настройки" его восприятия таким образом, чтобы он увидел в образах "своих" и "чужих" возможность для собственного самоопределения» [11, с. 116]. В связи с этим считаем необходимым поддержание формирования и демонстрации подобных действующих лиц и художественных характеров в целях сохранения культурных ценностей, а также организации соответствующей отечественной культуре системы моральных координат.
Таким образом, можно полагать, что подготовка, разработка и реализация демократических методов воздействия на формируемые в кинотекстах образы представляют одну из главных задач информационной политики – способствуют созданию духовных ценностей, отвечают культурно-историческим и национальным традициям государства.
Ссылки:
-
1. Немченко Л.М., Темлякова А.С. Репрезентация насилия (на материале кинематографа Ульриха Зайдля) // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3: Общественные науки. 2015. № 1 (137). С. 67–73.
-
2. Тищенко Н.В. История ГУЛАГа в современных кинотекстах // Вопросы культурологии. 2010. № 5. С. 55–60.
-
3. Беньямин В. К критике насилия [Электронный ресурс] // RedFlora. 2012. 15 июля. URL: http://www.red-
flora.org/2012/07/blog-post_15.html (дата обращения: 07.05.2019).
-
4. Тарасов К.А. Аттрагирующее воздействие насилия на «большом экране» // Экранизация истории: политика и поэтика / отв. ред. Л.М. Будяк. М., 2003. С. 147–150.
-
5. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака / пер. с фр. Д. Кралечкина. М., 2007. 335 с.
-
6. Gultung J. Selected Works. N. Y. ; L., 1991–1995.
-
7. Ениколопов С.Н. Массовая коммуникация и проблема насилия [Электронный ресурс] // Экология и жизнь. 2014.
-
8. Добренко Е.А. Визуальные стратегии репрезентации войны в советском «художественно-документальном» кино
эпохи позднего сталинизма // ΠΡΑΞΗMΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2015. Вып. 4 (6). С. 28–46.
-
9. Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было / пер. с фр. А. Качалова. М., 2016. 223 с.
-
10. Деррида Ж. О грамматологии / пер. с фр. и вступ. ст. Н. Автономовой. М., 2000. 511 с.
-
11. Сарна А.Я. Глаз и война. Технология насилия в американском кинематографе // Образ и медиум: визуальный текст в массовой коммуникации : сборник статей. Минск, 2012. С. 115–141.
2 мая. URL: (дата обращения: 08.05.2019).
Список литературы Агрессия и насилие: проявление в современных кинофильмах военной тематики (на примере российских и англо- американских кинопродуктов)
- Немченко Л.М., Темлякова А.С. Репрезентация насилия (на материале кинематографа Ульриха Зайдля) // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3: Общественные науки. 2015. № 1 (137). С. 67-73.
- Тищенко Н.В. История ГУЛАГа в современных кинотекстах // Вопросы культурологии. 2010. № 5. С. 55-60.
- Беньямин В. К критике насилия [Электронный ресурс] // RedFlora. 2012. 15 июля. URL: http://www.redflora.org/2012/07/blog-post_15.html (дата обращения: 07.05.2019).
- Тарасов К.А. Аттрагирующее воздействие насилия на «большом экране» // Экранизация истории: политика и поэтика / отв. ред. Л.М. Будяк. М., 2003. С. 147-150.
- Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака / пер. с фр. Д. Кралечкина. М., 2007. 335 с.
- Gultung J. Selected Works. N. Y.; L., 1991-1995.
- Ениколопов С.Н. Массовая коммуникация и проблема насилия [Электронный ресурс] // Экология и жизнь. 2014. 2 мая. URL: http://www.ecolife.ru/zhurnal/articles/25570 (дата обращения: 08.05.2019).
- Добренко Е.А. Визуальные стратегии репрезентации войны в советском «художественно-документальном» кино эпохи позднего сталинизма // ΠΡΑΞΗMΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2015. Вып. 4 (6). С. 28-46.
- Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было / пер. с фр. А. Качалова. М., 2016. 223 с.
- Деррида Ж. О грамматологии / пер. с фр. и вступ. ст. Н. Автономовой. М., 2000. 511 с.
- Сарна А.Я. Глаз и война. Технология насилия в американском кинематографе // Образ и медиум: визуальный текст в массовой коммуникации: сборник статей. Минск, 2012. С. 115-141.