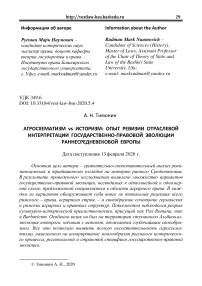Агросхематизм vs историзм: опыт ревизии отраслевой интерпретации государственно-правовой эволюции раннесредневековой Европы
Автор: Тимонин Анатолий Николаевич
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 1 (5), 2020 года.
Бесплатный доступ
Основная цель автора - сравнительно-сопоставительный анализ ревизионистских и традиционных взглядов на историю раннего Средневековья. В результате проведенного исследования выявлено множество вариантов государственно-правовой эволюции, несводимых к однолинейной и одномерной схеме, предложенной специалистом в области аграрного права. В каждом из вариантов обнаруживает себя вовсе не тотальная рецепция всего римского - права, аграрного строя, - а своеобразное сочетание германских и римских аграрных и правовых структур. Повсеместно наблюдался разрыв культурно-исторической преемственности, присущий как Pax Romana, так и Barbaricum. Особенно велик он был на территории «туманного Альбиона», эволюция которого, начиная с истоков, отличается глубочайшим своеобразием. Все это позволило выявить полную несостоятельность агросхематизма, нацеленного на игнорирование многообразия реального исторического процесса, региональной и страновой специфики государственно-правовой эволюции.
Римская империя, варварские королевства, романо-германский синтез, римское право, вульгарное римское право, обычное право германцев, законы варваров, германская правовая терминология, схематизм
Короткий адрес: https://sciup.org/142233526
IDR: 142233526 | УДК: 349.6 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2020.5.4
Текст научной статьи Агросхематизм vs историзм: опыт ревизии отраслевой интерпретации государственно-правовой эволюции раннесредневековой Европы
Казалось бы, наша страна еще в прошлом веке исчерпала свой лимит на революции. Казалось бы, широкая вузовская общественность давно измождена многочисленными «перестройками» и бесконечными «реформами». Не тут-то было. Отдельные коллеги по цеху с упорством, достойным лучшего применения, все твердят о «необходимости» новых преобразований в области истории и теории государства и права. Особую прыть в этом деле проявляет уфимский легист-аграрник М.Р. Габитов. Из журнальной статьи в статью, из публикации в публикацию он кроит и перекраивает историю не только нашей страны, но и всего человечества, а заодно с ними – начальный этап высшего юридического образования. Особым вниманием у него пользуется историко-теоретический цикл высшей школы.
Цель, которую преследуют все «оптимизаторы» истории государства и права, состоит в предельном упрощении и в максимальном ускорении изучения данной учебной дисциплины. При этом качество изложения государствен- но-правового материала, будь то собственно история или же теория истории, для них не имеет никакого значения. Стремясь к достижению столь недостойной цели, «оптимизаторы» готовы кроить и перекраивать историю как им вздумается. При этом степень искажения реального исторического процесса настолько велика, что нередко приводит к ее извращению. «Обуза» и «шум» – вот те неблаговидные эпитеты, которыми Габитов награждает материал, содержащийся в учебниках по истории и по теории государства и права.
Казалось бы, все на свете имеет свои пределы, но, когда сталкиваешься с продукцией М.Р. Габитова, убеждаешься в том, что претенциозность этого типичного представителя агрессивного дилетантизма абсолютно беспредельна. Мало того что «характеристики» представленного им «материала» поражают всякого вдумчивого читателя своей низкопробностью, он, ничуть не сомневаясь, наделяет собственную «простую схему» интернациональным, планетарным характером, приравняв ее к международным нормам [1, с. 41]. Такой подход и его плачевные результаты не имеют ничего общего не только с историей, но и с научной деятельностью как таковой. Кто же, за исключением дилетантов, готов уложить исторический и теоретический материал в «простую, четкую схему» Габитова? Кто из крупных специалистов готов согласиться с тем, что схематизм от Габитова не причинит никакого вреда преподаванию историко-юридических дисциплин? Вопросы, как говорится, риторические.
Свое абсолютное невежество Габитов демонстрирует и тогда, когда повествует о судьбе римского права в эпоху, непосредственно примыкающую ко времени распада Западной Римской империи, говоря «о полном принятии всей римской юридической конструкции, всей системы понятий и терминов с однозначным пониманием смысла, поскольку законы "варварских королевств" были записаны на латинском языке». Действительно, даже Салическая правда – известный каждому школьнику памятник средневекового германского права, на языке оригинала звучал как Pactus legis Salicae, сокращенно Lex Salica. Но этот же документ специалисты стали рассматривать в качестве Свиного кодекса, подчеркивая специфику субъектного состава правоотношений, в котором преобладали простолюдины-франки.
По обоснованному мнению А.Я. Гуревича, одного из самых компетентных медиевистов, все аналоги Салического закона, законы варваров, были предназначены «главным образом для регулирования правоотношений в среде рядовых соплеменников». Поэтому «в варварских Правдах крупное землевладение не находит адекватного или вовсе никакого (как в Салической правде) отражения» [2, с. 127]. Зато целая глава в Lex Salica посвящена землевладению большой семьи, эволюционирующему в индивидуально-семейную собственность, и имеет характерное название «Об аллодах» (De alodis). Гово- ря о тенденции к индивидуализации землепользования, обычно указывают на «расширение круга индивидуальных наследников» путем включения домохозяином в завещание посторонних лиц и возможность передачи им своего имущества в обход прямых наследников [2, с. 141–142].
Совершенно очевидно, что аллод салических франков – это не крупная римская частная собственность на землю, не proprietas или dominium, а прежде всего и главным образом собственность рядовых соплеменников, германская по своему происхождению и правовому статусу. Помимо аллода в законах варваров обнаруживают себя и другие специфически германские термины: ордалий и вергельд, соприсяжничество и судебный поединок, с которыми должен быть знаком всякий выпускник юридического факультета. Любой студент-юрист, тем более кандидат юридических наук, защитивший свою диссертацию по истории аграрного права, обязан принимать во внимание не только феномен романо-германского синтеза, но и его страновую специфику, а также своеобразие исторического пути, пройденного теми европейскими народами, которые развивались вне зоны этого синтеза.
Габитов же, судя по всему, делает вид, что не подозревает о существовании раннегерманской правовой терминологии, отличной от римской. Спору нет, Рим порой предоставлял германским аристократам римское гражданство, римские военные должности и титулы. Если верить Григорию Турскому, «Хлодвиг получил от императора Анастасия грамоту о присвоении ему титула консула» [3, с. 57]. Но Гизо дает этому следующий комментарий: «Хлодвигу вовсе не был присвоен титул консула, на него только надели консульские знаки отличия, часто раздаваемые императорским двором при Византии» [3, с. 371]. Это не помешало Хлодвигу носить звание «достославнейшего короля», короля франков, как правопреемника не римского императора, а вождя соответствующего племени – племени салических франков.
Стоит вспомнить и о процессе доместикации государственной службы, повсеместно протекавшем в ранних германских государствах и приведшем к появлению необъяснимых для поклонника всего римского должностей: конюший, сокольничий, постельничий, стряпчий и т. п. Габитов не в состоянии объяснить и тех очевидных фактов, что столь любимая многими современными отечественными западниками Англия, тогда еще средневековая Англия, оказалась за пределами зоны романо-германского синтеза, а потому ее правовая система не испытала на себе рецепцию римского права. Уже тол ь-ко по этим причинам она не была и не могла быть ни преемницей, ни наследницей Римской империи [4, с. 62].
Романо-германский синтез в каждой западноевропейской стране развивался по-разному. Не был одинаковым он даже в самых романизированных странах, таких как Южная Франция, Италия и Испания. Процесс становле- ния крупного частного землевладения и зависимого крестьянства не проходил в точно таких же условиях, как в позднем Риме, и не был его точной копией. Наряду с романизацией варваров наблюдалась варваризация Pax Romana, которая охватила даже сферу правовой жизни. Именно такой процесс удалось проследить на испанском материале А.Р. Корсунскому: «Во времена Поздней империи во всех ее провинциях, в том числе и в Испании, распространилось вульгарное римское право, содержавшее и некоторые германские элементы. В дальнейшем оно, испытав воздействие обычаев вестготов и свевов, а также местного кельтского и иберского населения, послужило основой для единого законодательства, сложившегося в испанских государствах эпохи реконкисты» [5, с. 5].
Вульгарное право, вульгарная латынь одинаково далеки и от императивов высокой латыни Цицерона, и от параметров классического римского права. Но было ли это право столь же близко и понятно варварам, захватившим бывшие римские провинции, как и самим римлянам? Судя по всему, нет. В противном случае они бы не стали повсеместно создавать свои собственные законы, нередко именуемые в отечественной литературе варварскими Правдами. Многие из них испытали влияние римского права, но повсюду в их основу было положено право обычное. Вот что по сходному поводу писал А.Р. Корсунский: «Законы Эйриха – это в известной мере готское обычное право. Оно не могло быть введено для галлов и испано-римлян в Вестготском королевстве, так как не соответствовало уровню их развития и характеру господствовавших у них социальных отношений» [6, с. 2]. Поэтому галлы и испано-римляне продолжали руководствоваться в своей жизнедеятельности вульгарным римским правом, сохранив, за определенными исключениями, римскую конструкцию частной собственности на землю.
Сложнее ситуация оказалась в германской среде. Германцы, проживавшие среди бывших римских подданных, не могли не усвоить многих римских собственнических представлений. Проблема заключается в том, что «само по себе применение римских терминов proprietas и dominium к владению землей … в правовых источниках варварских королевств еще не означает, что здесь утвердилась частная земельная собственность римского типа». Поэтому аграрный строй варварских королевств Юго-Западной Европы в собственно германской среде характеризуется сохранением германской же формы собственности, которая «удерживала еще некоторые черты родовой собственности». Правда, эта ситуация наблюдалась только в начальный период существования королевств, основанных бургундами, вестготами, остготами, свевами и лангобардами [2, с. 185].
С учетом изложенного очередной агротезис М.Р. Габитова о том, что «с распадом Западной части империи и образованием "варварских коро- левств" частная собственность на землю не исчезла – у земельных участков сменились хозяева, но осталась юридическая конструкция», выглядит очередным упрощением и искажением аграрного строя варварских королевств. Вопреки уфимскому легисту ситуация в аграрно-правовой сфере оказалась много сложнее. Прежде всего, надо отметить одно хорошо известное специалистам обстоятельство: за исключением Северной Италии, завоеванной лангобардами, и Англии, римским земельным собственникам повсеместно удалось сохранить в том или ином виде свою собственность. Особый интерес в этом плане представляет Северная Галлия, захваченная франками. В своем государстве ими «не были отменены ни рабство, ни колонат; не была экспроприирована и земельная собственность галло-римлян» [2, с. 225]. Прежние хозяева земли, владевшие ею на римском праве, сохранились даже в тех варварских королевствах, в которых германские захватчики – бургунды и вестготы – присвоили себе две трети пахотной земли и лесов. Но еще в 1942 г. Н.П. Грацианскому, исследователю королевства вестготов, удалось обнаружить данные, «говорящие о том, что даже многие крупные галльские магнаты очень мало пострадали от готского раздела» [6, с. 17].
Иначе развивались взаимоотношения германцев и римлян в лангобардской Италии конца VI – начала VII в., с территории которой германские захватчики практически вытеснили всех крупных римских землевладельцев. В самых мрачных красках повествовал об этих трагических событиях автор «Истории лангобардов» Павел Диакон. Сообщив о выборах нового короля лангобардов Клефа, Павел Диакон сокрушался по поводу того, что новый владыка «приказал умертвить мечом многих могущественных римлян или изгнал их из Италии». Правление Клефа было недолгим, оно заняло всего шесть месяцев. После его насильственной смерти страна оказалась во власти герцогов. По словам Павла Диакона, «в то время многие знатные римляне были умерщвлены из жажды добычи, остальные были обложены налогом и таким образом были порабощены лангобардским чужакам, что обязаны были выдавать им третью часть своих плодов» [7, с. 20]. Итак, большая часть крупных римских «поместий» оказалась в руках лангобардов, но они владели ими на лангобардском же праве! Те же из римских посессоров, кому удалось сохранить свою собственность, обладали ею на праве римском [8, с. 25].
Обратимся теперь к Британии – наименее романизированной провинции бывшей Римской империи. Именно такой взгляд на степень романизации Британии утвердился и стал общепринятым в отечественной литературе благодаря трудам П.Г. Виноградова и Д.Н. Петрушевского. Иначе себе представляют данный процесс и его последствия для Британии англосаксонские наследники воззрений Фредерика Сибома, которому мерещились многочисленные римские виллы, разбросанные в этой стране повсюду. Вопреки этим ошибочным взглядам, англы, саксы и юты, вторгшиеся сюда с континента, не нашли здесь готовый поместный строй уже потому, что в тогдашней Британии доминировали «чуждые классовому устройству большие семьи и родовые группы бриттских племен». Для целей настоящего исследования важен и вывод М.Н. Соколовой: вовсе не поместье римского типа, а свободная община англосаксов веками определяла социально-экономический и политикоправовой облик английской деревни [9, с. 88, 89].
Равнозначно ли подобное признание отрицанию процесса феодализации англосаксонских королевств? Нет, конечно же. Феодализация в них все-таки происходила, и протекала она при непосредственном и довольно активном участии королевской власти, которая осуществляла земельные пожалования светским аристократам и духовным лицам, передавая им земли на праве бокленда. Каков же реальный правовой статус такого рода пожалований? В каком отношении они находились к римскому праву?
Обратимся к специалистам: «Реальные отношения, складывавшиеся на землях, переданных по грамоте, т. е. пожалованных на праве бокленда (bocland – земля, на которую выдана грамота – bос), мало соответствовали нормам римского права, даже если учесть те изменения, которые оно претерпело в позднеимперский период. Фактически король передавал по грамоте вовсе не землю – она оставалась в руках тех, кто владел ею до пожалования, – крестьян, мелких собственников. Непосредственным объектом пожалования обычно были доходы, собираемые с этих земель королем, – "кормления"» [2, с. 285]. Хотя текстуально подобные грамоты составлялись на основе латинской лексики с использованием римской юридической терминологии, поземельные отношения у англосаксов даже отдаленно ни фактически, ни юридически не напоминали римский аграрный строй.
С годами правовое своеобразие и в других сферах вновь и вновь напоминало о себе каждому вдумчивому исследователю. Так, «в 1236 году знать Англии, собравшаяся в Мертоне, при обсуждении вопроса о незаконных детях высказалась против всяких изменений английских обычаев в угоду чужеземным взглядам (nolumus leges Angliae mutari)». Но, несмотря на противодействие верхов, римское право в том же XIII столетии по-прежнему преподается в английских университетах. Правда, тогда же Генри де Брактону, автору трактата «О законах и обычаях Англии» и систематизатору общего права, пришлось признать «контраст между proprietas (собственность) и possessio (владение)», и этот контраст принудил его «отметить существенную разницу в употреблении этих основных понятий в Риме и в Англии».
Расхождение правовых систем по самым значимым вопросам было очевидно и П.Г. Виноградову, который раскрывает эту мысль следующим образом: «В то время как римский юрист проводит резкое различие между собственностью, как полным и исключительным правом на вещь, и владением, как гарантированным пользованием ею, английский юрист соединяет обе идеи в промежуточное и относительное понятие сезины» [10, с. 240].
Специфика англосаксонского права росла и множилась от столетия к столетию. Со временем оно обогатилось настолько самобытными юридическими терминами, такими как траст, эстоппель, треспасс, что подвигло Р. Давида к выводу: «Термины английского права непереводимы на другие языки, как термины флоры и фауны» [11, с. 281]. Столь же самобытна и структура англосаксонского права. Глубоким своеобразием отличается исторический путь, пройденный этой правовой системой. Не менее специфична система источников права этой правовой системы, в которой мы не обнаружим римского права.
Говоря о рецепции римского права, мало-мальски сведущий в истории автор не станет перечислять все без исключения западноевропейские страны, некогда захваченные Римом, а обязательно вспомнит средневековую Германию и добавит, что только юристы именно этой страны стремились разучиться думать по-немецки и научиться думать по-римски. Другой же, гораздо более подготовленный в истории автор ему возразит, что задолго до немецких юристов и подавляющего большинства средневековых германских государств тот же путь прошли средневековые греки, которые в своем национальном самоотречении превзошли своих предшественников. Достаточно ознакомиться с трудами выдающегося византиниста И.П. Медведева, чтобы понять: свою священную империю греки первыми назвали на римский манер «державой ромеев», а ее столицу - «Вторым Римом». Более того, национальным правом Византийской империи далеко не случайно становится римское право [12]. Не надо забывать и том, что тот самый Свод Юстиниана, который в течение шести веков служил первейшей основой высшего юридического образования всей Западной Европы, вовсе не волей случая появляется именно в Византии. Стоит вспомнить и о том, что свои Новеллы, неотъемлемую часть этого Свода, император Юстиниан писал именно по-гречески.
Таким образом, рецепция римского права как таковая имела место далеко не во всех европейских странах, при всей их «зараженности Римом», а только в Германии. Но самая крупномасштабная рецепция всего римского, включая ведущие римские политико-правовые доктрины, произошла все-таки в той стране, которая на протяжении всего Средневековья оставалась «страной городов», - в Византии. Эта страна, в отличие от многих западноевропейских государств, не знала цезуры - разрыва культурно-исторической преемственности с Римом, веками бережно хранила античное наследие. И в этом плане с нею могли соперничать только Италия и Южная Франция. На это обстоятельство в свое время обратил внимание К. Каутский: «Из всех культур- ных христианско-германских стран цивилизация мировой Римской империи глубже всего укоренилась в Италии и южной Франции. Переселение народов здесь меньше, чем где-либо, разрушило и оборвало преемственную связь с этой цивилизацией…» [13, с. 105].
В странах и регионах, расположенных севернее Италии и олицетворявших до X в. «страну деревень», напротив, наблюдался разрыв цивилизационной преемственности с канувшей в Лету Римской империей. Особенно велик он был на территории «туманного Альбиона», поэтому констатация крайне слабого, поверхностного римского влияния на данной территории давно уже стала общим местом отечественной историографии. Все наиболее эрудированные отечественные исследователи, начиная с Виноградова и Петрушевского и заканчивая А.Г. Глебовым, неизменно подчеркивали и подчеркивают незначительность римского воздействия на эту страну в эпоху раннего Средневековья [14; 15]. Своеобразное продолжение этой мысли в правовой плоскости мы находим в статье Эдгара Боденхеймера, по мнению которого англы, саксы и юты, «в отличие от германских племен на континенте, не использовали западное римское вульгарное право или любую другую часть римского права». Зато они «установили свои собственные законы и обычаи» [16].
Правовой обычай практически всегда локален, казуален, архаичен и, что не менее важно, этничен. Совокупность правовых обычаев повсюду образует феномен обычного права – права неписаного, сохраняющего все отмеченные признаки обычая. Не стало исключением в этом плане право англов и саксов, ведь они, «подобно другим германским племенам, принесли с собой свое родовое право, содержащее характерное для германского родового общества право примирения» [17, с. 194].
Каждый европейский этнос стремился формировать свой собственный свод обычного права, который в отечественной литературе получил характерное наименование «Правды». Труды историков буквально пестрят знакомыми каждому школьнику терминами: Салическая правда, Бургундская правда, Алеманнская правда, Фризская правда, но в них ничего не сообщается об одноименных сводах обычного права, присущих англам и ютам. Хотя мы мало что знаем о праве англосаксонской эпохи, достоверно известно о том, что после принятия христианства и в Англии «законы составлялись так же, как и в континентальной Европе, с тем лишь отличием, что писались они не на латыни, а на англосаксонском языке. Как и другие варварские законы, они регулировали только очень ограниченные аспекты тех общественных отношений, на которые распространяется современная концепция права» [11, с. 261].
Применительно к донормандской Англии и речи не может быть ни о полном принятии всей римской юридической конструкции, ни о рецепции римского права. Непонимание, точнее, незнание реальной истории не только раннесредневековой Англии, но и других стран и народов, свидетельствует о вопиющем невежестве, порождающем отчуждение, отрицание классической университетской традиции, методологии. Перед нами такой вариант деструктивного схематизма, который мог бы быть весьма впечатляющим только в глазах другого дилетанта, к тому же столь же циничного. Надо обладать поистине болезненным воображением, чтобы избрать такой путь развития высшего образования, который чреват растущей варваризацией и деградацией учебного процесса. Однако и сам факт использования автором деструктивного схематизма «журнальной площадки» в качестве действенного средства для пропаганды тотальной вестернизации и «оптимизации» учебного процесса говорит о существовании сильной прозападной тенденции в современном юридическом сообществе, по крайней мере, в отраслевой среде, следствием чего стало появление довольно большого количества статей, написанных дилетантом и потому не имеющих никакой ценности. Любой достаточно хорошо образованный автор, обладающий развитым вкусом, без всякого сомнения и сожаления обменял бы всю эту недостойную продукцию на одну из работ, принадлежащую перу профессионала.
Список литературы Агросхематизм vs историзм: опыт ревизии отраслевой интерпретации государственно-правовой эволюции раннесредневековой Европы
- Габитов М.Р. Введение дизайнерского подхода в юридическое образование // Вестник ВЭГУ. 2018. № 3 (95). С. 33–42.
- История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма : в 3 т. / гл. ред. З.В. Удальцова и др. Т. 1. Формирование феодально-зависимого крестьянства. М. : Наука, 1985. 608 с.
- Григорий Турский. История франков : [пер. с лат.]. М. : Наука, 1987. 461 с.
- Габитов М.Р. Закономерности в правовой истории западной государственности и история российского государства и права : учеб. пособие. Уфа : РИЦ БашГУ, 2008. 264 с.
- Корсунский А.Р. Готская Испания. Очерки социально-экономической и политической истории. М. : МГУ, 1969. 326 с.
- Грацианский Н.П. О разделах земель у бургундов и у вестготов // Средние века : сб. / [АН СССР, Ин-т всеобщ. истории]. М. : Наука, 1942. Вып. 1. С. 7–19.
- Павел Диакон. История лангобардов / пер. с лат. Ю.Б. Циркина. СПб. : Азбука-классика, 2008. 316 с.
- Неусыхин А.И. Общественный строй лангобардов в VI–VII вв. // Средние века : сб. / [АН СССР, Ин-т всеобщ. истории]. М. : Наука, 1942. Вып. 1. С. 20–42.
- Соколова М.Н. Поместье в Англии до нормандского завоевания (о некоторых особенностях раннего английского феодализма) // Средние ве-ка : сб. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1971. Вып. 33. С. 81–89.
- Виноградов П.Г. Очерки по теории права. Римское право в средневековой Европе / под ред. и с биографич. очерком У.Э. Батлера и В.А. Томси-нова. М. : Зерцало, 2010. 279 с.
- Давид Р. Основные правовые системы современности / пер. с фр. и вступ. ст. В.А. Туманова. М. : Прогресс, 1988. 496 с.
- Медведев И.П. Правовая культура Византийской империи. СПб. : Алетейя, 2001. 575 с.
- Каутский К. Предшественники новейшего социализма: Коммунистические движения в Средние века / пер. с нем. И.И. Степанова. 5-е изд. М. : Либроком, 2012. 243 с.
- Петрушевский Д.М. Очерки из истории средневекового общества и государства. М. : Книжная находка, 2003. 512 с.
- Глебов А.Г. Англия в раннее средневековье. СПб. : Евразия, 2019. 286 с.
- Bodenheimer Edgar. The Influence of Roman Law on Early Medieval Culture // Hastings International and Comparative Law Review. 1979. № 1. Vol. 3. P. 9–27. URL: https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1059&context=hastings_international_comparative_law_review (дата обращения: 09.02.2020).
- Аннерс Э. История европейского права / [пер. со шведск. Р.Л. Валин-ский и др.] ; РАН, Ин-т Европы, Швед. Королев. АН. М. : Наука, 1994. 397 с.