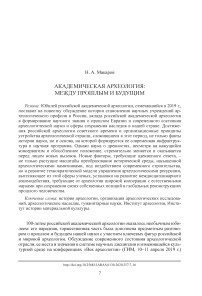Академическая археология: между прошлым и будущим
Автор: Макаров Н. А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 257, 2019 года.
Бесплатный доступ
Юбилей российской академической археологии, отмечавшийся в 2019 г.. поставил на повестку обсуждение истории становления научных учреждений археологического профиля в России, вклада российской академической археологии в формирование научного знания о прошлом Евразии и современного состояния археологической науки и сферы сохранения наследия в нашей стране. Достижения российской археологии советского времени и организационные принципы устройства археологической отрасли, сложившиеся в этот период, не только факты истории науки, но и основа, на которой формируется ее современная инфраструктура и научная программа. Однако наука о древностях, несмотря на кажущийся консерватизм и обособленное положение, стремительно меняется и оказывается перед лицом новых вызовов. Новые факторы, требующие адекватного ответа, -не только растущие масштабы преобразования исторической среды, насыщенной археологическими памятниками, под воздействием современного строительства, но и развитие технократической модели управления археологическими ресурсами, вытесняющее из этой сферы ученых, установки на развитие междисциплинарного взаимодействия, требующие от археологии широкой кооперации с естественными науками при сохранении своих собственных позиций в глобальных реконструкциях прошлого человечества.
История археологии, организация археологических исследований, археологическое наследие, гуманитарные науки, институт археологии, институт истории материальной культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/143171207
IDR: 143171207
Текст научной статьи Академическая археология: между прошлым и будущим
и «Археология в XXI веке» (Президиум РАН, 26–27 июня 2019 г.) оживило протокольные мероприятия. Работа Оргкомитета, сформированного распоряжением Правительства РФ от 11 ноября 2017 г. № 2513-р, дала практические результаты. Проведен конкурс Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на выполнение исследований по теме: «История Евразии в материальных памятниках древности: традиции и современные подходы в археологических исследованиях», организованы два конкурса фонда «История Отечества» в поддержку участия молодежи в археологических экспедициях. Материалы новейших раскопок и архивные документы, раскрывающие историю академической археологии, были широко представлены на выставках, в том числе в залах Государственного исторического музея. Обращение к прошлому археологии, осознание масштабов археологической работы, выполненной в советское время – часто в непростой обстановке, при недостатке средств, – заставили задуматься о новых проектах, столь же амбициозных по своим научным задачам. Идея празднования 100-летия академической археологии как общего юбилея двух институтов, прямых наследников РАИМК– ИА РАН и ИИМК РАН – и многочисленных научных учреждений, возникших на их основе, дала возможность показать общую работу археологического цеха, значение академических институтов как инфраструктуры археологической отрасли при всем разнообразии сложившихся направлений и школ.
История археологии XX в., ее теоретических оснований и полевых открытий в последнее время не обойдена вниманием исследователей. История создания, развития и преобразований Российской академии истории материальной культуры (РАИМК) неплохо изучена, главным образом благодаря работам санкт-петербургских исследователей ( Платонова , 2010; Академическая археология на берегах Невы…, 2013; Клейн , 2014). Московская археология1920–1930-х гг., ее научные идеи, практические занятия и организационное устройство знакомы нам сегодня в меньшей степени, чем археологическая наука Ленинграда этих десятилетий. Отмечая столетие, Институт археологии обратился к своей истории, подготовил издание, раскрывающее становление и развитие различных направлений академической археологической науки в Москве. Книга «Институт археологии. 100 лет истории» впервые представляет целостный обзор истории Института от момента организации Московской секции РАИМК до конца советской эпохи, рассказывая в том числе о развитии его организационной структуры, наиболее значимых открытиях полевой археологии, самых ярких фигурах московского археологического цеха.
Ядром развития института в Москве была московская секция РАИМК, организованная в 1919 г. одновременно с головным учреждением в Петрограде. Однако характер организации археологического цеха в двух столицах был различным, основная масса ленинградских археологов была действительно сосредоточена в РАИМК–ГАИМК, тогда как московские исследователи древностей были рассеяны по разным учреждениям (ГИМ (тогда – РИМ), МГУ, Институт археологии и искусствознания РАНИОН, московские музеи) (Гайдуков и др., 2019). Московская секция РАИМК и сменившее ее в 1932 г. Московское отделение ГАИМК выступали в этой ситуации как структуры, объединившие ученых, имевших общие исследовательские интересы, но не располагавших ресурсами для финансирования их научных занятий. Становление института как академического центра в столице невозможно представить вне связи с широкой средой московских археологов и историков, трудоустроенных в разных организациях, но поддерживавших тесные цеховые связи. Присутствие в этой среде старой университетской профессуры, включая членов закрытого в 1923 г. Московского археологического общества (Д. Н. Анучин, М. М. Богословский, С. В. Бахрушин, Ю. В. Готье, С. К. Богоявленский, А. А. Захаров), было важным фактором сохранения научных традиций московской археологии, у истоков которой стоял А. С. Уваров.
Отсылая к историографическим изданиям за конкретными сведениями об экспедициях, открытиях, публикациях, составляющими привычный для нас образ «академической археологии» советской эпохи, попытаюсь коротко обозначить общее значение того, что сделано РАИМК и академическими институтами для российского общества и мировой науки в XX в.
РАИМК – первое государственное учреждение археологического профиля, для которого при его создании был обозначен приоритет научных задач изучения древностей. Обозначены и задачи сохранения наследия (в археологии они органично связаны), но археология как наука в декрете об учреждении РАИМК – на первом месте. Хорошо известно, что РАИМК первоначально находилась вне системы «Большой академии». Однако присутствие слова «Академия» в названии учреждения ко многому обязывало, ориентировало на решение фундаментальных научных задач и предопределило интеграцию РАИМК в систему институтов АН СССР.
Современная научная картина древней и средневековой истории Северной Евразии, представленная в обобщающих изданиях (и учебниках), создана археологами. Сегодня роль археолога как интегратора знаний о древности, создателя исторических нарративов кажется нам естественной, но так было не всегда. Вышедшая спустя 3 года после образования РАИМК статья А. А. Спицына «Археология в темах начальной русской истории» начиналась словами: «Археология уже имеет нечто сказать и по вопросам начальной русской истории. Правда, мы можем дать пока немного…» ( Спицын , 1995. С. 15). Это скромное признание крупнейшего русского археолога начала XX в. адресовано корифею исторической науки – С. Ф. Платонову, в юбилейном сборнике которого была напечатана статья. Сегодня ответственность академической археологии за целостное научное видение огромной части истории человечества общепризнана. Академическая археология в XX в. выполнила грандиозную задачу объединения различных хронологических разделов науки о древностях (ранее изучение памятников первобытности и позднейших эпох было обычно обособлено), соединения научных знаний об отдельных памятниках, культурах и хронологических периодах в единое историческое полотно.
Академическая археология сделала российские археологические древности важной частью исторического образа нашей страны, значимыми для осознания ее места в мировой истории. Новгородские берестяные грамоты, величественные сопки Старой Ладоги, царские курганы Боспора, палеолитические погребения Сунгиря, «замерзшие могилы» Алтая, шедевры палеолитического искусства, найденные на Зарайской стоянке, постепенно перешли из категории «исторических источников» в категорию «вечных спутников», символизирующих богатство и сложность культурного фундамента современной России. Ученые не только открыли эти памятники, но и сделали их узнаваемыми в мире, раскрыли их выдающиеся художественные качества и культурные «смыслы». Археологические жемчужины нашей страны постепенно становятся все более важными для нашей идентичности.
Академический щит уже сто лет прикрывает наше археологическое наследие. Именно академическая археология взяла на себя ответственность за выстраивание целостной системы его защиты – от участия в разработке правовых основ сохранения древностей до практической организации спасательных раскопок на новостройках. «Научная охрана… вещественных, материальных и бытовых памятников» изначально присутствовала в декрете о создания РАИМК. Принцип соединения в одном учреждении работы по исследованию и сохранению археологических памятников отнюдь не универсален, во многих европейских странах эти функции разделены. Но в России он оказался исключительно продуктивен. Роль главных идеологов защиты археологических древностей в советское время подчас требовала от ученых большого мужества, но академические аргументы всегда имели вес и сопровождались продуманными конкретными предложениями по организации охраны древностей и введению их в современный культурный оборот.
Сила академической археологии советского времени основывалась на твердой убежденности в ценности научного знания о прошлом, в том, что археологические материалы – неисчерпаемый ресурс источников для исторических реконструкций (будь то социальная или этническая история). Общая атмосфера «культа науки», свойственная XX в., не оставляла сомнений, что знание о прошлом, добываемое лопатой, объективно, поддается точной верификации и будет, так или иначе, востребовано в настоящем или в будущем.
Обсуждая исторические альтернативы, правомерно поставить вопрос: а как развивалась бы археология, если бы «головное» учреждение, созданное в 1919 г., было бы не академией, а университетской кафедрой, музейным центром или производственной организацией одного из наркоматов (скажем, Наркомпроса)? Такие варианты были возможны. Вероятно, археология в нашей стране при таких обстоятельствах была бы другой: более ориентированной на выставочные и музейные проекты, нацеленной на решение прикладных задач, практических вопросов сохранения древностей. Но лишенной научной широты, глобальных исследовательских амбиций, которые все же более соответствуют природе Ака-демиии и ее институтов.
Новейшая история археологии была оставлена за рамками юбилейного издания. Однако почти три постсоветских десятилетия – продолжительный отрезок времени, и вовсе уклониться от оценки его главного содержания уже невозможно. Для академической археологии кризисные 1990-е и сменившие их переходные 2000-е были сложным периодом выстраивания новой системы исследования и сохранения древностей, с опорой на сложившиеся структуры и корпоративные традиции, но соответствующей новым социальным реалиям (Макаров и др., 2015). И одновременно – временем обновления исследовательской повестки, формирования новых научных направлений (биоархеология, исследование палеоландшафтов, ГИС, археология Нового времени). Всплеск интереса к национальному прошлому, культурным традициям и этнической истории, обозначившийся после распада Советского Союза, способствовал не только осознанию археологиче- ских древностей как важной части наследия, но и создавал новые угрозы для археологии – от хищнических грабительских раскопок до эксплуатации археологических материалов в паранаучных картинах истории. В этой ситуации академическая археология фактически взяла на себя ответственность как за разработку концептуальных основ сохранения археологического наследия в нашей стране, так и за значительную часть практической работы по сохранению древностей. Три академических института образовали своеобразный каркас археологической отрасли.
Новейший период – время радикального изменения баланса между полевыми работами, связанными с сохранением наследия (в 2018 г. около 70 % открытых листов было выдано на производство спасательных раскопок и обследование землеотводов), и изысканиями, преследующими чисто научные цели, которое нередко воспринимается как сдача позиций фундаментальной науки. Однако расширение объемов разведок и раскопок на новостройках – реализация идей, рожденных в академической археологической среде, последовательно продвигавшей более высокие стандарты сохранения наследия. Обновленное законодательство об объектах культурного наследия сделало нормой археологическую экспертизу земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, и спасательные раскопки памятников, которые в советское время не защищались законом (например, памятников Нового времени). Именно в последние десятилетия, действуя в соответствии с новыми правилами сохранения наследия, российская археология в полной мере открыла для себя средневековые селища и монастыри Московской Руси, средневековые сельскохозяйственные ландшафты и поля сражений. Консолидация отчетной документации обо всех полевых археологических работах, производящихся на территории России, в едином архивном хранилище в Институте археологии РАН обеспечивает единство основного фонда информационных ресурсов российской науки и возможность целостного взгляда на значительные массивы археологических материалов. Соотношение в Архиве ИА РАН отчетов о полевых археологических работах, выполненных в советское (22 870 ед., 34 %) и в новейшее «российское» (44 224 ед., 66 %) время, в определенном смысле отражает общее соотношение объемов археологических изысканий, произведенных в течение этих двух периодов.
Болевые точки современной российской археологии хорошо известны в профессиональной среде. Археологические цехи и органы охраны памятников не смогли пока остановить грабительство на археологических памятниках и незаконную торговлю древностями, хотя принятый в 2013 г. закон № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» способствовал снижению грабительской активности. С ростом спасательных раскопок острой проблемой стала передача новых археологических коллекций в государственную часть музейного фонда – музеи не имеют достаточных площадей для приема новых коллекций, процедура их описания избыточно усложнена. Коммерциализация археологической деятельности, непродуманное использование рыночных механизмов и конкурсных процедур для организации археологических исследований разрушают сложившийся порядок работы и постепенно деформируют самосознание археологической корпорации как сообщества ученых. Решение этих злободневных проблем потребует серьезных усилий, консолидации археологического цеха, подготовки реалистических предложений, соответствующих общим интересам археологической отрасли.
Размышления о будущем науки – органическая часть современных размышлений о глобальных мировых изменениях и прогнозах общественного развития. Наука о древностях, несмотря на кажущийся консерватизм, стремительно меняется: это выражается не только в ее технологическом, инструментальном обновлении, но и более глубоких подвижках, затрагивающих ее фундаментальные обоснования. Будущее археологии подробно обсуждалось на конференции «Археология в XXI веке», организованной ИА РАН совместно с Евразийским департаментом Германского археологического института 26–27 июня 2019 г. Присутствие среди участников ученых из семи стран, представляющих крупнейшие археологические центры Европы, США и Китая, дало возможность высказать широкий спектр мнений о перспективах развития археологии, ее миссии в обществе и месте в науке будущего.
Академическая археология в XXI в. необходима для сохранения в фокусе нашего зрения глобальной истории и культурного многообразия мира, научного видения ценности и специфики отдельных культур, осознания своеобразия отдельных культурных явлений прошлого и собственного колорита отдельных периодов мировой истории. Эта задача становится все более сложной с формированием новой среды обитания, новых урбанистических ландшафтов, новых информационных и медийных технологий, все более отодвигающих на периферию нашего видения материальные следы прошлого. Радикальное преобразование традиционной среды под воздействием стремительного современного развития – само по себе серьезный вызов исторической памяти человечества. Нормы сохранения наследия, регламентированные Валеттской конвенцией и национальным законодательством различных стран, рассматриваются обществом как гарантия того, что потери будут минимальны. Однако возрастающие масштабы вторжения новых инфраструктур в исторические ландшафты в ближайшем будущем потребуют от археологии ответной реакции, разработки новых норм защиты древностей и исторической среды. Прежде всего – новых идей.
Вместе с тем археологическое наследие в XXI в. – не только предмет защиты, но и область конкуренции между наукой и сферой управления культурными ресурсами. Академическая наука в свое время приложила немалые усилия для разъяснения ценности археологических древностей (прежде всего как источника знаний о прошлом), не сомневаясь в своих особых правах на их использование. Однако «капитализация» наследия, организация сложной системы обращения с древностями, регламентированной законодательством, практика коммерческих раскопок на новостройках привели к тому, что археология как наука утратила монополию на распоряжение материальными памятниками прошлого. Археологическое наследие все более воспринимается не как источник знаний, а как часть исторической среды, знак памяти, объект коммерческого использования или источник обременений для хозяйственной деятельности. Сегодня сохранение археологического наследия превращается в самостоятельную отрасль, в которой управленцы, технические специалисты, менеджеры имеют значительно больше влияния, чем исследователи. Научное изучение древностей перестало быть главным содержанием археологической деятельности – мы все чаще определяем границы памятников, ставим их на учет, составляем требуемую законом документацию, в лучшем случае – проводим спасательные раскопки. Тенденция превращения археологической деятельности в сумму технических операций, регулируемых бюрократией, лишает археологию изначального смысла и общественных симпатий. Укрепление позиций науки в организации археологической отрасли и более широкое использование древностей в научных проектах – непременное условие полноценного развития археологии и уважения прав археологического наследия в будущем.
Область взаимодействия археологии и естественных наук находится в центре особого внимания в научных прогнозах как наиболее динамично развивающаяся сфера, в которой можно ожидать значительных прорывов. Мировые открытия, сделанные при исследовании палеоантропологических материалов из Денисовой пещеры, убедительно раскрывают потенциал этого направления ( Krause et al ., 2010; Деревянко, Шуньков , 2015). Российская наука в последнее десятилетие заметно продвинулась вперед в освоении современных методов анализа древних материалов и палеоэкологических остатков, в использовании современных технологий для поиска и документирования древних памятников, в области реконструкции палеосреды с использованием данных естественных наук. Для поддержки исследований на стыке наук большое значение имели проблемно-ориентированные конкурсы РФФИ и инициативы ФИЦ «Курчатовский институт», предоставившего для анализа археологических материалов свое уникальное оборудование. Тематика этих проектов во многом определяется выдающимися и зачастую неожиданными новыми находками, потребностями сохранения необычных и недостаточно изученных памятников. Для отечественной археологии углубление междисциплинарного взаимодействия особенно важно, поскольку даже в настоящее время его развитие сдерживается отсутствием необходимой приборной базы и недостатком отечественных специалистов, готовых выступать партнерами археологов со стороны естественных наук. Однако в мировой археологии общепризнанные установки на поддержку междисциплинарной кооперации сопровождаются сегодня комментариями о сложностях подлинного взаимопонимания между различными дисциплинами, о рисках некорректного использования естественнонаучных данных, о переоценке потенциала палеогенетики в глобальных реконструкциях прошлого человечества.
Выстраивая новый союз с естественными науками, археология в XXI в. должна помнить о своей принадлежности к наукам гуманитарного цикла и ценности своих собственных методов. Было бы опасной иллюзией ожидать, что новое знание о прошлом сегодня должно быть непременно привнесено в археологию извне путем использования исследовательских технологий других наук, без совершенствования собственного инструментария. Традиционные для археологии задачи поиска и выявления материальных объектов, открывающих для нас выдающиеся культурные явления прошлого, далеко не исчерпаны. Стоит напомнить, что новое столетие началось для российской археологии с открытия «Новгородской псалтири» (Янин, Зализняк, 2001. С. 202–209), продемонстрировавшего, с одной стороны, потенциал традиционных классических форм археологической работы (масштабные долговременные раскопки), с другой стороны – неразрывную связь изучения средневековых материальных памятников и текстов. Проблема обеспечения возможно более широкого охвата и упорядочивания растущих археологических материалов не менее острая, чем задачи междисциплинарного синтеза. Размышление о собственных материалах, обновление собственных ресурсов остаются основой археологии. Это со всей очевидностью показали недавние раскопки в Крыму, в округе Пантикапея и Херсонеса, ставшие примером открытия и нового документирования выдающихся погребальных памятников античности на территориях, казалось бы, хорошо знакомых археологам после двух столетий интенсивного изучения (Крым – Таврида…, 2019).
КСИА на двадцать лет моложе РАИМК. Первый выпуск журнала был подписан к печати 27 мая 1939 г. Это тетрадь из 40 страниц, открывающаяся материалами пленума ИИМК, посвященного памяти Н. Я. Марра. Короткое редакционное предисловие излагает программу издания. «Выпуская краткие сообщения о докладах и полевых археологических исследованиях, ИИМК надеется удовлетворить потребность в информации о деятельности Института, существующую среди археологов и историков… В дальнейших изданиях подобного типа Институт будет помещать отчеты о заседаниях секторов и других учреждений ИИМК с кратким изложением прочтенных на них докладов, а также сведения о планах Института и законченных им работах». Основную часть первого выпуска составляют короткие (менее страницы) сообщения о работе экспедиций, сходные с будущими заметками в АО. КСИМК, таким образом, первоначально планировался как чисто информационное издание с короткими публикациями, открывающее исследования Института профессиональной археологической среде и одновременно организующее работу коллектива. Журнал появился в тяжелое, переломное время: преобразованию ГАИМК из отдельного учреждения Наркомпроса в институт АН СССР в 1937 г. предшествовали чистки и репрессии. Появление «Кратких сообщений» открывало новый период развития ИИМК, обозначало перспективы будущих исследований, было своеобразным знаком признания гражданских прав археологии в жестокое предвоенное время. В первых выпусках нового издания мы видим заявки будущих проектов, ключевых для археологии послевоенных десятилетий, – исследований неолитических памятников Европейского Севера, трипольских поселений, средневекового Новгорода.
Четыре номера КСИА, вышедшие в 2019 г., дают представление о том, как изменился журнал вместе с изменением науки и общества, но внимательный читатель увидит и преемственность в структуре издания и характере публикуемых материалов. Нынешние КСИА адресованы более широкой археологической аудитории, журнал не предполагает подробного освещения внутренней жизни Института, в его тематике полновесно представлены новые направления археологии, сформировавшиеся в последние десятилетия. Преемственность – в установке на широкий хронологический и географический охват древностей, быстрое введение в научный оборот кратких результатов больших исследовательских проектов и материалов недавних раскопок, взыскательный отбор статей. В современных информационных потоках короткие тексты вновь становятся важным жанром научных публикаций, соответствующим духу времени. Формат КСИА, таким образом, отвечает как современным запросам, так и издательским традициям академической археологии, сложившимся при образовании ИИМК. Мы рассчитываем, что журнал послужит академической археологии и в будущем, собирая на своих страницах яркие и глубокие материалы.
Список литературы Академическая археология: между прошлым и будущим
- Академическая археология на берегах Невы (от РАИМК до ИИМК РАН, 1919-2014 гг.) / Отв. ред. Е. Н. Носов. СПб.: Дмитрий Буланин. 415 с.
- Гайдуков П. Г., Белозерова И. В., Кузьминых С. В., 2019. Из истории Института археологии РАН в 1920-1940-е годы // Институт археологии РАН: 100 лет истории / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 11-26.
- Деревянко А. П., Шуньков М. В., 2015. Развитие палеолитических традиций на Алтае и проблема становления человека современного вида. Преемственность и трансформации в древних и средневековых обществах по археологическими антропологическим данным // Традиции и инновации в истории и культуре: программа фундаментальных исследований Президиума РАН / Отв. ред.: А. П. Деревянко, В. А. Тишков. М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН. С. 7-12.
- Клейн Л. С., 2014. История российской археологии. Учения, школы и личности. Т. 2: Археология советской эпохи. СПб.: Евразия. 628 с.
- Крым - Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017-2018 гг.: в 2 т. / Отв. ред.: С. Ю. Внуков, О. В. Шаров. М.: ИА РАН, 2019. 2 т. (420 с. + 396 с.)
- Макаров Н. А., Беляев Л. А., Энговатова А. В., 2015. Археология в современной России: перспективы и задачи // РА. № 2. С. 5-15.
- Платонова Н. И., 2010. История археологической мысли в России. Вторая половина XIX - первая треть XX в. СПб.: Нестор-История. 316 с.
- Спицын А. А., 1995. Археология в темах начальной русской истории // Антология советской археологии. Т. I: 1917-1933 / Сост. В. И. Гуляев; ред. Н. Я. Мерперт. М.: ИА РАН: ГИМ. С. 15-20.
- Янин В. Л., Зализняк А. А., 2001. Новгородская псалтирь начала XI века - древнейшая книга Руси // Вестник РАН. Т. 71. № 3. С. 202-209.
- Krause J., Fu Q., Good J. M., Viola B., Shunkov M., Derevianko A., Pääbo S., 2010. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia // Nature. 8, 464. P. 894-897.