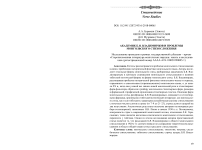Академик Б.Я. Владимирцов и проблемы монгольского стихосложения
Автор: Бурыкин Алексей Алексеевич, Музраева Деляш Николаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 4 (47), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема монгольского стихосложения в связи с проблемами исторической фонетики монгольского языка. Авторы исследуют отдельные формы монгольского стиха, разбираемые академиком Б.Я. Владимирцовым в контексте становления монгольского стихосложения и влияния тибетской поэтической формы на форму монгольского стиха. Б.Я. Владимирцов, рассматривая проблемы исторической фонетики монгольского языка от периода, отраженного в классическом (старописьменном) монгольском языке, и до начала XX в., когда сам ученый вел записи живой монгольской речи и стихотворных форм фольклора, обратился к разбору монгольских стихотворных форм, размеров и формальной строфической организации стихотворных текстов. Описания форм монгольского стиха, разобранных Б.Я. Владимирцовым, совпадают со стихотворными формами, принятыми в тибетской поэтической литературе: для монгольского стиха, как и для тибетского, характерна силлабическая система стихосложения с нечетным числом слогов в строке (от 7-9 до 21-23), строка делится цезурой на два полустишия. Аналогичные результаты получены авторами на материале разбора стихотворений, записанных Н.Н. Поппе в начале 1930-х гг. По-видимому, изохронность строк в современной монгольской поэзии, отмеченная Л.К. Герасимович, также является наследием классического монгольского стихосложения, перенятого у тибетцев. Одним из итогов исследования авторов представленной статьи является то, что разыскания Б.Я. Владимирцова в области монгольского стихосложения в 1920-е гг. соответствовали по содержанию теоретическим разысканиям в области общей теории стиха и русского стихосложения.
Монгольское стихосложение, типология, метрика, силлабическое стихосложение, тибетское стихосложение, строка, цезура, б.я. владимирцов
Короткий адрес: https://sciup.org/149127117
IDR: 149127117 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00065
Текст научной статьи Академик Б.Я. Владимирцов и проблемы монгольского стихосложения
Научное наследие выдающегося российского востоковеда, основателя монгольского литературоведения и фольклористики академика Б.Я. Владимирцева (1884-1931) и сегодня продолжает сохранять актуальность для исследователей, занимающихся разработкой различных аспектов монголоведения. Проблемы типологии и истории монгольского стихосложения, без сомнения, относятся к числу наиболее важных - и одновременно к числу нерешенных и, как ни странно, наиболее дискуссионных проблем истории монгольской литературы во всей ее исторической перспективе. Квалифицированный читатель понимает это из исторического обзора в единственной специальной монографии Л.К. Герасимович [Герасимович 1975, 11-28]. В трехтомном издании собрания сочинений Б.Я. Владимир- цова имеется небольшая заметка «Из лирики Миларайбы», содержащая перевод двух отрывков из сборника гимнов-песнопений («Гур-бум») тибетского поэта XI в. [Владимирцов 2003, 205-207]. В специальной литературе о наследии ученого [Б.Я. Владимирцов... 2015] этот вопрос не затрагивался.
То, что история монгольской поэзии и теория стиха представляют собой взаимосвязанные вопросы и открывают выход к проблеме тибето-монгольских литературных связей, отметил Е.И. Кычанов: «Среди статей о монгольской литературе статья Л.К. Герасимович посвящена поэзии Дулдуйтын Равжи (1803-1856), в творчестве которого наряду с религиозными стихами звучали и светские мотивы. Равжа нередко прибегал к форме сургалов (субхашита), древней индо-тибетской и монгольской форме нравоучительного стиха. Любовная лирика Д. Равжи по своему духу близка лирическим стихам Далай-ламы VI Цаньян Джамцо. Это свидетельствует об общности процессов художественного творчества, о том, что и в тибетской, и в монгольской поэзии наступило время, когда сила дарования, таланта поэта разрывала путы религиозного мировоззрения» [Кычанов 1986, 7].
В названной книге Л.К. Герасимович, составляющей исторический обзор по изучению монгольского стихосложения, упоминаются работы Б.Я. Владимирцова [Герасимович 1975, 19, 21, 22, 27, 29, 118] иН.Н. Поппе [Герасимович 1975, 17, 30, 116-117], однако ни цитируемые авторы, ни сама исследовательница, попытавшаяся решить проблему за счет экспериментального исследования метрики монгольского стиха, не решили вопрос об определении типа монгольского стихосложения и инвентаре единиц для классификации форм монгольской метрики. В связи с этим суждения ученого о форме монгольских стихов, высказанные им в фонетическом разделе его чисто лингвистического труда [Владимирцов 1929], остаются без должного внимания, в то время как они имеют большое значение как для теории стиха, так и для историографии монгольской литературы. Они представляют собой самый ранний и очень ценный опыт характеристики системы монгольского стихосложения.
Б.Я. Владимирцов считал, что истоки монгольского стихосложения лежат в формах монгольского песенного фольклора. Экскурс в историю монгольского стихосложения открывается следующим образом:
«Чаще всего лирические песни халхасов оказываются построенными по принципу равноударного тонического стиха, при чем встречаются трех-, четырех-, пяти- и семи-ударные стихи. Число слогов в стихе, чередование кратких и долгих слогов для стиха не имеют значения, следовательно ни силлабическая, ни метрическая системы к халхаским стихотворениям этого рода неприменимы. При рассмотрении, наир., четырех-ударного и трех-ударного тонического стиха, наблюдаемого в современной халхаской песне, лирической по преимуществу, обнаруживается, что ударение может быть только на первом слоге слова, или на последнем, если он долог и на последнем слоге слов многосложных, т. е. когда оно соответствует халхаскому второстепенному ударению» [Владимирцов 1929, 98-99].
В качестве примеров послужили два образца из песен, которые ученый приводит в авторской фонетической транскрипции, мы же даем в переложении на современную графику:
I. Улаан | тугийг | мандуу|лаад (7 слогов),
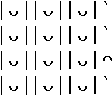
Улсын | сурийг | бадруу|лаад (7 сл.),
Урбса | хулгай | Найда|-вангийг (8 сл.),
Ухас|хийгээд | дарва|ху (8 сл.).
II. Анх(ан) | бага | насан|даа, Ачта | ламдаан | учи|раад, асрал|-дуни | дашуур|-мнай, аруу | сузгээр | шутсэн-|гуй.
МММ' [Владимирцов 1929, 98-99].
Предлагая описание приведенных примеров, Б.Я. Владимирцов пишет: «В обоих этих примерах мы наблюдаем трехстопный хорей с каталекти-сом, и только третий стих первого четверостишия показывает некоторую особенность, объясняемую тем, что песенное стихосложение халхасов исходит из музыкальной основы» [Владимирцов 1929, 99]. Таким образом, Б.Я. Владимирцов как будто бы склоняется к тому, чтобы признать систему монгольского стихосложения - тонической, основанной чаще всего на равенстве числа слов как носителей ударения в роли фонетического центра слова, либо на каких-то пропорциональных или устойчивых вариациях количества ударений в стихотворной строке.
Из анализа приведенного Б.Я. Владимирцевым материала становится ясным, что наряду с равенством ударений (числом слов) в стихотворной строке свою роль в организации стиха играет и число слогов в словах или суммарное число слогов в стихотворной строке. Конкретная форма значимости силлабической (слоговой) структуры строки - это изосиллабизм самих строк или же (что имеет место весьма часто) равносложность слов, образующих стихотворную строку Наблюдаемая и описанная Б.Я. Владимирцевым система организации стиха оказывается и похожей, и непохожей на известные нам системы, и ученый пытается определить ее в терминах науки о стихе.
Б.Я. Владимирцов отмечает:
«Размер | ^ | | ^ | | ^ | ', т. е. трехстопный хорей с каталектисом в монгольских лирических песнях встречается очень часто, при этом число слогов, будь то 7, 8 и 9, не имеет значение. Таким же размером произносят монголы семисложные тибетские стихи. Наир.:

Транскрипция по монгольскому халхаскому чтению (здесь приведена в транслитерации. - А.Б., Д.М.у
Литеральная транскрипция (здесь тибетская транслитерация приведена согласно системе Т. Вайли. - А.Б., Д.М.у chos-rnams thams-cad rgyu-las byung | rgyu-de de-bzhin gshegs-pas gsung | de-la ‘gog-pa gang yin pa | dge-sbyong chen-pos ‘di skad gsung ||
coi-nam | tamjid | ju-la | Jung | « | | « 11
-Г ju-de | de-sin | seg-pa | sung de-la | yoy-ba | yang yin|-ba ge-jong | cin-bo | di yad | sung» [Владимирцов 1929, 100-101].
Очень интересно следующее наблюдение ученого: «В стихотворениях чисто литературных, т. е. возникших в монгольской письменной форме, наблюдаются те же явления из области стиха; монголам приходится только для соблюдения ритма приводить сокращенные формы, не свойственные языку классическому» [Владимирцов 1929, 100-101]. В качестве иллюстрации приводится следующий фрагмент стихотворного текста, состоящий из четверостишия; при этом отмечается, что в первом стихе вместо классического qayan (‘хан’) приводится qan, а в третьем стихе вместо irgen-degen (‘своим подданным’) - irgen-den (усеченная форма притяжа-ния):
manu | boyda | ejen | qan. Manju|-siri-yin | qubil|yan. Manju | mongyol | irgen|-den Masi | yeke | qayira|tai

[Владимирцов 1929, 101-102].
К цитируемому тексту делается примечание: «В данном случае стих построен по тому же принципу: это четырехстопный хорей с каталекти-сом, показывающий что ударение падает на первый слог слова, а второстепенное ударение может падать на последний гласный многосложного слова, в особенности если он долог [Владимирцов 1929, 102].
Наблюдения Б.Я. Владимирцева над размещением и формами реализации ударения в монгольском языке, во-первых, являются самыми ранними в истории науки, во-вторых, они до сих пор сохраняют свою значимость и требуют внимания в перспективе. Однако, как явствует и из материала, и из того, на что направляется внимание исследователя, становится понятным, что ни характер ударения в его силовых или тонических компонентах, ни место ударения в слове - так и не зафиксированное в изучении монгольской фонетики - не играют самостоятельной роли в стиховой организации у монголов.
Продолжая анализ стихотворных образцов, Б.Я. Владимирцов отмечает: «Стихотворения подобного рода представляют из себя четверостишия, при чем стих строится по силлабо-тоническому принципу. Со стороны силлабической стих бывает 9-, 11-, 15- и 19-ти сложным с цезурой после восьмого слога. Со стороны же тонической — это сложный стих: 4, 6 и 8-стопный хорей с заключительным дактилем, наблюдаются случаи, когда хорей не первой стопы заменяется перрихием (в современном стиховедении принята форма термина «пиррихий». - А.Б., Д.М.у» [Владимирцов 1929, 102].
В качестве иллюстрации Б.Я. Владимирцов приводит примеры из монгольского перевода известного сочинения тибетского автора Сакья-панди-ты Гунга-Джалцана (1182-1251) «Субхашита» (санскр. subhasita, тиб. legs-bshad, монг. sayin ugetti erdeni-yin sang), имеющего стихотворную форму. Из этого текста, составленного в XVIII в., приводится такой пример с комментарием:
-
I. erdem|-ud-tin | yeke | sang-tu | merged-ttir:
erdem | kiged | nomlal | inn || quramui:
yeke dalai usun-u sang tulada: qamuY I mored | mon-kii | tende || cidqamui::
«Одиннадцатисложный стих с цезурой после восьмого слога; каждый стих состоит из четырехстопного хорея и одной дактилической стопы» [Владимирцов 1929, 102-103].
С точки зрения русского стихосложения перед нами правильный, даже слишком правильный (без пиррихиев, те. без пропусков ожидаемых ударений) образец четырехстопного хорея с дактилической клаузулой. Однако монгольский текст имеет одну особенность, не характерную для русского стиха, - для него характерна равносложность слов, составляющих стихотворную строку.
В сочинении Сакья-пандиты Б.Я. Владимирцов выделяет примеры, иллюстрирующие его выводы относительно разновидностей монгольского силлабического стиха:
-
II. merged | inu | bilig|-iyer || saki||yulsun | kibesti: dayisun | olan | bolba|su-bar || qami|gaki | deyildemu: erte | pags-rgyal | orun|-daki || bura|man-u || kobegiin: уауса|уаг-кп | qamuy | biikii || dayisun|-iyan | darubai::
«Пятнадцатисложный стих с цезурой после 8-го слога; каждый стих состоит из шестистопного хорея и одной дактилической стопы, при чем в четвертой сто-74

пе второго стиха и шестой третьего хорей заменяется перрихием» [Владимирцов 1929, 103-104].
Как ни странно с позиций метрики, но в приводимых образцах длина строки не связана с ее внутренней ритмической организацией, которая описывается исследователем как последовательность хореических стоп, и из таких же стоп состоят и строки меньшей длины.
Рассмотрим еще одно интересное наблюдение Б.Я. Владимирцева вместе с иллюстрирующим его примером, взятым из грамматики Агван-Дандар Алашанского (XIX в.):
«В монгольской письменности встречаются также девятисложные стихи с цезурой после третьей стопы; первые три стопы - хорей, последняя стопа - дактиль»
eke | Ь1ат-а|-йауап || morgiiged: egil | ulus | tan-u || tusa-dur: ene | metti | iisug||-nugud-i: eblelguljii | bici||stigei bi::
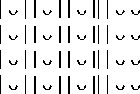
[Владимирцов 1929, 105].
Из анализа этого примера явствует, что роль словоразделов в организации монгольского стиха отличается от той, к которой мы привыкли при анализе русского или европейского силлабо-тонического стихосложения. Мы заметили, что в анализируемых автором примерах стихотворений специальная роль в ритмической организации строки принадлежит словоразделу или межсловной границе, однако выясняется - во всяком случае по объяснениям самого Б.Я. Владимирцева, - что в монгольском стихе кроме словораздела имеется такая функциональная единица, как цезура. Основанием для ее выделения является синтаксическое или синтагматическое членение стихотворной строки - тут нужна ремарка: монгольский стих не знает такого явления, как enjambement - перенос, разрывающий синтагму и размещающий ее в составе двух смежных строк. Таким образом, комбинация хореических и дактилических стоп в строке у монголов - это не европейский дольник с произвольным распределением междуударных интервалов и межсловных границ; похоже, что это своеобразная твердая форма, определяемая ритмом одной строки.
Метрический репертуар выявляемых Б.Я. Владимирцевым монгольских стихотворных размеров или - будем говорить из осторожности - состав разновидностей стихотворных строк, в особенности, если иметь в виду такой яркий признак, как число слогов в строке, оказывается полностью аналогичным тому, что, по мнению А.В. Зорина, характерно для тибетского стихосложения. По его данным, длина строки в тибетском стихе составляет от 7 до 21-23 слогов, и, как правило, число слогов является нечетным [Зорин 2010, 64-66]. Несмотря на то, что встречаются тексты тибетских гимнов, написанные 8-сложником, по мнению А.В. Зорина, это довольно редкое явление, поскольку господствующими размерами, к которым прибегали тибетские авторы, были 7-сложник и 9-сложник [Зорин 2010, 66]. О том, что тибетские поэты использовали преимущественно семисложный и девятисложный размер поэтических строк писали ранее Л.С. Савицкий, исследовавший лирические стихи Цаньяна Джамцо, VI Далай-ламы (1683-1706) [Савицкий 1983], и Д.Н. Музраева на примере творчества тибетского автора ДагпуЛобсан-Данби-Джалцана (1714-1762) [Музраева 2001, 116]. «Тайная» биография Дагпу хорошо известная в востоковедной литературе под кратким названием «Повесть о Лунной кукушке», являет собой образец тибетских сочинений, сочетающих в себе прозаический и стихотворный текст. В стихотворной части автор использует преимущественно семисложный и девятисложный размер поэтических строк, но встречаются также 11- и 15-сложники [Музраева 2013, 33-38].
Для монгольских литераторов-переводчиков XVI-XVIII вв. немаловажным критерием высокого качества перевода являлось строгое следование размеру стиха тибетского первоисточника. Относительно поэтических сочинений самих тибетских литераторов исследователи отмечают, что уже на ранних этапах становления школы переводов с санскрита они проявили стремление к использованию нечетного количества слогов, тем самым как бы отграничивая буддийскую поэзию от народной [Савицкий 1983, 43]; [Зорин 2010, 66].
Вопросы стихосложения были предметом интереса ученика Б.Я. Владимирцева, выдающегося отечественного монголоведа Н.Н. Поппе (1897— 1991). Им были установлены интереснейшие факты, значимые для изучения как фольклорного стиха, так и литературной стихотворной формы, точнее, буддийской устной литературной поэзии. Н.Н. Поппе, представляя итоги экспедиции 1931 г. в Селенгинский аймак Бурятии, опубликовал несколько образцов «дамских» песен. Эту публикацию Н.Н. Поппе предваряет замечанием о том, что количество их ничтожно - «всего 7 на 154 новых, революционных». Приведем фрагмент «дамской» песни:
narikan zoroo borooroo namkan deegyyr tuulajii, natal bancin bogdiigoo namriin seriyynde zalajii!
На тоненьком иноходце-серке проедем по низенькому перевалу, солнце-банчен богдо пригласим в осеннюю прохладу! [Поппе 1934, 8].
В рассматриваемой публикации Н.Н. Поппе ничего не говорит о стиховой форме записанных им текстов. В этих образцах «дамской» поэзии отчетливо определяется семисложник или чередование семисложных и восьмисложных стихов. Аллитерация в виде созвучия начала стихов в этих текстах хорошо заметна, однако не эта черта является их индивидуализирующей характеристикой: аллитерация связывает друг с другом пары стихов, а также, по-видимому четверостишия и даже восьмистишия, и таким образом, выступает средством строфической организации стихотворного текста наряду с количеством стихов в строфе и метрическими характеристиками строфы.
Образцы «дамской» поэзии, к которым, по Поппе, относятся любые тексты с упоминанием каких-либо символов буддийского культа, позволяют поставить неожиданный для начала XXI в. вопрос - а что, собственно, перед нами: фольклор или особая разновидность устной литературы? Подобные тексты являются образцами не социально-специфической словесности, а предметно-специфической словесности, которые априори не могли иметь массового исполнителя, и, вероятно, не имели массового слушателя, на что намекает Н.П. Поппе.
Итак, по примерам, проанализированным Б.Я. Владимирцевым и образцам, опубликованным Н.П. Поппе, основной характеристикой монгольского стихосложения является изосиллабизм. Как и в большинстве национальных силлабических систем стихосложения (к числу которых принадлежит и русское стихосложение до первой четверти XVIII в.), число слогов в стихе является постоянным, так что разные размеры строки не участвуют в процессе образования разных форм строф. Однако монгольская силлабика имеет ряд уникальных характеристик, которые по сути превращают ее в особую систему стихосложения, для которой кроме изо-силлабизма характерны относительная или абсолютная равносложность слов и словоформ, входящих в стихотворный текст. По-видимому это то самое свойство сегментов стиха, что А.М. Хамгашалов называл «словом-стопой» в бурятском стихосложении [Герасимович 1975, И].
По существу наблюдения Б.Я. Владимирцева, поддержанные и в работе Н.П. Поппе, в ином оформлении предваряют обобщения Л.К. Герасимович: «Ведущими ритмическими определителями в ней (системе монгольского стихосложения. -А.Б., Д.М.) выступают: а) изохронность строк, б) примерная равносложность и равнословность строк, в) членение строки на синтагмы, упорядоченные по времени произношения и количеству слогов, г) синтаксический и смысловой параллелизм сопоставимых строк, д) аллитерация, е) рифма» [Герасимович 1975, 123].
Чрезвычайно существенно во всех характеристиках монгольских стихотворных форм то, что для монгольской системы стихосложения, не характерны в отдельности ни равносложность (изосиллабизм), ни равно-ударность (признак простейшей формы тоники) или равнословность (признак, который не считался значимым для систем стихосложения) - специфика этой системы стихосложения определяется названными признаками в совокупности. Фактически Б.Я. Владимирцев выявил все названные выше формальные особенности монгольского стиха, и в этом состоит его огромная заслуга - но объект его внимания оказался настолько сложным, что определить его в сравнении с русским и европейским стихосложением оказалось почти невозможно. Стихотворная форма монгольского типа не обнаруживает аналогов среди русских стихотворных экспериментов, более того, как нам известно, она невоспроизводима или еще не воспроизво- дилась в стихотворных переводах с монгольского на русский язык.
Наблюдения Б.Я. Владимирцева над монгольскими стихотворными текстами и их ритмической организацией, продолженные Л.К. Герасимович, находят свое соответствие в отечественных теоретических работах по стиховедению, написанных еще в 1920-е гг. Одновременно с трудами Б.Я. Владимирцева, Б.В. Томашевский писал в статье, опубликованной в 1928 г: «...рассмотрев три рода ударений, мы видим ясно, что вопрос о закономерном распределении ударений сопровождается вопросом о членении речи на слова и фразовые единицы» [Томашевский 2007, 36]. Далее Б.В. Томашевский оценивает подходы к стиху в общей теории:
«В общей теории стиха необходимо учитывать две самостоятельные проблемы: 1) учение о стихе, как некотором специфическом речевом единстве, 2) учение о внутренней мере стиха.
Первая из этих проблем только в последнее время начинает привлекать внимание. До сих пор теория стихосложения, собственно говоря, сводилась к теории стопосложения. В самом деле - очевидным и основным признаком русского стиха считалось то или иное взаиморасположение ударных и неударных слогов» [Томашевский 2007, 53].
Как мы видим, поиск стоп в монгольских стихотворениях не дал выразительных результатов, и мы знаем, что монгольская система стихосложения - это не силлабо-тоника и не мерное стихосложение античного типа. Назвать ее особым логаэдом, признаком которого является характер строки, исследователи, похоже, не решались.
Изучение природы монгольского стихосложения в связи с фонетической системой и просодикой монгольского языка, начатое Б.Я. Владимирцевым, было совершенно корректным в методологическом плане. Б.В. Томашевский отмечал: «Двойная проблема стихосложения - проблема организации стиха как целого и организации его внутренней ткани - совпадает с анализом, с одной стороны, фонетических элементов, принадлежащих слову (лексических акцентов), и элементов, принадлежащих фразе (фразовых акцентов). <...> В стихе мы имеем организованную иерархию членения (например, полустишие, стих, полустрофа, строфа), и соответствующие единицы действительно соответствуют друг другу, действительно выделяются, действительно сравнимы между собой» [Томашевский 2007, 59-60].
В заключение надо сказать о том, что Б.Я. Владимирцев в своем исследовании монгольского стиха явно ориентировался на современные ему стиховедческие исследования. Единицы членения стиха, перечисленные Б.В. Томашевским, играют важнейшую роль в организации монгольского стихосложения по крайней мере для тех образцов, которые были положены представителями первого поколения монголоведов-стиховедов. Результаты наблюдений Б.Я. Владимирцева оказались исключительно перспективными для анализа монгольских стихотворных текстов и для
опыта формализации системы монгольского стихосложения, что, как можно утверждать, позволило выявить уникальность монгольской системы стихосложения.
Список литературы Академик Б.Я. Владимирцов и проблемы монгольского стихосложения
- Б.Я. Владимирцов -выдающийся монголовед ХХ века: сборник статей. СПб., 2015.
- Владимирцов Б.Я. Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия. Введение и фонетика. Л., 1929.
- Владимирцов Б.Я. Из лирики Миларайбы//Владимирцов Б.Я. Работы по литературе монгольских народов. М., 2003. С. 205-207.
- Герасимович Л.К. Монгольское стихосложение: опыт экспериментальнофонетического исследования. Л., 1975.
- Зорин А.В. У истоков тибетской поэзии. Буддийские гимны в тибетской литературе VIII-XIVвв. СПб., 2010.
- Кычанов Е.И. Предисловие//Mongolica. Памяти акад. Б.Я. Владимирцова. М., 1986. С. 3-9.
- Музраева Д.Н. К вопросу о структурно-композиционном построении тибетских стихов (на материале «тайной» биографии sTag-phu-ba Blo-bzang Bstan-pa'i rGyal-mtshan'а)//Вестник КИГИ РАН. 2001. № 16. С. 115-122.
- Музраева Д.Н. Тибето-монгольская повествовательная литература XVII-XVIII вв. (Переводные письменные памятники на монгольском и ойратском языках). Элиста, 2013.
- Поппе Н.Н. Язык и колхозная поэзия бурят-монголов Селенгинского аймака. Л., 1934.
- Томашевский Б.В. Стих и ритм. Методологические замечания//Томашевский Б.В. Избранные работы о стихе. СПб., 2007. С. 53-74.
- Савицкий Л.С. Введение//Цаньян Джамцо. Песни, приятные для слуха/изд. текста, перевод с тиб. Л.С. Савицкого. М., 1983. С. 12-100.