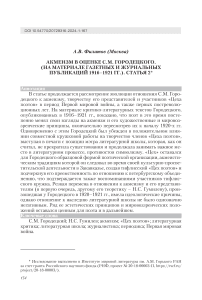Акмеизм в оценке С.М. Городецкого (на материале газетных и журнальных публикаций 1916-1921 гг.). Статья 2
Автор: Филатов А.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
На материале критико-литературных текстов Городецкого, опубликованных в 1916-1921 гг., показано, что поэт в это время постепенно менял свои взгляды на акмеизм и его художественные и мировоззренческие принципы, окончательно пересмотрев их к началу 1920-х гг. Одновременно с этим Городецкий был убежден в положительном влиянии совместной кружковой работы на творчество членов «Цеха поэтов», выступая в печати с позиции мэтра литературной школы, которая, как он считал, не прекратила существования и продолжала занимать важное место в литературном процессе, противостоя символизму. «Цех» оставался для Городецкого образцовой формой поэтической организации, акмеистическим традициям которой он следовал во время своей культурно-просветительской деятельности в Закавказье, создав тифлисский «Цех поэтов» и подчеркнув его преемственность по отношению к петербургскому объединению, что подтверждается также воспоминаниями участников тифлисского кружка. Резкая перемена в отношении к акмеизму и его представителям (в первую очередь, другому его теоретику - Н.С. Гумилеву), произошедшая у Городецкого в 1920-1921 гг., имела идеологические причины, однако отношение к наследию литературной школы не было однозначно негативным. Ряд ее эстетических принципов и мировоззренческих положений оставался ценным для поэта и в дальнейшем.
С.м. городецкий, н.с. гумилев, акмеизм, «цех поэтов», литературная критика, литературная школа, журналистика, периодика, первая мировая война
Короткий адрес: https://sciup.org/149145267
IDR: 149145267 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-167
Текст научной статьи Акмеизм в оценке С.М. Городецкого (на материале газетных и журнальных публикаций 1916-1921 гг.). Статья 2
Рассмотрев в предыдущей статье отношение С.М. Городецкого к акмеизму в 1914–1915 гг., в данной работе мы обратимся к его газетным и журнальным публикациям последующих лет и проследим, как продолжала меняться оценка этой литературной школы у одного из ее основателей.
Занявшись в 1915 г. организацией поэтической группы «Краса», а затем литературно-художественного общества «Страда» (подробнее об этом см.: [Щербакова 2013, 193–204]), Городецкий на время перестает внимательно следить за творчеством бывших участников «Цеха поэтов». Однако уже в 1916 г. критик посвящает разбору их произведений две обзорные статьи в журнале «Лукоморье», сходство названий которых («Поэзия для себя» и «Поэзия как искусство») дает основание рассматривать их как критико-литературную дилогию. В ней Городецкий стремится уже с хронологической дистанции оценить роль в современном литературном процессе акмеизма как явления, на первый взгляд уже «закончившего свой круг развития».
Размышляя о предвоенном поколении в современной русской поэзии в статье «Поэзия как искусство», автор замечает, что оно «дало целый ряд поэтов, имеющих редкое право именоваться школой . Неважно, как называли и называют себя эти поэты, – акмеистами, адамистами, цеховиками – неважно, что уже более года, как окончилась их совместная, кружковая работа. Важно, что в 11, 12 и 13-м гг. нашелся круг людей, решивших мобилизовать свои обособленные силы. В этой поэтической мобилизации смело можно видеть прообраз и предчувствие всеобщей русской мобилизации четырнадцатого года» (курсив во всех цитатах наш. – А.Ф.) [Городецкий 1916b, 19].
Здесь творчество поэтов круга акмеизма в целом оценивается критиком положительно и напрямую связывается с патриотическим подъемом в обществе. Как видим, социально-политические взгляды Городецкого в период войны по-прежнему имеют в его сознании устойчивую ассоциацию с акмеистической программой. Во многом поэтому автор статьи не отрекается от своего литературного прошлого, кратко и с явным одобрением напоминая о художественных принципах школы, многие из которых были сформулированы именно на заседаниях «Цеха поэтов»: «Цех поэтов работал дружно и энергично. Поэзия понималась в нем, как искусство, и притом искусство трудное, требующее знаний и сноровки. Недаром цеховики любили сближать поэзию с архитектурой, в противовес своим предшественникам, символистам, сближавшим ее с музыкой (и музыкой бесформенной, музыкой шумов). Под руководством двух “синдиков” молодежь училась владеть своим вдохновением, достигать полнозвучного образа, строить поэму так, чтобы она не разваливалась» [Городецкий 1916b, 19].
Первым плодотворным результатом этой работы Городецкий называет заслуженный успех книги А.А. Ахматовой «Четки» (1914), вновь выделяя ее из всех акмеистов, а затем переходит к обзору книг, выпущенных «цеховиками» в 1916 г. Наиболее высокой оценки критик удостаивает книгу Н.С. Гумилева «Колчан», акцентируя внимание на положительной роли поэтического кружка в развитии его таланта: «…Гумилев не без пользы для себя работал с Цехом. Несколько жесткое от природы и сухое его дарование, к тому же тренированное на бескровных образцах Брюсова, грозило сделаться похожим на Сахару. Но Цех, как ручей жизни, вырастил оазис на месте южной пустыни. В “Колчане” экзотический талант Гумилева дает много прекрасных своеобразных цветов» [Городецкий 1916b, 19]. Особенной похвалы критика удостаиваются военные стихи поэта, которые, как и ранее при сопоставлении со стихами Ф. Сологуба, выделяются «документальностью и чувством переживаемых событий» [Городецкий 1916b, 20]. При этом Городецкий считает важным отметить, что Гумилев – «кавалер двух степеней ордена Св. Георгия, полученных за нынешнюю кампанию» [Городецкий 1916b, 19].
В целом положительную оценку получает у автора статьи второе издание книги стихов О.Э. Мандельштама «Камень»: «Он покрыт мозолями и потом, этот “Камень”, но так и должно быть, ибо работа, совершенная этим упорным и талантливым учеником Цеха и состоящая в одолении и усвоении русского языка, огромна» [Городецкий 1916b, 20]. Отмечая частные недостатки поэтической техники Мандельштама («мнимый лаконизм, осторожность в употреблении придаточных предложений, известная ломкость скрепок (союзов), ограниченность словаря»), критик на этот раз ставит автора «Камня» выше многих других участников школы, признавая в нем зрелого поэта. Симптоматично, что и в данном случае творческий успех Мандельштама осмыслен как во многом результат его кружковой работы. Городецкий тем самым намеренно идеализирует «Цех поэтов», представляя его в виде образцовой поэтической организации, чье влияние на участников может быть исключительно благотворным. Неслучайно в негативной рецензии 1914 г. Мандельштам был назван «учеником Гумилева» (см.: [Филатов 2023, 138]), тогда как в положительном контексте он получает характеристику «ученик Цеха».
Совсем иначе Городецкий оценивает новые книги стихов Г.В. Иванова, Г.В. Адамовича и М.Л. Лозинского, к творчеству которых он и ранее относился критически. В ивановском «Вереске» рецензент находит «что-то старческое, желающее помальчишествовать». «Откуда эта расслабленная дряхлость, это подагрическое благодушество, эти туфли и халаты в молодом поэте?» [Городецкий 1916b, 20] – вопрошает критик, намекая, что подобные настроения оказываются в корне противоположны акмеизму как «расцвету всех духовных и физических сил». Цитируя стихотворение «Все в жизни мило и просто…», Городецкий обвиняет Иванова в отсутствии искренности и напускном цинизме, добавляя, что «в Цехе за такие стихи не погладили бы по головке» [Городецкий 1916b, 20]. Похожие замечания он делает в адрес «Облаков» Адамовича, находя у поэта подобные «декадентские» настроения, однако все же отмечая, что в ряде стихотворений он «не чужд поэзии как искусства» [Городецкий 1916b, 20].
Другой упрек в нарушении акмеистической программы получает «Горный ключ» Лозинского, в лирике которого Городецкий, как и прежде, находит «много темной словесности». Приводя в качестве примера строфу из стихотворения «Мысль», он восклицает: «Ведь это чуть ли не Вячеслав Иванов, отец тьмы словесной. Ведь здесь толмач нужен! Ведь тут разыскивать надо подлежащее и сказуемое, сами они не дадутся! Тщетно Цех учил “прекрасной ясности”: Лозинский не внял» [Городецкий 1916b, 20]. Причину этого критик видит в сильном влиянии на автора поэтики символизма, неслучайно упоминая своего бывшего учителя Вяч. Иванова, однако с надеждой ожидает новых стихотворений поэта: «Ибо ничто так не наставляет заблудившихся душ на путь истинный, как современные события» [Городецкий 1916b, 20], – заключает он, имея в виду Первую мировую войну.
Городецкий не рассматривает книги стихов Адамовича и Лозинского подробно, поскольку двумя месяцами ранее – в феврале 1916 г. – уже говорил о них в статье «Поэзия для себя», где выступил с еще более резкой критикой. Так, автор «Облаков», по его мнению, «болен неврастенией» и «ничуть не стесняется своей скудости, памятуя пословицу, что на нет и суда нет», в то время как автор «Горного ключа» «лелеет слова, убаюкивает рифмами, выискивает образы. Но жутко смотреть, на что он тратит время и талант. <…> Холодом и мраком веет от этого каземата. Подобный эстетизм хуже всякого нигилизма» [Городецкий 1916а, 15].
Вывод, к которому Городецкий пришел в связи с творчеством Адамовича и Лозинского в этой, более ранней статье, был неутешителен: «Оба эти поэта прошли школу поэзии в “цехе поэтов”. И талант, и умение у них есть, а в результате – ноль, стихи для себя» [Городецкий 1916а, 15]. Однако уже в следующей публикации эта критическая тональность сглаживается оптимистическим финалом: «Мы уверены, что все эти поэты, когда с них сотрется отпечаток школьности, так раскроются и разовьются, что их, особенно на фоне литературной неразберихи, где все всё растеряли, можно будет считать, правда, юной, правда, небольшой, но школой, выросшей под светлым знаменем поэзии как искусства» [Городецкий 1916b, 20].
На наш взгляд, подобным выводом Городецкий выражал свою уверенность в жизнеспособности акмеистической программы, сформулированной им и Гумилевым в период деятельности «Цеха поэтов» и теперь самостоятельно (а потому с различным успехом) развивавшейся в творчестве его бывших участников. Критик был убежден в благотворном влиянии кружковой работы и художественном потенциале созданной литературной школы, о чем говорит и общая для обеих статей идея движения от «поэзии для себя» к «поэзии как искусству», представляющая собой перифраз движения от символизма к акмеизму, история которого, как, судя по всему, считал на тот момент Городецкий, была еще далека от завершения. По-видимому, к этой школе поэт по-прежнему относил и себя, что хоть и не заявляется прямо, но подразумевается общим содержанием статей, а также несколько «наставительным» тоном автора, выступающего в обеих публикациях с прежней позиции мэтра.
К моменту выхода статьи «Поэзия как искусство» в апреле 1916 г. Городецкий уже находился на Кавказском фронте, куда отправился в качестве корреспондента газеты «Русское слово». Военные, а затем и революционные события, пережитые поэтом в Закавказье, на некоторое время отдалили его от литературной жизни Петрограда. Тем не менее даже в этой ситуации он старался внимательно следить за творчеством своих бывших коллег. Так, в обзоре литературы за 1917 г., вышедшем в газете «Кавказское слово», Городецкий упоминает драматическую поэму Гумилева «Гондла», давая ей по-акмеистически взвешенную оценку: «Лучшее в ней – стих, более свободный, легкий и звучный, чем обыкновенно это у поэта. Слабее дело обстоит с построением драмы, несколько запутанным и неразрешенным» [Городецкий 1918а, 5]. Однако уже в 1918 г. критик считает гумилевскую «линию» в «Цехе поэтов» менее значимой, чем свою собственную: «…можно упомянуть еще об одной струе, которая в самое последнее время определилась в после-символических школах. Я говорю о парнассизме. Он свил себе гнездо в цехе поэтов, где наряду с устремлением к недрам русского языка (Зенкевич, Нарбут (лидером этого левого крыла акмеизма был сам Городецкий. – А.Ф.)), появилось течение, выдвигавшее, как образец, поэзию Теофиля Готье (Гумилев, Мандельштам). После перевода Гумилевым книги “Эмали и Камеи” это течение несколько распространилось. Его сторонники противоставляли верленовской музыке требование внешней скованности стиха, лиризм они заменяли продуманностью, искренность – искусственностью, от образа они требовали не музыкальной эмоции, и пластической неподвижности» [Городецкий 1918b, 2]. Хотя критик и говорит далее о пользе парнассизма как реакции на излишнюю поэтическую музыкальность, зачастую скрывающую недостатки стихов начинающих авторов, он все же считает его временным и второстепенным явлением литературного процесса: «Большего значения этому течению придавать нельзя. Сыграв свою педагогическую роль, оно отойдет в тень, потому что корней для него в русской поэзии нет: никогда русская муза не отдаст за холод формы горячность чувства» [Городецкий 1918b, 2]. Такое отношение к эстетической программе Гумилева и его влиянию на молодых поэтов, тем не менее, не мешало Городецкому отмечать важную роль «Цеха» и его участников в организации литературной жизни в постреволюционном Петрограде, ср.: «Энергичную деятельность развивает литературное общество “Арзамас”, ядром которого послужил цех поэтов. В нем работают Александр Блок, Анна Ахматова, Н. Гумилев и мн. др.» [Городецкий 1918с, 3] (подробнее об истории этого общества см.: [Мец 2022, 372–393]).
Идея поэтической организации, продолжающей традиции акмеизма, была реализована самим Городецким в период культурно-просветительской работы в Тифлисе. Именно там в апреле 1918 г. под его руководством создается тифлисский «Цеха поэтов» (подробнее см.: [Закарян 2011]), само название которого подчеркивало преемственность по отношению к одноименному петербургскому кружку. Об этой же связи говорилось на открытии организации 12 апреля: «Председатель С.М. Городецкий познакомил собравшихся с петроградским цехом поэтов и задачами акмеизма . Затем читали стихи члены цеха <…> В обсуждении принимали участие С.М. Городецкий, Юрий Деген, Владимир Пруссак, А. Селиханович, Гр. Робакидзе, К.Д. Зеленский, А. Антоновская и др.» [Артистериум 1918, 73]. Структурно тифлисский «Цех» также являлся «наследником» петербургского, объединяя как рядовых участников (молодых поэтов), так и «экспертов» – известных литераторов, участвовавших в обсуждении стихов, а также выступавших с докладами (см.: [Закарян 2011, 11–13]). Ведущее же положение «синдика» на собраниях занимал Городецкий, уделявший особое внимание вопросам не только художественного содержания, но и формы. Как вспоминает поэтесса Р. Погосян, встречи «Цеха поэтов»
«были той школой, где мы приобщались к тайнам поэтического мастерства. Затаив дыхание, мы слушали нашего учителя, большого знатока стихосложения. <…> Сергей Митрофанович придавал огромное значение форме выражения . Он мог часами говорить о структуре стихотворной строки, о размерах и о рифмах, об ассонансах и аллитерациях, обо всем том, что придает певучесть поэтической речи. <…> Без преувеличения можно сказать, что наши поэтические “среды” были настоящей школой стиха» [Погосян 1964, 64–65].
Схожие впечатления оставил другой участник тифлисского «Цеха», Г. Эристов. По его словам, Городецкий «сумел организовать настоящую школу поэтов. На еженедельных собраниях цеха все поэты читали свои произведения, каждое из которых “разбиралось по косточкам” и с точки зрения формальной и по содержанию. Жестокая по беспристрастности и дружеская критика несомненно приносила большую пользу, помогая поэтам “расти”» [Эристов 1962, 31–32]. Очевидно, что созданный Городецким кружок напрямую продолжал акмеистические традиции, в том числе и относящиеся к «парнассизму» Гумилева. Вполне закономерно, что вышедший в 1919 г. «Первый сборник тифлисского цеха поэтов» получил название «Акмэ». Участие в нем принял сам руководитель организации, а также его супруга А.А. Городецкая – под псевдонимом Н. Бел-Конь-Любомирская.
К годовщине тифлисского кружка в апреле 1919 г. Городецкий опубликовал в газете «Закавказское слово» статью об истории петербургского «Цеха поэтов», сделав акцент на преемственной связи двух организаций. Полагая теперь, что первый «Цех» «не сделался всеобъемлющей школой, он не объединил всего поколения поэтов, хотя стремился к этому» (цит. по: [Тименчик 1974, 26]), автор останавливается на одном существенном недостатке акмеистической программы: «В <…> непосильной для молодой школы задаче – обосновать мировоззрение, – была главная ошибка акмеистов, вполне, впрочем, объясняемая задором молодежи» (цит. по: [Тименчик 1974, 25]). Таким образом, поэт частично отказывается от собственной концепции, отразившейся в рецензиях военных лет, признавая за акмеизмом сугубо художественные задачи. В то же время Городецкий по-прежнему положительно оценивает влияние «Цеха поэтов» на русскую литературу: «Если даже ограничить его победы тремя: шлифовкой и оживлением таланта Гумилева, созданием Ахматовой и порождением Мандельштама, то и это далеко не мало. Ведь, кроме общепризнанных побед, в плюс надо поставить и огромное, не поддающееся учету оздоровляющее влияние Цеха не только на всех молодых поэтов, но, пожалуй, и на самих символистов <…> И если война раздробила и рассеяла Цех, то его принципы стали семенами, готовыми взойти повсеместно » (цит. по: [Тименчик 1974, 27]). Как и в более ранних публикациях, Городецкий не проводит жестких границ между «Цехом поэтов» и акмеизмом, называя последний «результатом коллективной работы группы молодых поэтов, резвившихся под перекрестными влияниями» (цит. по: [Тименчик 1974, 27]): «Приблизительно на втором году определился ряд положений, который спаял наше общество уже как школу» (цит. по: [Тименчик 1974, 28]).
В таком же, пока еще одобрительном контексте принципы акмеизма упомянуты в рецензии Городецкого на «Белую стаю» (1917) Ахматовой, которая появилась 19 января 1920 г. в издававшейся в Баку газете «Понедельник», куда поэт переехал к концу 1919 г.: «Анна Ахматова – одно из интересных дарований, взращенных петербургским цехом поэтов. В настоящее время она является вполне определившимся поэтом с ярко выраженной индивидуальностью, с своеобразной техникой. <…> Петербургский цех ставил своей задачей вывести поэзию из дебрей мистики и символизма и вернуть ее к жизни, к предметности, к миру. Восприняв эти идеи, Анна Ахматова применила их к изображению движений современной женской души» [Городецкий 1987, 553–554]. Отметим, что рецензируемая книга стихов заинтересовала Городецкого еще раньше, о чем можно судить по его реакции на статью С. Рафаловича о ней: «Хотелось бы больше цитат из новой книги Ахматовой – “Белая стая”, о которой критик рассказывает. По-видимому, в этой книге есть настоящие перлы лирики…» [Городецкий 1919, 2]. В качестве примера такого стихотворения поэт приводит «Молитву» (1915), почтительно называя ее автора «меланхолической Сафо наших дней» [Городецкий 1919, 2].
Вероятно, в бакинской газете была дана последняя положительная оценка творчества Ахматовой, высказанная Городецким в печати. Впоследствии он, вторя советской критике, будет называть ее «контрреволюционной поэтессой» (см.: [Тименчик 2010, 48–50]).
Это же резко оценочное и политизированное определение Городецкий использовал в некрологе о Гумилеве, напечатанном спустя полтора года в бакинском журнале «Искусство» (октябрь 1921 г.), обозначив тем самым свою перемену в отношении к погибшему поэту: «По сообщению “Красного Балтийского Флота”, в Петербурге расстрелян Николай Гумилев. Контрреволюционное болото петербургской интеллигенции погубило незаурядный талант и упорного литературного работника» [С.Г<ородец-кий>. 1921, 59]. С этой позиции критик пересматривает творческий путь бывшего соратника: «…бездушная формальная эстетика аристократии затягивала его все больше. Он делается одним из руководителей журнала “Аполлон”, этой могилы вдохновения и творчества. Гумилев дает одну за другой хорошие работы <…>, но связанность со старым миром рано делает его литературным стариком. Он основывает школу акмеизма, дает таких талантливых учеников, как Мандельштам, но холодный академизм закрывает ему дорогу к будущему <…>. Давно погибши творчески, он гибнет и физически. Певец буржуазии уходит вместе с ней» [С.Г<ородецкий>. 1921, 59]. И хотя акмеизм здесь не подвергается прямой критике, но общий инсинуационный тон некролога, обвинение Гумилева в чрезмерном внимании к формальной стороне творчества и приписывание ему одному создания литературной школы маркируют резкий сдвиг в оценке этого поэтического явления в глазах Городецкого. Примечательного, что автор некролога вновь ничего не сообщает ни о своей роли сооснователя акмеизма, ни о своих когда-то близких отношениях с Гумилевым. Чтобы не напоминать об этом читателю, он даже подписывает публикацию инициалами «С.Г.», прекрасно понимая, что его фамилия может вызвать у современника прямые ассоциации с погибшим поэтом и созданной им литературной школой. При этом полная подпись «Сергей Городецкий» указана под напечатанным на предыдущей странице того же номера некрологе об А.А. Блоке.
Таким образом, в течение Первой мировой войны и первых постреволюционных лет Городецкий постепенно менял свое отношение к акмеизму и его художественным и мировоззренческим принципам, однако окончательно они были пересмотрены им только в начале 1920-х гг. В то же время критик был убежден в положительном влиянии кружковой работы на творчество бывших участников «Цеха поэтов», выступая в печати с позиции мэтра литературной школы, которая, по его мысли, не прекратила существования и все еще занимала важное место в современном литературном процессе, противостоя символизму. «Цех» оставался для Городецкого образцовой формой поэтической организации, акмеистические традиции которой он продолжал во время своей культурно-просветительской деятельности в Закавказье, создав тифлисский «Цех поэтов» и подчеркнув его преемственность по отношению к петербургскому кружку, что подтверждается воспоминаниями участников этого объединения. Резкая перемена в отношении к акмеизму и его представителям (в первую очередь, Гумилеву), произошедшая у Городецкого в 1920–1921 гг., была связана с его идеологической перестройкой. Тем не менее отношение Городецкого к наследию акмеизма не имело однозначно негативного характера. Ряд его эстетико-философских принципов и положений оставался ценным для поэта и в дальнейшем, на что, в частности, указывает создание им бакинского (1919–1920) и московского (1924–1925) «Цехов поэтов». Изучение этих организаций и их литературных платформ может пролить свет на дальнейшую эволюцию отношения Городецкого к акмеизму.
Список литературы Акмеизм в оценке С.М. Городецкого (на материале газетных и журнальных публикаций 1916-1921 гг.). Статья 2
- Б.п. Артистериум // Ars. Ежемесячник искусства и литературы. Тифлис. 1918. № 1. С. 73–74.
- (a) Городецкий С. Поэзия для себя // Лукоморье. 1916. № 6. 6 февраля. С. 15–16.
- (b) Городецкий С. Поэзия как искусство // Лукоморье. 1916. № 18. 30 апреля. С. 19–20.
- (a) Городецкий С. Беллетристика в 1917 году // Кавказское слово. 1918. № 1. 3 января. С. 5.
- (b) Городецкий С. Французские влияния в новой русской поэзии. Бодлэр. Верлэн. Верхарн // Кавказское слово. 1918. № 37. 16 февраля. С. 2.
- (с) Городецкий С. Петроградский ад // Кавказское слово. 1918. № 157. 28 июля. С. 3.
- Городецкий С. Наши журналы (Ars. Куранты. Феникс. Нарт. Русская Дума) // Закавказское слово. 1919. № 12. 1 февраля. С. 2.
- Городецкий С.М. Избранные произведения: в 2 т. Т. 2: Проза. М.: Художественная литература, 1987. 574 c.
- Закарян А. Тифлиский «Цех поэтов» Сергея Городецкого и сборник «Акмэ». Ереван: Авторское издание, 2011. 103 с.
- Мец А.Г. Тенишевское училище и другие работы об Осипе Мандельштаме и его времени. СПб.: Гиперион, 2022. 440 с.
- Погосян Р. Старейший мастер «Цеха поэтов» // Литературная Армения. 1964. № 3. С. 64–68.
- С.Городецкий. Николай Гумилев // Искусство. Баку. 1921. № 2–3. С. 59.
- Тименчик Р. Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой: Городецкие // Блоковский сборник XVIII: Россия и Эстония в ХХ веке: Диалог культур. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. С. 26–50.
- Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. Vol. 3. № 2–3. P. 23–46.
- Тименчик Р.Д. Подземные классики: Иннокентий Анненский, Николай Гумилев. М: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2017. 776 с.
- Филатов А.В. Акмеизм в оценке С.М. Городецкого (на материале газетных публикаций 1914–1915 гг.). Статья 1 // Новый филологический вестник. 2023. № 4(67). С. 133–144.
- Щербакова Т.В. Поэзия С.М. Городецкого (1906–1918): дис. … к. филол. н.: 10.01.01. М., 2013. 258 с.
- Эристов Г. Тифлисский цех поэтов (Из воспоминаний) // Современник. Журнал русской культуры и национальной мысли. Торонто. 1962. № 5. С. 30–33.