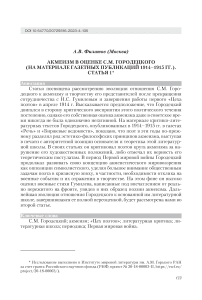Акмеизм в оценке С.М. Городецкого (на материале газетных публикаций 1914-1915 гг.). Статья 1
Автор: Филатов А.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению эволюции отношения С.М. Городецкого к акмеизму и творчеству его представителей после прекращения сотрудничества с Н.С. Гумилевым и завершения работы первого «Цеха поэтов» в апреле 1914 г. Высказывается предположение, что Городецкий двигался в сторону критического восприятия этого поэтического течения постепенно, однако его собственная оценка акмеизма даже в советское время никогда не была однозначно негативной. На материале критико-литературных текстов Городецкого, опубликованных в 1914-1915 гг. в газетах «Речь» и «Биржевые ведомости», показано, что поэт в эти годы по-прежнему разделял ряд эстетико-философских принципов акмеизма, выступая в печати с авторитетной позиции основателя и теоретика этой литературной школы. В своих статьях он критиковал поэтов круга акмеизма за нарушение его художественных положений, либо отмечал их верность его теоретическим постулатам. В период Первой мировой войны Городецкий продолжал развивать свою концепцию акмеистического мировоззрения как оппозиции символистского, уделяя большое внимание общественным задачам поэта в кризисную эпоху, в частности, необходимости отклика на военные события и их отражения в творчестве. На этом фоне он высоко оценил военные стихи Гумилева, написанные под впечатлением от реально пережитого на фронте, увидев в них образец поэзии акмеизма. Дальнейшая эволюция отношения Городецкого к основанной им литературной школе, завершившаяся ее полной переоценкой, будет рассмотрена нами во второй статье.
С.м. городецкий, акмеизм, «цех поэтов», литературная критика, литературная школа, периодика, первая мировая война
Короткий адрес: https://sciup.org/149144348
IDR: 149144348 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-135
Текст научной статьи Акмеизм в оценке С.М. Городецкого (на материале газетных публикаций 1914-1915 гг.). Статья 1
С.М. Городецкий, создавший вместе с Н.С. Гумилевым литературную школу акмеизма, рассматривался многими современниками как случайная фигура в этом движении. А.А. Ахматова в «Записных книжках» не без иронии писала, что Городецкий, «немного поклевав акмеизма, убедился в его непитательности <…>, отряс прах и устремился дальше» и «дальнейшая судьба этого персонажа <…> к истории русской поэзии никакого отношения не имеет» [Записные книжки 1996, 245]. Этой же точки зрения придерживалась Н.Я. Мандельштам, приписывая ее своему мужу: «Акмеистов только шесть, а среди них затесался один лишний <…> Мандельштам объяснил, что Городецкого “привлек” Гумилев, не решаясь выступать против могущественных тогда символистов с одними желторотыми» [Мандельштам 2014, 56–58]. И хотя некоторые исследователи отмечают субъективность и предвзятость приведенных утверждений, справедливо выступая против «отлучения» [Лекманов 2000, 11] от акмеизма поэта, который «действительно был одним из основателей и столпов» [Енишерлов 2016, 80–81] этой литературной школы, репутация Городецкого как «лишнего» акмеиста (и даже «изменника» [Гаспаров 2000, 168]) в истории русской литературы довольно устойчива и имеет ряд оснований.
Во-первых, Городецкий действительно отстранился от акмеизма с началом Первой мировой войны и прекращением работы первого «Цеха поэтов», организовав в 1915 г. новокрестьянскую поэтическую группу «Краса», куда помимо него вошли С.А. Есенин, С.А. Клычков, Н.А. Клюев, П.А. Радимов и А.В. Ширяевец. В автобиографической записке 1920 г. Городецкий разделил свой творческий путь на несколько периодов, четко указав в нем хронологические рамки акмеистического этапа: «VI период. Теория поэзии. Акмеизм. 1913–1914. Книга “Цветущий посох”» [Такта-шева 1969, 189]. На этом фоне характерно, что Гумилев до конца своей жизни не отрекался от созданной им поэтической школы, восприняв определение «бывший акмеист», данное ему Ивановым-Разумником в декабре 1919 г., как личное оскорбление [см.: Чуковский 2013, 277].
Во-вторых, сам Городецкий в советские годы относился к акмеизму критически, что совпадало с официальной трактовкой этого течения как «реакционного», «империалистического», ставшего по сути «не столько объектом изучения, сколько – “шельмования”» [Гумилев 1998–2007, VII, 458–459]. В статье «Акмеизм», опубликованной в 1936 г. в энциклопедическом словаре «Гранат», один из «отцов» этого движения дает ему следующее определение: «…литературная школа, основанная в 1913 г. С. Городецким, Н. Гумилевым и О. Мандельштамом и поставившая себе механистическое задание освоить технику обеих враждующих групп символизма (возглавляемых, с одной стороны, Вяч. Ивановым, с другой – В. Брюсовым) на базе нового, мнимо-реалистического мировоззрения» [Городецкий 1936а, 289–290]. Схожим образом поэт характеризует литературную школу в предисловии к сборнику своих избранных стихотворений (1936), критикуя акмеизм за «безоговорочное принятие тогдашней русской действительности, признание потустороннего мира и отказ от революционно-общественной тематики» и называя его «не более чем формально-критическим освоением наследства символистов», пришедшим в итоге к «грубому натурализму и фетишизации вещей» [Городецкий 1936b, 12–13]. Несколько мягче эта точка зрения передана в автобиографии Городецкого 1958 г.: «Мы организовали “Цех поэтов” <…>. Выдумали акмеизм (Гумилев предлагал “адамизм”), устраивали диспуты. Нам казалось, что мы противостоим символизму. Но действительность мы видели на поверхности жизни, в любовании мертвыми вещами и на деле оказались лишь привеском к символизму и были столь же далеки от живой жизни, от народа» [Городецкий 1984, 12].
По мнению В.П. Енишерлова, Городецкий, «искренне увлеченный революционной работой и творчеством» [Енишерлов 2019, 132], пришел к такой переоценке акмеизма вполне самостоятельно, а не под давлением официальной советской критики. В то же время признание собственных ошибок, сделанное в эпоху, когда жанр печатного покаяния был особенно распространен, можно объяснить стремлением поэта спасти не только свою репутацию, но и жизнь, избежав участи бывших соратников. Городецкий имел серьезный повод для подобных опасений из-за написанной им во время Первой мировой войны книги стихов «Четырнадцатый год» (1915), в особенности – вошедшего в нее монархического стихотворения «Сретенье царя», которое ему припоминали и советские, и эмигрантские литераторы [см.: Тименчик 2017, 495, 518]. Примечательно, что в 1920 г. Городецкий еще характеризует акмеистический период своего творчества нейтрально, но вот о следующем за ним этапе отзывается уже резко негативно: «VII период. 1914 год. <…> Нарастание шовинизма. Угар войны» [Такташева 1969, 189]. Есть основание полагать, что личная оценка акмеизма отличалась от печатных заявлений Городецкого, сделанных в советское время. Об этом, например, говорят дневниковые записи поэта за 1947 г. В них он не только заявляет, что в «в акмеизме было и нечто живое», но и полемизирует со знаменитым докладом А.А. Жданова, заявляя, что тот «спутал», «забыл, что нет и не может быть литературного движения целиком цельного, что в акмеизме были две струи <…> полифонически» [цит. по: Енишерлов 2001, 172].
Таким образом, следует признать, что отношение Городецкого к акмеизму после своего участия в нем менялось в сторону критического переосмысления постепенно и никогда не было однозначно негативным. В связи с этим представляется важным проследить динамику оценки творчества акмеистов, а также близких к ним участников «Цеха поэтов» в литературно-критических публикациях Городецкого предреволюционного времени, когда он уже дистанцировался от своих бывших соратников. На наш взгляд, именно в тот период был задан аксиологический вектор, определивший в конечном итоге взгляды советского поэта Городецкого на основанную им литературную школу.
Вероятной точкой начала этой переоценки является апрель 1914 г. Именно тогда между Гумилевым и Городецким произошел конфликт, ставший, как принято считать, предвестием скорого распада их союза. В то же время сохранившаяся переписка поэтов показывает, что на тот момент Городецкий вовсе не отрекался от акмеизма, а, напротив, обвинял в отступничестве своего соратника: «Я давно уже замечаю в тебе уклон от акмеизма. <…> Если ты еще не видишь, во что развивается у меня акмеизм, то увидишь это вскоре» [цит. по: Азадовский 2018, 190]. Примечательно, что автор письма пишет здесь о совместном литературном движении как о собственном проекте, вероятно, намекая на то, что именно его, а не Гумилёва в печати чаще называли главой новой школы [см. Лекманов 2000, 11].
Итак, в 1914 г. Городецкий еще позиционирует себя в качестве «главного» акмеиста. Критико-литературные выступления поэта в этот период подтверждают его приверженность эстетическим принципам школы. Так, в статье «Женские стихи» (газета «Речь» от 14 апреля 1914 г.) он рецензирует несколько стихотворных сборников поэтесс, наиболее высоко оценивая книгу Ахматовой «Четки» и рассматривая ее творчество как эталон акмеистической поэтики в противовес символистской:
«Еще два года тому назад пресловутая “музыка” <…> представлялась единственным лирическим путем. Изображение не только сложных, но и простых эмоций казалось возможным только при помощи перепутанных друг с другом образов и заведомо сбивчивых символов. Мысль была изгнана из лирики. Архитектура не пускалась на порог лирического стихотворения. <…> В это время Анна Ахматова дала первые образцы своей лирики. “Настроению”, которым дорожила символическая лирика, здесь противопоставлен факт. Музыкальная последовательность образов заменена хронологической последовательностью событий. Пышные фразы заменены разговорным языком. В этой, почти детской, простоте разрешения задачи лирика – главная заслуга Анны Ахматовой и первое очарование ее стихов» [Городецкий 1914а, 3].
На примере творчества автора «Четок» Городецкий подчеркивает ряд программных отличий акмеизма от символизма: отказ от музыкальности, смысловой неопределенности образов и возвышенной лексики в пользу композиционной ясности, изображения фактических событий и использования разговорного языка. Даже «детская простота», которую отмечает рецензент у Ахматовой, отсылает нас к провозглашенным акмеистами «детски-мудрому <…> ощущению собственного незнания» [Гумилев 1998–2007, VII, 149] и фигуре поэта-Адама, смотрящего на мир свежим и незамутненным взглядом ребенка.
Такую же программную направленность имеет рецензия («Речь» от 12 мая 1914 г.) на перевод книги стихов Т. Готье «Эмали и камеи», выполненный Гумилевым. Явно намекая на акмеизм, Городецкий заявляет, что «в настоящее время русской поэзией самостоятельно выработаны качества, выработку которых мог бы облегчить ей Готье: твердость, закаленность, четкость, все, что придает искусству “нетленные черты”, превращает неуловимую мечту в стойкую глыбу» [Городецкий 1914b, 3]. Напомним, что Гумилев назвал французского поэта одним из «краеугольных камней» акмеизма, считая главным достоинством его творчества безупречность форм. И хотя Городецкий отмечает несовременность поэзии Готье, а также находит ряд неточностей в переводах (подобные «дружеские замечания» были характерны для взаимных рецензий акмеистов), в целом книга получает положительную оценку: «…нельзя не приветствовать и не отметить этой работы. <…> переводчик сам поэт, и хотел взять крепость с первого набега. Хотя крепость и пострадала, но она все-таки взята» [Городецкий 1914b, 3].
Как уже было отмечено, с началом Первой мировой войны деятельность «Цеха поэтов» прекращается. Гумилев отправляется добровольцем на фронт, а Городецкий дистанцируется от бывших соратников, в то же время продолжая следить за их творчеством и занимая по отношению к нему более критическую позицию. Это ярко проявляется в его разборе поэтического отдела двойного (№ 6–7) номера журнала «Аполлон», вышедшего в конце сентября – начале октября 1914 г. В нем Городецкий критикует поэтов круга акмеизма за нарушение его художественных принципов, все еще выступая в роли лидера этой школы. Так, Г.В. Иванов, по мнению рецензента, «забывает о внутренней жизни стихотворения, о том, что каждое слово имеет свой нерушимый смысл» [Городецкий 1914d, 3] (в этой фразе можно увидеть перекличку с названием статьи Гумилева «Жизнь стиха»). М.Л. Лозинский получает упрек за «напыщенные строфы» и «нагромождение образов». Более суровая критика высказана в адрес Мандельштама: «…этот ученик Гумилева, едва только выпущенный на свет Божий из цеха поэтов, слишком рано почувствовал себя мэтром» [Городецкий 1914d, 3]. Столь резкое высказывание дает повод предположить, что в первую очередь Городецкий, а не Гумилев мог выступить против публикации «Утра акмеизма» в качестве программного текста школы (по словам Н.Я. Мандельштам, оба поэта «отвергли» этот манифест, опубликовав только свои статьи [см.: Мандельштам 2014, 63]). Находя в стихах младшего поэта влияние футуризма, рецензент иронично замечает: «Ведь, кажется, акмеизм, рьяным участником которого является Мандельштам, учит уважать вещи и не напускать тумана. Так неужели школа так скоро забывается?» [Городецкий 1914d, 3]. На этом фоне произведения Ахматовой единственные по-прежнему получают у Городецкого положительную оценку: «Ее стихи – лучшие в отделе, может быть, только на них и отдохнет читатель, потому что в них есть подлинное лирическое созерцание, настоящая скорбь и трогательная тишина» [Городецкий 1914d, 3].
По словам О.А. Лекманова, данная рецензия была написана «в период конфликта Городецкого с Гумилевым и его “фракцией” “Цеха поэтов”» [Лекманов, Чабан 2014, 398], чем объясняется негативное отношение автора к большинству рассмотренных поэтов. По всей видимости, следствием этого стал и язвительный выпад в сторону «Аполлона», завершающий публикацию: «Конечно, не из ледников эстетизма ожидали мы огненных слов, но не ожидали мы оттуда и такой неряшливой работы» [Городецкий 1914d, 3]. Тем самым Городецкий показывал, что он больше не сотрудничает с журналом и занимает по отношению к нему прежнюю критическую позицию, имевшую место в 1909–1910 гг. Это обстоятельство также могло являться причиной его неучастия в стихотворном отделе номера.
Охваченный патриотическими настроениями, со второй половины 1914 г. Городецкий-критик особенно пристально следит за освоением современными поэтами военной темы. По его убеждению, обращение к ней помогает литераторам раскрыть новые грани своего таланта, а также отразить текущие общественные настроения, что является одной из главных задач поэта. В первую очередь благодаря этому спустя четыре месяца после начала войны Городецкий высоко оценил книгу бывшей участницы «Цеха поэтов» М.Л. Моравской «Стихи о войне», подчеркнув позитивные изменения в ее творчестве: «Психологический укол, надломленное пере-живаньице, маленькая обида, еще меньшая радость – вот, что было до сих пор ее темой <…>. Самые ничтожные моменты повседневной жизни она предавала перу и бумаги с неистовством летописца. Своих маленьких героев, обезьянок, неврастеников и нытиков она любила очень нежно. Но пришла война, и все ее герои исчезли с лица земли, быть перестали. Герои миниатюристки Моравской сделались героями самой России» [Городецкий 1914e, 4].
Городецкий отмечает, что с точки зрения формы и художественных приемов лирика Моравской не изменилась, однако, преображенная темой войны, она теперь оценивается положительно: «Как пригодились технические увертки лирического интимизма для передачи мельчайших признаков и примет великого нынешнего дня! Этот порывистый стих, эти рифмы, из которых половина растеряна, эта беззастенчивая откровенность индивидуалистки, все это пригодилось вдруг, в ту минуту, когда одино-чествующий заморыш почувствовал себя человеком» [Городецкий 1914e, 4]. В последней фразе критик как будто перефразирует философские положения гумилевского манифеста (ср.: «Здесь индивидуализм в высшем своем напряжении творит общественность. Здесь Бог становится Богом Живым, потому что человек почувствовал себя достойным такого Бога» [Гумилев 1998–2007, VII, 148]), проецируя их на общественно-политическую ситуацию конца 1914 г. и описывая трансформацию поэзии Моравской как усиление в ней акмеистического компонента.
При этом еще восемью месяцами ранее Городецкий действительно отзывался о творчестве поэтессы совсем иначе, оценивая те же самые элементы ее стиля негативно: «Переживания Моравской – типичны для одинокой личности. Их неврастения уже несовременна, но характерна для недавних дней. К сожалению, эта неврастения разъедает и форму стихов Моравской, расшатывает ритмы и рифмы, не дает стихотворениям развиться, как организмам, и оставляет их в зачаточном состоянии» [Городецкий 1914a, 3]. Уже отмеченная нами метафора стихотворения как живого существа, а также упоминание в обеих рецензиях неврастеников / неврастении неслучайны и являются очередными маркерами акмеистической программы. Упоминание психического расстройства в негативном, «декадентском» контексте встречается в обоих манифестах школы, ср.: «Как адамисты, мы немного лесные звери и во всяком случае не отдадим того, что в нас есть звериного, в обмен на неврастению» [Гумилев 1998–2007, VII, 148]; «…пессимизм “Вечера” – акмеистичен, что “называя” уродцев неврастении и всякой иной тоски, Анна Ахматова в несчастных этих зверенышах любит не то, что искалечено в них, а то, что осталось от Адама, ликующего в раю своем» [Городецкий 1913, 49]. Можно вспомнить также строки из позднего стихотворения Гумилева «Мои читатели»: «Я не оскорбляю их неврастенией, / Не унижаю душевной теплотой…» [Гумилев 1998–2007, IV, 133]. Подобные слова-«сигналы» свидетельствуют о том, что автор рецензии судит о художественной ценности стихов Моравской, все еще осмысляя их контексте противопоставления символизма и акмеизма.
По мысли Городецкого, обращение современных поэтов к «мужественной», военной теме делает их творчество акмеистическим «по духу». При этом поэтическая техника автора может претерпевать минимальные изменения – ключевым моментом оказывается именно актуализация в искусстве текущих настроений, отклик на современные события. Эта установка трансформирует функции поэтических приемов, в том числе имеющих символистский генезис. Здесь уместно напомнить, что акмеизм воспринимался его создателями не только как литературная теория, но и как особое мировоззрение, причем, по воспоминаниям Мандельштама, продвижением этой концепции занимался именно старший поэт: «Городецким в свое время была сделана попытка привить акмеизму литературное мировоззрение, “адамизм”, род учения о новой земле и о новом Адаме» [Мандельштам 1990, 185].
Вероятно, концепция Городецкого также предполагала, что поэт-акмеист, как «новый Адам», будет отстаивать реальный мир не только словом («Всему живому петь хвалы»), но и делом, защищая родную землю от неприятеля. Продолжая следить за военной лирикой, Городецкий обращает особое внимание на творчество ушедших на фронт литераторов: «Герой двенадцатого года, поэт Денис Давыдов, в нынешнем четырнадцатом году не был бы одинок. На войну ушло немало поэтов. На войне московский поэт Сергей Кречетов. Воюет Гумилев. В солдатах Сергей Клычков» [Городецкий 1914с, 4]. Их поступок вызывает одобрение критика, считающего, что «поэзия такое дело, после которого ко всему годишься», и завершающего свою статью о Клычкове призывом: «От всех солдат своих Россия ждет победы. А от солдат-поэтов ждет победы и песен» [Городецкий 1914с, 4]. В этом он явно совпадает во взглядах с другим основателем акмеизма, отношение к которому в связи с этим меняется в лучшую сторону.
Так, сопоставляя военные стихи Ф. Сологуба и Гумилева («Обстрелян» и «Священные плывут и тают ночи…»), Городецкий-критик отдает предпочтение последнему: «Тема одна и та же, даже размер стихов один и тот же, но какая разница! Первый пример бескровен, бесплоден, неубедителен. Второй ярок, силен, поразителен. Первый – продукт кабинетной работы. Второй – художественный синтез реальных впечатлений. Первый принадлежит Сологубу. Второй – Гумилеву» [Городецкий 1915, 3]. Автор отмечает, что стихи Сологуба лишены «элементов подлинной реальности», а его «идеология <…>, которая в сущности есть только эй-долология, т.е. система образов, оказалась обветшалой для современных событий». По сути, Городецкий обвиняет поэта в нарушении принципа тождества между земным и небесным, реальностью и вымыслом, вновь говоря о противостоянии символизма и акмеизма. О скрытом присутствии последнего в рецензии говорит еще одно слово-«сигнал» – цеховой термин «эйдолология», активно употреблявшийся синдиками «Цеха» в своих критико-литературных статьях [см.: Гумилев 1998–2007, VII, 155, 173–174; Городецкий 1912а, 1912b] и позднее разрабатывавшийся Гумилевым в теоретических работах «Читатель» и «Анатомия стихотворения». Тот факт, что первая и единственная прижизненная публикация стихотворения «Священные плывут и тают ночи…» появилось в печати всего за неделю до статьи Городецкого – 1 февраля 1915 г. в утреннем номере ежедневной газеты «Биржевые ведомости» [см.: Гумилев 1998–2007, III, 335], говорит о внимании, с которым критик следил за появлением в периодике даже отдельных стихотворений своего соратника. Вполне вероятно, что поэт мог познакомиться со стихотворением еще до его публикации – во время личной встречи с ненадолго вернувшимся с фронта Гумилевым 30 января 1915 г. [см.: Степанов 2014, 110–112].
Таким образом, можно заключить, что отношение Городецкого к акмеизму и его эстетико-философским принципам в 1914–1915 гг. оставалось положительным, несмотря на конфликт с Гумилевым и прекращение работы «Цеха поэтов». В своих критико-литературных публикациях Городецкий рассматривал творчество бывших коллег с точки зрения акмеистической поэтики, по-прежнему выступая с авторитетной позиции мэтра школы. В годы войны Городецкий продолжал развивать свою концепцию акмеистического мировоззрения, уделяя большое внимание общественным задачам поэта в кризисную эпоху, в частности, необходимости отклика на военные события и их отражения в творчестве. На этом фоне он высоко оценил военные стихи Гумилева, увидев в них образец поэзии акмеизма. Дальнейшая эволюция отношения Городецкого к основанной им литературной школе, завершившаяся ее полной переоценкой, будет рассмотрена нами во второй статье.
Список литературы Акмеизм в оценке С.М. Городецкого (на материале газетных публикаций 1914-1915 гг.). Статья 1
- Автобиография С.М. Городецкого (публикация Н.А. Такташевой) // Русская литература. 1969. № 3. С. 186-190.
- Азадовский К. Из архива Н.С. Гумилева // Звезда. 2018. № 5. С. 179-194.
- Акмеизм в критике. 1913-1917 / сост. О.А. Лекманов, А.А. Чабан. СПб.: Гуманитарная академия; Издательство Тимофея Маркова, 2014. 544 с.
- Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М.: Новое литературное обозрение, 2000. 415 с.
- Городецкий С. Александр Тиняков (Одинокий). Navis Nigra. Книга стихов 1905-1912 гг. // Речь. 5 (18) ноября. 1912. № 304 (2258). С. 3.
- Городецкий С., Анна Ахматова. Вечер. Стихи // Гиперборей. 1912. № 2 (ноябрь). C. 27-28.
- Городецкий С. Некоторые течения в современной русской поэзии // Аполлон. 1913. № 1. С. 46-50.
- Городецкий C. Женские стихи // Речь. 1914. 14 (27) апреля. № 100(2769). С. 3.
- Городецкий С. Стихи // Речь. 1914. 12 (25) мая. № 127(2796). С. 3.
- Городецкий С. Воин-поэт // Биржевые ведомости. 1914. 14 сентября. № 14372. Дневной выпуск. С. 4.
- Городецкий С. Стихи о войне (в «Аполлоне») // Речь. 1914. 3 (16) ноября. № 297 (2966). С. 3.
- Городецкий С. Стихи о войне // Речь. 1914. 8 (21) декабря. № 332(3001). С. 4.
- Городецкий С. Стихи о войне (Федор Сологуб. «Война». Стихи. Изд. журнала «Отечество». 1915) // Речь. 1915. 9 (22) февраля. № 38 (3061). С. 3.
- Городецкий С.М. Акмеизм // Энциклопедический словарь русского библиографического института «Гранат». Т. 1 (доп.). М.: Братья А. и И. Гранат и К°, [1936]. Стб. 289-295.
- Городецкий С. Избранные лирические и лиро-эпические стихотворения. 1905-1935. М.: Гослитиздат, 1936. 327 с.
- Городецкий С.М. Жизнь неукротимая: Статьи. Очерки. Воспоминания / сост., послесловие и примеч. В. Енишерлова. М.: Современник, 1984. 256 с.
- Гумилев Н.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М.: Воскресенье, 19982007.
- Енишерлов В. «Опасное право - быть судимым. по законам для немногих». Из архива Сергея Городецкого // Наше наследие. 2001. № 56. С. 139-173.
- Енишерлов В. «Акмеистов было шесть.» // Наше наследие. 2016. № 117. С. 80-90.
- Енишерлов В. Русский поэт в «стране огня» // Наше наследие. 2019. № 129130. С. 119-132.
- Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966). М.; Torino: Einaudi, 1996. 849 с.
- Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск: Водолей, 2000. 704 с.
- Мандельштам Н.Я. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2. Екатеринбург: Гонзо, 2014. 1005 с.
- Мандельштам О.Э. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1990. 464 с.
- Степанов Е.Е. Поэт на войне. Николай Гумилев. 1914-1918. М.: Прогресс-Плеяда, 2014. 846 с.
- Тименчик Р.Д. Подземные классики: Иннокентий Анненский, Николай Гумилев. М: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2017. 776 с.
- Чуковский К.И. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 11. Дневник 1901-1921. М.: Агентство ФТМ, Лтд, 2013. 592 с.