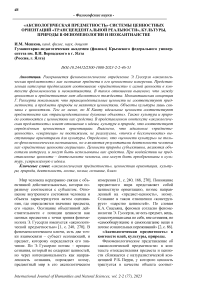«Аксиологическая предметность» системы ценностных ориентаций «трансцендентальной реальности», культуры, природы в феноменологии и неокантианстве
Автор: Мешков И.М.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 2-2 (77), 2023 года.
Бесплатный доступ
Раскрывается феноменологическое определение Э. Гуссерля «аксиологическая предметность» как осознание предмета в его ценностном измерении. Представленная категория предполагает соотношение «предметности» к самой ценности в контексте феноменологии и неокантианства. В таком отношении выяснено, что между ценностью и предметностью нет абсолютного тождества. Неокантианская концепция Г. Риккерта показывает, что трансцендентальные ценности не соответствуют предметности, а предметы природы не являются ценностями. Объекты культуры лишь связаны с ценностями. Тем не менее, по И. Канту идеальные ценности соответствуют предметности как «трансцендентальные духовные объекты». Также культура и природа соотносятся с ценностями как средства. В представленном контексте «аксиологическая предметность» имеет отношение к идеям, культуре и природе, что соответствует определённым ценностным ориентациям. Выяснено, что идеальные «предметы-ценности», «сверхвещи» не постижимы, не реализуемы, «точки в бесконечности» выступающие ориентирами для культуры. Определено, что «ценности культуры» не только феноменологически осознаваемы, но и являются результатами деятельности человека как «предметные ценности свершения». Ценности природы субъективны, являются объектами интереса, и могут быть использованы как средства. При воздействии на представленные ценности - деятельности человека, они могут быть преобразованы в культуру, устремлённую к идеям.
«аксиологическая предметность», ценностная ориентация, культура, природа, деятельность, ноэзис, ноэма, сознание, благо
Короткий адрес: https://sciup.org/170198184
IDR: 170198184 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-2-2-46-51
Текст научной статьи «Аксиологическая предметность» системы ценностных ориентаций «трансцендентальной реальности», культуры, природы в феноменологии и неокантианстве
Мир человека неразрывно связан с объективной действительностью, которая по-разному соотносится с субъектом. Отношение внутреннего состояния человека и объекта характеризуется актом оценивания, где определяется значение предмета, его «цена». Осознание объективной действительности с позиции ценности как ценных предметов с точки зрения феноменолога Э. Гуссерля именуется «аксиологической предметностью» [1, с. 240, 270]. В феноменологическом ключе, есть две точки взаимосвязи – субъект осознающий, и предмет, которому определяется его значение. По Э. Гуссерлю ноэзис – процесс сознания, который не содержит ценностей, но через интенциональность как направленность сознания, порождает ноэму, предметный мир в его аксиологическом измерении [1, с. 240, 168, 270]. Понимание предметного мира представляет собой ценностную ориентацию, ноэзис направленный на «предмет-ценность», ноэму. Сознание в таком отношении «конструирует» «царство ценностей». По словам К.А. Свасьяна, феномен согласно феноменологии Э. Гуссерля, не есть предмет, вещь, существующая сама по себе, вне сознания, но «самообнаружение и самополагание вещи в потоке сознательных переживаний» [2, с. 86].
«Аксиологическая предметность» в контексте идей, культуры, природы.
Феноменологическое представление об «аксиологической предметности» в контексте отождествления предмета и ценности сближается с натуралистической концепцией Р.Б. Перри, у которого ценность трактуется в качестве объекта соответ- ствующего интереса [3, с. 81]. Под определение мыслителя в данном случае можно отнести как предметы природы, так и культуры. Что касается объектов культуры, то под ними понимаются «предметные ценности свершения» с позиции русского неокантианца Ф.А. Степуна [4, с. 186-194]. То есть, «предметы-ценности» осознаваемы, являются объектами соответствующего интереса и результатами, свершениями человеческого творчества, представляющими собой объекты культуры.
Тем не менее, классическая неокантианская традиция в ценностных ориентациях не всегда отождествляет «аксиологическую предметность» с ценностью, но находится к ней в отношении. По Г. Риккерту, трансцендентальная ценность, таким образом, связана с объектом, что он становится благом культуры как ценной частью действительности. Мыслитель утверждает также и о том, что если от блага культуры отнять ценность, то предмет этот становится природой [5, с. 66]. То есть, следовательно, если предмету природы придать трансцендентальную ценность, то он становится благом культуры. Ценностная ориентация в данном плане заключается в направленности трансцендентальной «ценностной значимости», на блага культуры. Сущность трансцендентальной ценности – значимость, а не фактичность [5, с. 55]. В таком отношении, ценности не представляют собой объектов. Трансцендентальный смысл лежит «над» и «до» всякого бытия [6, с. 45-46].
Таким образом, пространство культуры по Г. Риккерту имеет опосредованное отношение к трансцендентальным ценностям. Природа в свою очередь выходит за рамки ценностной сферы, куда относятся предметы, лишённые ценности, и с другой стороны, предметы, соотносящиеся с ценностью – становятся благами культуры.
Аксиология неокантианства является одной из наиболее проработанных систем, внесшей существенный вклад в развитии и дальнейшей трансформации ценностных теорий истории философии. Одним из исследователей, систематизаторов данного философского направления был Л.Н. Столович. Мыслитель обобщил кон- цепцию Г. Риккерта в аспекте касающейся «аксиологической предметности», где выделял:
-
- ценности;
-
- ценный предмет или благо;
-
- предмет чуждый ценности, то есть составляющий природу.
Выше приведённая структура формируют три мира:
-
- мир ценностей – идеального, или значений, выходящего за рамки предметов;
-
- мир культуры, включающий в себя предметы-блага, имеющие отношения к ценности;
-
- мир природы, состоящий из предметов чуждых ценности [7, с. 415].
Исходя из анализа «трёх миров» Г. Риккерта следует заключить, что предметность и ценность пересекаются лишь частично в контексте культуры как «аксиологическая предметность». «Ядро» проблемы ценностей находится в сфере трансцендентального, отдельного от предметности. В данном отношении следует подчеркнуть, что в ретроспективе, и перспективе историко-философского дискурса, некоторая отчуждённость предметности и ценности была не всегда. «Аксиологическая предметность» во всех своих проявлениях как идеальных «сверхвещей», предметов культуры и природы – имела свои особенности.
По словам И. Канта, предметы природы также имеют аксиологическое содержание, так как «предметы, существование которых хотя и зависит не от нашей воли, а от природы, имеет, тем не менее, если они не наделены разумом, только относительную ценность как средства и называются поэтому вещами…» [8, с. 269]. В данном высказывании мыслитель указывает на природные ценности, которые являются средствами, то есть, могут быть применимы для достижения цели. Данные предметы не только могут быть использованы, но и подвергнуты воздействию человека.
В таком контексте мыслителя природные ценности субъективны, рождаются в ситуации, так же как предмет хорош в отношении к голоду. К субъективистской трактовке ценностей можно отнести концепцию позитивиста Б. Рассела, высказы- вающегося, что «когда мы утверждаем, что та или иная вещь имеет ценность, то даём выход нашим эмоциям, но ничего не говорим о фактах, природа которых не зависит от наших к ним чувствах» [9, с. 200]. По его утверждению, «вкусами обусловливаются все различия в ценностях, хотя мы и привыкли к мнению, что с предметами, которые кажутся нам более возвышенными, чем устрицы, дело обстоит иначе» [9, с. 209].
О субъективизме восприятия ценностей утверждал представитель натурализма Д. Дьюи. По его словам, и объекты природы, и продукты человеческой деятельности в своей индивидуальности обладают значением, имеющим смысл для знающего и мыслящего человека. Поэтому «камень является одним для того, кто знает нечто о его прежней истории и будущем употреблении, и другим для того, кто просто непосредственно ощущает его своими чувствами» [10, с. 20-23].
Ценность для Р.Б. Перри – «третичное качество», более отдалённое от объективности «первичных качеств», очертание предмета, чем вторичное качество, то есть это фигура, например, цвет [3, с. 32-33].
Исходя из вышесказанного, «аксиологическая предметность» природы характеризуется положением средств, используемых, применимых к цели. Данные ценности соответственно имеют качества, которые могут определять интерес человека, и возможность выбора объекта через вкусы. В свою очередь интересы и вкусы человека субъективны по отношению к предметности природы, они «рождаются» в ситуации.
Анализируя особенности «аксиологической предметности» природы, можно определить её место и значение в системе ценностных ориентаций. Несмотря на свою пассивность, предметность природы имеет качества «обращённые» к субъекту, реагируя на которые, эмотивно-чувственно человек в определённой ситуации наделяет такие предметы значением ценности. Будучи «замечены», «усмотрены» субъектом, предметность природы благодаря деятельности человека «переносится» в сферу
«аксиологической предметности» культуры.
Процесс «переноса» «аксиологической предметности» от природы – к культуре характеризуется результатом деятельности человека. Представитель русского неокантианства Ф.А. Степун в представленном контексте разделяет «ценности состояния» – это жизнь как таковая, включающая «формы творчества», а также «предметные ценности свершения», они же являются ценностями культуры. Между этими ценностями существует несовместимость, стремление к преодолению которой ведёт к трагедии творчества [4, с. 186-194]. То есть, человек в своём «состоянии» пытается преодолеть «разрыв» между ним и предметом через творчество. Творчество определяет стремление выразить «состояние» в предмете, результатом чего становится осуществление «предметной ценности свершения». Такого рода ценности олицетворяют «завершённость», «результат» становления предметов культуры.
К пониманию ценности как результату творчества приходит другой представитель русского неокантианства Т.И. Райнов, по словам которого ценность – продукт творчества образующего «единство» предмета. «Единство» – это «сущность» всякой ценности и творчества. Ценность как «единство» встречается только в предмете и никогда вне его. Предмет предполагает «единство», предмет возникает только благодаря ценности и вместе с нею. «Ценность есть ценность только в предмете, а предмет есть предмет только благодаря ценности» [11, с. 75-76].
На основании утверждений мыслителя следует, что «аксиологическая предметность» культуры представляет собой отражение в предмете смысла через творчество. «Единство» творчества и предмета олицетворяет собой ценность, и «завершённость», где, например скульптор закончил работу над скульптурой, тем самым полностью завершил передачу смысла – предмету. На основании представлений о «предмете-ценности» Т.И. Райнов, приходит к утверждению, что «совокупность ценностей, как опредмечивающих единств есть культура» [11, с. 75-76].
В отношении предметов культуры представитель феноменологии Н. Гартман выделял признак ценности. По его утверждению «реализация ценностей в процессах и результатах деятельности есть сама ценность, более того, в сущности всех ценностей заложено, что их осуществление само является ценным» [12, с. 52]. Делая полезные и красивые вещи, совершая альтруистические поступки, человек сам создаёт природу этих ценностей [12, с. 52].
Таким образом, «аксиологическая предметность» культуры представляется как деятельность, совершающаяся в сторону реализации, осуществления ценностей. В другом аспекте такого рода предметность осмысляется «ценностями свершения», полным воплощением смысла в объекте, характеризующейся завершением деятельности в качестве «единства» творчества и предмета. «Опредмечиваемое единство» в своей совокупности представляет собой культуру.
Что касается трансцендентальной реальности, то она в определённом смысле выходила как за рамки «предметности», так и с нею отождествлялась.
Сфера идеального с позиции Г. Риккерта характеризуется трансцендентальным смыслом, лежащим «над» и «до» всякого бытия [6 с. 45-46]. Сущность ценности значимость, а не фактичность [5, с. 55]. С позиции мыслителя – трансцендентальная ценность не является объективностью, предметностью, а лишь смыслом.
Тем не менее, в кантианстве существовала тенденция «опредмечивания» трансцендентальной реальности. По мнению философа И.С. Нарского, исследователя И. Канта, «вещь в себе» имеет значение указателя на «трансцендентальные духовные объекты» в том смысле «она выступает в роли наименования для сферы идеалов, то есть, совокупности недостижимых по своей полноте целей ценностных стремлений» [13, с. 16]. Данное высказывание о «трансцендентальных духовных объектах» как целях недостижимых ценностных стремлениях соответствует позиции неокантианца П. Наторпа, по мнению которого идеи – «точки в бесконечности, куда устремлены пути опыта» [14, с. 473]. В таком отношении, по его мнению «культура – горизонт, к которому устремляется человечество, где идея является бесконечной задачей» [14, с. 382].
Исходя из позиций И. Канта, а также П. Наторпа следует, что в аспекте опыта, идеи являются целями ценностных ориентаций культуры.
«Опредмечивание» трансцендентальной реальности присутствует и в феноменологии. По мнению М. Шелера, ценности – идеальные предметы, они представляют собой неоспоримое бытие. Ценности объективны на столько, что они «не могут быть созданы или уничтожены» [15, с. 268]. Другой видный феноменолог Н. Гартман, отождествляет ценности по способу бытия с идеями Платона [12, с. 46]. По мнению мыслителя, ценность имеет качество (определённость), она же является идеальной сущностью. Среди таких качеств можно назвать пользу, красоту, альтруизм… [12, с. 52].
Не смотря на то, что культура ориентирована на трансцендентальную «аксиологическую предметность», тем не менее, и «сверхпредметы» направлены на культуру. Данная направленность осуществляется через человека, не обходя стороной и предметность природы.
С точки зрения Т. Райнова, проявление сознания имеет «сверхиндивидуальный» элемент ценности. Будучи идеальными ценностями, они подлежат не психологическому, а феноменологическому рассмотрению, которое «вычитает» из «предмета» явление-феномена, психологический акт, оставляя «объединённую материю сознания». В данном контексте, мыслитель характеризует предмет как чувственно-постигаемый, умопостигаемый, идеальный [11, с. 75-76]. С точки зрения М. Шелера «сверхпредметы» явлены чувственному созерцанию, постигаются субъектом через чувствование [15, с. 273]. То есть, идеальные ценности как «сверхпредметы» сознательно постигаемы и доступны через чувственное созерцание, отражённое, судя по всему, во внутреннем состоянии. Вследствие осознания и созерцания, по М. Шелеру человек «соучаствует в актах непрерывного творения мира и участвует в сопровождении идей и сопровождающих вечную любовь ценностей из первоистока самих вещей» [16, с. 61].
Заключение
Таким образом, «аксиологическую предметность» можно рассматривать с трёх составляющих:
-
- идеальные «сверхпредметы», «вещи в себе», «трансцендентальные духовные объекты»;
-
- блага культуры, «ценности свершения», «опредмеченные единства», «ценности реализации ценности»;
-
- природа, объекты соответствующего интереса, средства.
Такого рода составляющие «аксиологической предметности» соответствуют: миру идей, культуре и природе.
Сфера «сверхвещей» обладает неоспоримым бытием, аналогичным идеям Платона, составляющим идеальные образы. Данные сущности представляют собой «цели ценностных стремлений», «точки в бесконечности – куда направлены пути опыта» и в этом отношении они являются абсолютными ценностями. Идеальная «ак- сиологическая предметность» имеет качества, определённость, составляющая общие признаки красоты, пользы, альтруизма и пр. «Трансцендентальные духовные объекты» доступны сознанию, феноменологическому рассмотрению и чувственному созерцанию.
Объекты культуры представляют собой смысл, запечатлённый в предмете. В таком контексте «ценность реализации» – сама деятельность, направленная в сторону реализации ценности. Данный процесс дея- ство предмета и творчества», где соединилось идеальное с чувственным. «Опредме-ченные единства» и составляют «аксиологическую предметность» культуры.
«Аксиологическая предметность» природы стоит на «краю» ценностного мира так как некоторые мыслители, в числе которых Г. Риккерт считают природную данность индифферентной к ценности. Тем не менее, предметы природы если и имеют значение ценности, то только в ситуации, как «яблоко к голоду». Такого рода предметы субъективны, их выбор определяется, например вкусами. Предметные ценности природы – это «предметы соответствующего интереса». Объекты природы имеют качества, направленные на субъект, обращая внимание на которые формируется интерес. Предмет интереса может восприниматься как средство к цели, входя в орбиту деятельности человека, и олицетворяя ценностную ориентацию «перехода» природы в культуру.
Исходя из характеристик сфер «аксиологической предметности», можно определить систему ценностных ориентаций. «Сверхвещи» отражаются в предметах культуры, где человек не только усматривает идеи, но и соучаствует в их творении. В свою очередь культура как сфера, в которой отражён смысл – ориентирована на идеи, «сверхвещи» как на «точки в бесконечности, куда направлены пути опыта». Предметы природы, имея полезные качества «усматриваются» человеком, становясь объектом соответствующего интереса, воспринимаются как средства и трансформируются в «ценности свершения» культуры, ориентированные на «сверхве- тельности завершается «ценностью свер- щи».
шения», в которой осуществилось «един-
Список литературы «Аксиологическая предметность» системы ценностных ориентаций «трансцендентальной реальности», культуры, природы в феноменологии и неокантианстве
- Husserl E. Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenologishen Philosophie. - Halle: Erstes Buch, 1922. - 323 s.
- Свасьян К.А. Феноменологическое познание. Пропедевтика и критика. - Ереван, 1987. -265 с.
- Perry R.B. Realms of Value. - Cambridge: Harvard University Press, 1954. - 32 p.
- Степун Ф. Трагедия творчества (Фридрих Шлегель) // Логос. - M.: Тип. Рус. Т-ва, 1910. - Кн. 1. - С. 171-196.
- Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре; пер. С. И. Гессен. - M.: Республика, 1992. - 128 с.
- Риккерт Г. Два пути познания // Новые идеи в философии. - СПб., 1913. - Сб. 7. Теория познания. - С. 1-79.
- Столович Л. Н. Красота. Добро. Истина: очерк истории эстетической аксиологии. - М.: Республика, 1994. - 464 с.
- Кант И. Сочинения. В 6 т. Т. 4, ч. 1. - М.: Мысль, 1965. - 478 с.
- Рассел Б. Почему я не христианин: избранные атеистические произведения; сост., авт. предисл. и примеч. A. A. Яковлев. - М.: Политиздат, 1987. - 333 с.
- Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. - Берлин, 1922. - 317 с.
- Райнов Т. Введение в феноменологию творчества // Вопросы теории и психологии творчества (Непериодическое изд., выходящее под ред. Б.А. Лезина). Т. 5. Вып. 1. Теория творчества. Мифотворчество. - Харьков, 1914. - 103 с.
- Гартман Н. Этика. - СПб.: Владимир Даль, 2002. - 707 с.
- Нарский И.С. О роли «вещи в себе» и «ноумена» в кантовской гносеологии // Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта. - Калининград, 1979. - Вып. 4. - С. 16.
- Natorp P. Platos Ideenlehre. - 2 Aufl. - Leipzig, 1921. - 473 s.
- Scheler M. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. - Halle, 1921. - 676 s.
- Шелер М. Положение человека в космосе. - М.: Изд-во иностр. лит., 1976. - 425 с.