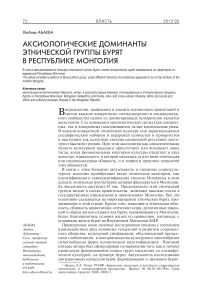Аксиологические доминанты этнической группы бурят в Республике Монголия
Автор: Абаева Любовь Лубсановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 5, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются позиции этнической группы бурят, волею исторических судеб оказавшихся на территории современной Республики Монголия.
Монгольская метаэтническая общность, буряты в республике монголия
Короткий адрес: https://sciup.org/170166939
IDR: 170166939
Текст научной статьи Аксиологические доминанты этнической группы бурят в Республике Монголия
В определении, выявлении и анализе ценностных ориентаций и систем каждого конкретного этнокультурного и социокультурного сообщества одним из доминирующих приоритетов является аксиология. С ее помощью в хронологических срезах (как синхронных, так и диахронных) выстраиваются целые комплексные ряды. В каждой конкретной этнической культуре они характеризуются специфическим набором и иерархией ценностей и приоритетов и выступают как целостная система социальной регуляции достаточно высокого уровня. При этом аксиология как самостоятельная область культурной традиции присутствует или возникает лишь тогда, когда феноменальная категория культуры предстает в двух аспектах: в реальности, в которой оказалась та или иная этническая или социокультурная общность, и в теории и практике ценностей этих общностей.
В связи с этим большую актуальность и огромное социокультурное значение приобретают такие этнические категории, как идентификация и самоидентификация этносов. Интересна в этом аспекте этническая группа бурят, которая фиксируется в Монголии. Ее численность достигает 45 тыс. Представители этой этнической группы входят в состав правительства, занимают высокие посты в государственных учреждениях и организациях Монголии. Все это позитивно сказывается на мироощущении этнических бурят, проживающих в этой стране. Кроме того, языковая и этническая общность, общность нравственно-этических норм, религиозных традиций и образа жизни создают для бурят, проживающих в Монголии, более благоприятные условия жизни по сравнению, например, с условиями жизни бурят во Внутренней Монголии КНР.
Проведенные нами полевые исследования связаны с изучением взаимодействия двух основных тенденций в развитии современного общества: культурной унификации, обусловленной процессами глобализации, и воспроизводства культурного многообразия (многообразия форм человеческой идентификации)1. Научный интерес автора был сфокусирован на выявлении того, как и почему происходит формирование новых групп населения со специфической культурой, на примере бурят. Актуальность исследования миграционных процессов бурят, формирования и эволюции бурят- ских этнических групп и диаспор, в особенности зарубежных, диктуется и потребностями социальной практики. В частности, необходимо понять историческую роль, статус бурятских этнических групп в странах-реципиентах. Необходимо провести исследования, которые могли бы осветить жизненные миры конкретных субъектов, озвучить проблемы тех, кто долгое время оставался анонимным в рамках больших теорий.
Работа проводилась в русле современных теоретических изысканий по проблемам, связанным с миграционными процессами в целом и с эмиграцией из России в частности с формированием многочисленных российских диаспор в бывших республиках СССР. Диаспора условно рассматривалась как этническая группа, находящаяся на иной территории в иноэтничной среде по сравнению с массивом материнского этнического ядра. С учетом специфики избранного объекта исследования – бурятских диаспор, характеризующегося территориальной разобщенностью, были определены 4 центральных зоны исследования бурятских этнических анклавов – Республика Монголия, Внутренняя Монголия КНР, Россия и страны СНГ. В рамках проекта для описания и анализа привлекались данные других полевых исследований, исторические источники, архивные материалы, публицистические тексты, этнокультурные мероприятия и события. Кроме того, была возможность расширить источниковую базу исследования за счет свидетельств тех информантов, которые сами были участниками миграций и помнят исторические обстоятельства переселения на новое место жительства, в частности во Внутреннюю Монголию КНР и Республику Монголия.
Формирование бурятского этнического анклава в Монголии произошло в результате массового переселения в конце ХIХ – первой трети XX в. Основной причиной, давшей толчок к началу массового исхода бурят в Монголию, явились земельноадминистративные реформы, осуществляемые царским правительством на рубеже веков. Практическая реализация таких законов, как «Главные основания поземельного устройства крестьян и инородцев Забайкальской области», «Об устройстве общественного управления и суда кочевых инородцев Забайкальской области» и т.д., полностью разрушала традиционную структуру хозяйственно-бытового уклада, административного управления и ставила под угрозу существование самого этноса как такового.
Переселившиеся в Монголию буряты на первых порах находились в положении апатридов – людей без гражданства, т.к. на протяжении более чем двухвекового периода они являлись подданными Российской империи, хотя в историко-генетическом плане относились к северной ветви монгольской метаэтнической общности.
В результате национально -освободительного движения, завершившегося в 1911 г. свержением маньчжурского засилья, и после победы народной революции в 1921 г. сложились благоприятные условия для определения политикоправового статуса этнических бурят в Монголии. В местах компактного их проживания были образованы административные единицы (хошуны): Хэрлэн голын хошуу (в долине р. Керулен), Ерин голын хошуу (в долине р. Иро), Онон голын хошуу (в долине р. Онон), Халх Навмрвг хошуу, Улз голын хошуу. Последние два хошуна располагались на территории современного Дорнодского (Восточного) аймака. По данным на 1923 г., численность бурят здесь составляла примерно 11–12 тыс. чел. Преобладающую часть эмигрантов составляли агинские буряты, выходцы из пределов современной Читинской обл. Это объясняется тем, что территории их проживания непосредственно граничили с Монголией и что агинские буряты занимали 1-е место среди бурят всех других ведомств по размерам поголовья скота. Следовательно, они нуждались в более частых и длительных перекочевках, больших пастбищных угодьях. Поэтому агинские буряты сильнее всех ощутили негативные последствия земельной реформы. Как выясняется, Монголия в представлениях агинских бурят – это не просто соседняя страна, но и хорошо знакомая, уже отчасти освоенная земля, поскольку в неблагоприятные годы в поисках корма для скота агинские буряты часто проникали на территорию Монголии и Маньчжурии: проводя зиму там, весной они возвращались обратно.
При характеристике современного состояния бурят в Монголии важно учесть, что одной из сущностных характеристик этой группы является «критическая масса» переселенцев как условие сохранения или формирования общ- ности. Согласно официальным данным последней Всеобщей переписи населения Монголии 2000 г., число бурят составляет 40 620 чел., т.е. 1,7% общего числа населения Монголии. Буряты представляют пятую по численности этническую группу (ястан) после таких групп, как халха, казахи, дэрбэты, баяты. Буряты Монголии живут в основном в Дорнодcком, Хэнтэйском, Булганском, Селенгинском, Центральном и Хубсугульском аймаках. Около 10 000 бурят живут в столице Монголии Улан-Баторе. По материалам же периодических изданий и научных трудов, численность бурят в Монголии варьируется от 30 до 100 тыс. чел. Данное противоречие, затрагивая проблему государственной политики переписи, свидетельствует как об относительности трактовки переписных материалов, так и о сложности изучения идентичности бурят, проживающих в Монголии.
Оценить достоверность приводимых цифр, касающихся численности бурят, действительно трудно. Материал, собранный по бурятской группе в Монголии, показывает, что комплекс представлений и эмоциональных переживаний, касающийся прошлого, влияет на формирование групповой идентичности и отражается на количественных параметрах функционирования группы. Так, многие буряты Монголии предпочитают не только не демонстрировать свою этническую принадлежность к бурятам в повседневной практике, но и, более того, скрывать свою этничность. Исследование данного явления, истоки которого кроются в событиях политических репрессий, затрагивает политико-антропологические аспекты «бурятской» темы, а именно форму и степень политического влияния этнических бурят в системе внутригосударственных дел Монгольской Народной Республики и межгосударственных отношений Монголии с Россией в 1920-х–1930-х гг.
Не углубляясь в изложение вышеозначенных аспектов, отметим, что в годы репрессий в 30-х гг. XX в. в социальной памяти бурят Монголии зафиксировалось представление о том, что быть бурятом опасно для жизни. Личностная этническая идентификация и ход собственной жизни стали просчитываться через конкретные события: аресты, суды и приговоры за шпионаж и контрреволюционную деятельность, затронувшие практически каждую бурятскую семью. По данным Музея политических репрессий в г. Улан-Баторе, к смертной казни было приговорено большинство мужчин-бурят, были случаи ареста и ликвидации целых бурятских семей. Из-за страха перед преследованием в среде бурят наметилась тенденция сокрытия своей этнической принадлежности, прежде всего, через отказ от таких маркеров культурной отличительности, как одежда и язык. Истребление большинства мужчин вызвало значительный рост смешанных браков, в частности халха-бурятских, что привело к ускорению темпов ассимиляции.
Учитывая, что реальность диаспоры зависит не только от демографических параметров, но и наличия организации и возможности поддерживать хотя бы среди части соплеменников бурятскую идентичность, считаем необходимым указать, что в настоящее время в Монголии действует бурятская организация «Фонд по развитию бурятской культуры и традиций». Ее создание в 1993 г. стало возможным в связи с распадом социалистической системы и превращением этничности в один из эффективно функционирующих институтов. Фонд внес свой позитивный вклад в возрождение бурятского языка, традиций и обычаев, в установление культурных связей между бурятами разных стран и регионов в России. Инициированный фондом в 1994 г. фестиваль «Алтаргана» перерос региональные рамки и стал одним из главных «новых» праздников общебурятского масштаба, который проводится один раз в два года. Центрами этнической активности бурятской элиты являются г. Улан-Батор, Дорнодский и Хэнтэйский аймаки. Буряты же Селенгинского, Булганского и Хубсугульского аймаков находятся на периферии этнического дискурса.
Анализ характера взаимоотношений между разными территориальными группами бурят Монголии подтверждает факт сохранения значимости субэтнической принадлежности. Административнотерриториальная организация до настоящего времени сохраняет и воспроизводит родоплеменную структуру бурятского общества. Хэнтэйский аймак в основном населяют многочисленные роды хори бурят; в Селенгинском аймаке доминируют представители этнографической группы так называемых селенгинских бурят; в Дорнодском аймаке большин- ство составляют агинские буряты; в Хубсугульском, Булганском аймаках обосновались представители племен хонго-дор и булагат.
Как отмечают некоторые исследователи, контакты между этими группами носят редкий характер. В частности, польский исследователь Ш. Збигнев в докладе на круглом столе «Диаспоры в современном мире», организованном в рамках реализации настоящего проекта, подчеркивал, что «слабое сотрудничество между разными группами бурят в Монголии и гораздо большее значение родовых и территориальных контактов может указывать на незавершенность процесса этнической консолидации бурят в Монголии»1. Нельзя также забывать, что изоляция отдельных бурятских групп, рассеяние в монгольской среде и годы репрессий не способствовали консолидационным процессам. Родственные и территориально-родовые связи составляют на сегодняшний день эффективную форму групповой организации, направленную на достижение определенных экономических, политических и социальных целей. Этническая идентичность зачастую бывает, прежде всего, социальной практикой, используемой в повседневной реальности. Некоторые из этих групп в поле своего влияния создают сеть неформальных, хотя и общепринятых связей, иерархий и взаимных обязательств. В повседневной стратегии монгольские буряты, компактно про- живая на приграничной территории, больше ориентированы на контакты с родственниками по другую сторону границы, чем на местные внутрибурятские отношения, а администрации аймаков с «бурятскими» сомонами устанавливают дружественные связи с «родственными» районами в Бурятии. Например, между Селенгинским аймаком Монголии и Селенгинским районом Республики Бурятия недавно подписан официальный взаимовыгодный договор об экономическом и культурном сотрудничестве. Бурятское население Хубсугульского, Булганского, Селенгинского аймаков не проявляет широкой инициативы, направленной на интеграцию с хоринскими и агинскими бурятами Хэнтэйского и Дорнодского аймаков, а ограничивается делегациями на фестиваль «Алтаргана». Тем самым внутренняя культурная вариативность и деление на несколько групп – реальность этнической группы бурят в Монголии. Одна из причин устойчивости их деления на локальные группы кроется в социальной памяти (воспоминания об этнических истоках, происхождении).
Сложившаяся на рубеже веков этнокультурная ситуация синхронного существования этносов в моно- и полиэтническом пространствах, различающихся уровнем культурно-цивилизационного развития, языком, религиозными традициями и образом жизни, а также численностью и традиционным типом ведения хозяйства, обусловила сложность процессов эволюции этнического самосознания и самоидентификации, выявив при этом этноинтегрирующие и этнодифференцирующие факторы.