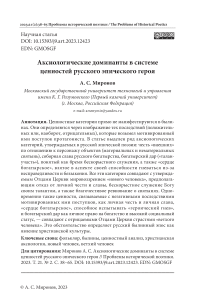Аксиологические доминанты в системе ценностей русского эпического героя
Автор: Миронов А.С.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Ценностные категории прямо не манифестируются в былинах, но определяются через изображение тех последствий (положительных или, наоборот, отрицательных), которые возымел мотивированный ими поступок протагониста. В статье выделен ряд аксиологических категорий, утверждаемых в русской эпической поэзии через устойчивую связь с благоприятными для героя последствиями действий, ими мотивированных. К таким категориям относятся честь «внешних» по отношению к персонажу объектов (материальных и нематериальных святынь), соборная слава русского богатырства, богатырский дар («талан-участь»), понятый как бремя бескорыстного служения, а также «сердце богатырское», взятое в аспекте своей способности гневаться о несправедливости и беззаконии. Все эти категории совпадают с утверждаемым Отцами Церкви мировоззрением «нового человека», предполагающим отказ от личной чести и славы, бескорыстное служение своим талантом, а также благочестивое ревнование о святынях. Одновременно девальвируемые в былинах ценности, т. е. связываемые с негативными последствиями мотивированных ими поступков: личная честь и личная слава, «сердце богатырское» как способность испытывать «героический гнев» и богатырский дар как личное право на богатство и высокий социальный статус - совпадают с отрицаемыми Отцами Церкви страстями «ветхого человека», что определяет русский былинный эпос как явление христианской культуры.
Фольклор, былины, ценностный анализ, христианская аксиология, новый человек, ветхий человек
Короткий адрес: https://sciup.org/147241433
IDR: 147241433 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12423
Текст научной статьи Аксиологические доминанты в системе ценностей русского эпического героя
Г ерои русского эпоса, в особенности Илья Муромец, Алеша
Попович, Добрыня Никитич, Михайло Данилович, Садко, зачастую обращаются с молитвой к Спасителю, Богородице, Николе Можайскому и получают просимое. В «перечне» святынь, за которые богатыри готовы вступить в брань, неизменно находятся «вера русская», «честные монастыри», «честные образы», а также священные для персонажей социальные институты: церковный брак (на языке былин — «закон Божий»), нищенство «Христа ради», монашество, «честное вдовство», «честное девичество» и др. Между тем научная рецепция русского эпоса характеризуется повышенным вниманием к его реконструируемым дохристианским и внехристианским смыслам1. Хотя, наряду с обилием христианских норм поведения, исследователи отмечали отсутствие в былинах каких-либо упоминаний о языческих богах и ритуалах. Некоторые ученые2, как бы оглядываясь на позиции дореволюционной мифологической школы, настаивали на том, что христианское в русском героическом эпосе есть не более чем поверхностная декорация, под которой сохраняются древние языческие смыслы.
Некоторые результаты ценностного анализа былин3 свидетельствуют, напротив, о том, что аксиологическими доминантами национального эпического сознания являются категории христианские, тогда как приоритеты «ветхого человека» (Еф. 4:22–23, Рим. 6:6; Кол. 3:9) подвергаются последовательной девальвации и замещаются одноименными концептами православной культуры4.
Русский эпический певец устраняется от выраженной активной и морализирующей позиции и оценивает аксиологический выбор своего героя не напрямую, а посредством подбора сюжетов, демонстрирующих действие тех или иных причинно-следственных закономерностей по модели «поступок — последствия». Тем самым сказитель мотивирует активную критическую деятельность со стороны слушателя, связанную с необходимостью переоценки действий, совершенных протагонистом. Как следствие, только проанализировав подобный пересмотр аксиологического выбора, сделанного героем, можно будет получить представление о ценностной картине мира, характерной для самого эпического певца.
Исследуя аксиологические категории героической поэзии, мы разделяем их вслед за Аристотелем и целым рядом других философов на конечные, предельные, терминальные (у Аристотеля — цели-результаты, εργα ) и инструментальные, служебные (по Аристотелю, цели-деятельности, «энергии», ενεργειαι )5. При выявлении ценностей, характерных для русских героических песен, необходимо принять во внимание следующее:
-
1) ценность дана слушателю исключительно в связи с актом аксиологического «обмена» (предпочтения);
-
2) предельная ценность есть то и только то, на что герой соглашается «обменять» собственную жизнь; следовательно, это — начало, превышающее для героя цену его собственной жизни и потому мотивирующее его на поступок, связанный с высокой вероятностью гибели;
-
3) инструментальная ценность есть начало, не превышающее для героя цену его собственной жизни, однако сопоставимое с ней в силу того, что, обладая этой ценностью, он получает возможность избежать непосредственного «обмена» некой
предельной ценности на собственную жизнь. Таким образом, в «снятом» виде инструментальная ценность оказывается равна той цене, которую имеет жизнь героя, не будучи при этом целью «обмена», но лишь «замещая» собой цену жизни. Иными словами, благодаря инструментальной ценности герой получает возможность достичь предельной ценности, не потеряв при этом собственную жизнь.
Отметим, что, с точки зрения эпического протагониста, его собственное существование не обладает высшей мерой истинности (именно в силу временности, обреченности на смерть, а также в связи с постоянным риском обесценивания ввиду нежелательного «обмена»). Поэтому главной задачей героя становится использование своей чудесной силы для «добывания» чего-то, обладающего большей степенью истинного бытия (в этом смысле любая героическая поэзия повествует о том, на что великие предки готовы были «обменять» свою жизнь). И здесь решающую роль играет поступок героя, который всегда имеет характер добровольного «обмена» одной ценности (жизни, помноженной на чудесную силу) на нечто еще более ценное. Для художественного мира эпоса вполне применимо наблюдение М. М. Бахтина о том, что именно вокруг поступка сосредоточены все «пространственновременные и содержательно-смысловые ценности и отношения» [Бахтин: 49–50]. В эпосе эта роль поступка акцентируется тем, что герой совершает сознательный выбор высшей, предельной ценности с риском для жизни.
Предметное поле ценностного анализа составляют записи былин, содержащие не менее 150 моментов аксиологического выбора, сделанного героями6. Что же касается самого анализа, то он осуществляется нами в два этапа: 1) выявление ценностей, мотивирующих главных былинных героев (а также их антагонистов и второстепенных персонажей), и 2) изучение того, какие относительные изменения претерпевает «курс» ценностей, актуальных и конкурировавших между собой в момент аксиологического выбора героя, с учетом того, что последствия его поступка стали художественной реальностью. Нас интересуют ситуации ценностного выбора, когда в поле оценок, выносимых героем, можно обнаружить по меньшей мере две конкурирующих категории. Мы стремимся выявить для каждой эпической ситуации «аксиологическую доминанту», определяющую ценностные предпочтения персонажа (мы опираемся здесь на концепцию доминанты как психологического понятия, предложенную психофизиологом А. А. Ухтомским7).
В языке былин одни и те же наименования ценностей ( за исключением ряда недевальвируемых инструментальных ценностей-средств («энергий») ) используются для обозначения весьма различных по своему содержанию аксиологических категорий, предполагающих альтернативные варианты поступка и вызывающих взаимоисключающие последствия для действующего лица.
Например, «славой», «славушкой великой» называется как личная слава героя, связанная с его именем (молва), так и общая (соборная) слава всего русского богатырства, которая распространяется по свету и удерживает иноземных царей от попыток вторжения на Русь. Эти представления противоположны. В частности, распространению соборной славы о богатырях способствуют лишь бескорыстные подвиги, предпринятые ради страдающего человека, т. е. во славу Божью. Попытка же отнести подвиг на личный счет героя исключает распространение молвы о подвигах всего киевского богатырства, поскольку не способствует внушению иноземным царям страха перед русскими витязями как единым социальным институтом: отдельного героя, обладающего личной славой, можно привлечь на свою сторону (как это пытается сделать Калин-царь в отношении Ильи Муромца), нанять на службу (как это происходит с Дунаем Ивановичем и Василием Пьяницей) или же отвлечь от служения интересам Киева (см. былину о Михайло Потыке).
Словами «честь», «почести» певцы называют как личную честь героя (наследуемую, в том числе родовую, и добываемую), так и ценность, характеризующую некий «внешний» объект, который герою необходимо «держать в чести». Названные концепты также противоположны по содержанию: прибавление личной чести предполагает изъятие ценного имущества у другого человека, независимо от того, обладает ли он особым статусом (родитель, крестный родитель, девица, «честная вдова», «сирота маломожонная», законный властитель и др.), тогда как защита «честных» объектов осуществляется бескорыстно и подразумевает возможность добровольного обмена жизни героя на ценность защищаемой им святыни.
Инструментальной ценностью, позволяющей достичь славы или чести, является богатырский дар («талан-участь») — у большинства героев это физическая сила, но также ценятся «ум-смётка», «ум-догадка», «молитва доходная», «неупадчи-вость», умение играть на гуслях, «краса-баса» и др. При этом одни и те же слова — «талан», «удача», «сила» — обозначают в былинах противоположные по содержанию ценностные категории: богатырский дар ценится либо как возможность (и личное право) получить в обмен на него разнообразные блага (добы-чу, почести, личную славу), либо как бремя бескорыстного служения — святыне («честным» реалиям) или страдающему человеку.
Реализовать свой богатырский дар и применить свою силу в полной мере русский эпический герой может только в том случае, когда его сердце «разгорелось». Таким образом, если богатырский талант является инструментальной ценностью («энергией») первого и наивысшего уровня, позволяющей достичь предельной, конечной ценности (славы или чести), то «сердце богатырское» есть «энергия» второго уровня, ориентированная на обладание инструментальной ценностью более высокого ранга — силой или другим «таланом».
Само словосочетание «сердце богатырское» также обозначает в былинах принципиально различные по содержанию аксиологические категории, образующие две пары взаимоисключающих в логическом плане понятий. Первую пару составляют, с одной стороны, свойство «заплывчивого» богатырского сердца разгораться желанием личной славы, преступать запреты, положенные «обычным» людям, и мстить за бесславие, а с другой стороны — способность воспламеняться сострадательной любовью к ближнему. Вторую пару конкурирующих ценностей образуют, во-первых, героический гнев, вызванный личным бесчестием (лишением ценного имущества и материально-знаковых благ), или страстное желание увеличить личную честь за счет ценной добычи, а во вторых — героическая «ярость», вызванная попранием чести защищаемых объектов (святынь, Божьих установлений на земле), ценность которых для героя превышает значение его собственной жизни.
Описанные выше парные аксиологические категории в содержательном плане исключают друг друга и конкурируют в сознании былинного героя.
Результаты аксиологического анализа свидетельствуют о том, что поступки, ориентированные на личную славу, приводят к дурным для эпического протагониста последствиям8, тогда как поступки, ориентированные на соборную славу, приводят к последствиям благим. Соответственно, ценность личной славы в сознании слушателей неизменно девальвируется, тогда как ценность соборной славы укрепляется.
Для пары конкурирующих категорий «честь личная — честь другого» выявлен следующий закон: поступки, ориентированные на личную честь героя, приводят к дурным для него последствиям; действия, направленные на воздаяние чести другому, с необходимостью приводят к благим для актора последствиям.
Ценность богатырского дара как личного права на добычу и славу является девальвируемой, конкурирующее же представление о богатырском «талане» как о бремени бескорыстного служения относится к числу укрепляемых ценностей.
«Разгарчивость» богатырского сердца желанием личной славы толкает героев былин на поступки, которые влекут за собой дурные для них последствия; следовательно, эта ценность относится к числу девальвируемых.
«Заплывчивость» и «обида-надсмешоцька» русских былин — гнев-гордость о недостатке личной славы (т. е. желание приумножить личную славу или гнев от пережитого личного бесславия). Такой гнев позволяет герою в полной мере проявить свою необыкновенную силу, а также мотивирует персонажа, исключая малейшую возможность трусливого поступка с его стороны и увеличивая силу богатыря, оскорбленного самим предположением о том, что он может проявить трусость.
Некоторые (но отнюдь не все) герои былин проявляют гнев в связи с личным бесславием (или угрозой бесславия), а также дерзают, в гневе, предпринять опасный для жизни поступок, связанный с нарушением того или иного запрета. В частности, Василий Буслаев призывает дружину отомстить за удар, полученный им во время кулачного боя9, и бесчестит встречную женщину (за упрек в трусости)10. Впоследствии он, гневно отвергая саму возможность проявить трусость, дерзко приплывает в разбойничью станицу, купается «нагим телом» в Иордане и бесчестит останки святого воина11.
В связи с личным бесславием испытывают гнев — также не обозначенный прямо, но иденцифицируемый через совершаемые протагонистами радикальные действия (подвиги) — Садко (героя не зовут на пиры)12, царь Соломан13 и Михайло Потык (бесславие из-за добровольной измены супруги). Потык оказывается перед выбором — выполнить «заповедь великую» и отправиться в могилу вместе с якобы умершей женой или отказаться, выказав «трусость»14. Как мы отмечали выше, сама по себе мысль о возможных обвинениях в трусости обычно вызывает гнев в сердце эпического героя, и поэтому неудивительно, что Потык принимает решение быть заживо похороненным. Похожее чувство охватывает Садко в тот момент, когда он из жажды славы вызывает на спор целый город, отвергая страх смерти, которая неизбежно наступит для него в случае проигрыша («велик залог / заклад» означает именно то, что на кону — голова новгородского гусляра15).
Гнев «помогает» былинному богатырю нарушать запреты (иными словами, дерзновение необходимо для «героического» преступления). Так, Добрыня Никитич заплывает «за третью струечку», будучи охваченным гневом после упреков в трусости16. Дунай Иванович не может сдержать сердца, жаждущего славы, и потому, отвергая жизненно важную необходимость хранить молчание, хвастается своей связью с королевной17. Константин Саулович, получив предложение угличан стать их царем, не может от этого предложения отказаться — хотя и должен, согласно отцовской заповеди, оставить все дела и спешить на помощь своему родителю18. Чем больше сила былинного героя, тем больше он рассчитывает на славу — и ради нее готов, отвергнув трусливые помыслы, нарушая любые запреты, бросить вызов даже «силе небесной» (как Святогор, как русские богатыри после славной победы над воинством Калина / Кудреванко в былине о Камском побоище19).
Былинные антагонисты — как «свои», так и «чужие» — также проявляют героический гнев о бесславии или гнев-дерзновение о славе: Змея отвергает возможность убить нагого и безоружного Добрыню Никитича «на жидко́ й воде»20, ведь такой поступок может быть сочтен проявлением трусливого коварства с ее стороны. По той же причине царь Василий отказывается убить безоружного Соломана, но собирается казнить его публично21. Нахвальщик (Сокольник) испытывает гнев, вызванный личным бесславием (зачатие вне брака)22, а Тугарин Змеевич — из-за бесславящих его насмешек Алеши Поповича23. Лебедь Белая скрывает гнев, переживаемый вследствие угрозы личного (и родового) бесславия, и пытается отомстить Михайле Потыку, вступив с ним в брак и затем в буквальном смысле слова сведя мужа в могилу24.
Алеша Попович («свой» антагонист, соперник Добрыни Никитича), посягнувший на жену побратима ради славы (обладание лучшей красавицей Киева), с очевидностью отвергает все запреты — прежде всего нравственные, — мешающие ему обладать ею. Именно гневное отвержение запретов и дерзновение о славе, желание оставить о себе память должны были побудить Соловья-разбойника свистеть в полную силу на пиру у князя Владимира25, невзирая на риск погибнуть от руки Ильи Муромца. Второстепенным персонажам былин также не чуждо дерзновение о личной славе, принуждающее их отвергать принятые в обществе запреты: так, например, племянница князя Владимира Забава Путятична, стремясь выйти замуж за прославленного жениха, сама сватается — в нарушение былинной морали — к Соловью Будимировичу26.
Альтернативное представление о «сердце богатырском» как источнике сострадательной любви, позволяющем совершать подвиги во славу Божию, последовательно укрепляется в былинах.
Алеша Попович сострадает князю Владимиру («Алеша По пович и Тугар ин»), обесчещенной Елене Петровне / Сбродовне
(«Алеша Попович и сестра Петровичей / Сбродовичей»); Василий Игнатьевич, соглашаясь защищать Киев, — князю Владимиру и княгине Апраксии («Василий Игнатьевич и Ба-тыга»); Микула Селянинович — «глупому» Вольге и неразумным взбунтовавшимся «мужичкам» («Вольга и Микула»).
Добрыня Никитич проявляет сострадание к изувеченным товарищам по играм, чьи родители, насколько можно судить, жалуются его матери — и уезжает из города27 (в отличие от Василия Буслаева, который не покидает Новгорода и начинает мстить горожанам [«Василий Буслаев и Новгородцы»]); к пленникам Змеи (в былине о втором бое со Змеей); к матушке и к жене Настасье, обманутым Алешей, и, наконец, к самому сопернику («Неудавшаяся женитьба Алеши Поповича»). Дюк Степанович жалеет Чурилу Пленковича, а также раздает бедным / жертвует киевским монастырям свои драгоценные наряды28; Ермак Тимофеевич сострадает князю Владимиру — и выступает на защиту Киева29.
Илья Муромец сострадает перехожим каликам, просящим воды, и своим родителям, утомленным тяжелым трудом по расчистке пожни30; осажденным жителям Чернигова (причем ради них герой даже нарушает «заповедь отцовскую»31); детям Соловья-разбойника32; князю, княгине и людям, пострадавшим от соловьиного свиста, а также Алеше Поповичу, прилюдно бросившему в Муромца нож33; обманутому им Святогору, которому русский богатырь рассказывает всю правду, не боясь мести34. Затем — юному «глупешенькому» Добрыне Никитичу, сохраняя ему жизнь по ранее высказанной просьбе его же ма-тушки35; побежденному Нахвальщику / Сокольнику (в первую с ним встречу)36; наконец — разбойникам-«станичничкам», которые попытались обокрасть и убить «староѓ о»37.
Козарин сострадает не только русской полонянке, но также щадит одного из татар-похитителей (того, кто предлагал девушке законный брак)38; сердце Константина Саульевича «разгорается» состраданием к отцу, когда он понимает, что родителя нужно искать, отправившись по дороге, которая обозначена надписью с обещанием смерти39. Михайло Данилович жалеет покрытого кровью старика на поле брани, несмотря на угрозы со стороны последнего40; Михайло По-тык — змею, умоляющую залить водой ее горящее гнездо41; Садко — терпящих бедствие корабельщиков, о судьбе которых рассказывает ему святой Никола42; Сухман — выбившуюся из сил Непру-реку, которая ведет себя по-богатырски, защищая русскую землю от вражеского нашествия43. Хотен Блу-дович проявляет сострадание не только к Часовичам, которых он выкупает из татарского плена44, но и к «невольным ратникам», выставленным против него Часовой вдовой45.
Второстепенные персонажи былин также способны испытывать любовь-сострадание. В частности, княгиня Апраксия / Забава Путятична / «дочь одинокая» князя Владимира жалеет заточенного в темницу Илью Муромца46, а матушка Хотена Блудовича прощает и жалеет оскорбившую ее Часову вдову47.
Гнев о личном бесчестии и жажда добычи мотивируют поступки, которые ведут к дурным для актора последствиям; напротив, гнев, вызванный поруганием святынь и прочих объектов, обладающих «честью», позволяет героям былин действовать с предсказуемым благим результатом. Например, Алеша Попович проявляет благочестивый гнев о попираемой святыне брака и побеждает заведомо сильнейшего противника (Змея Тугарина); он же ревнует о «честных столах», о «честных палатах княженецких» и воздерживается от героического гнева в ответ на бесчестие (оскорбление и бросок ножа)48. Василий Игнатьевич подвизается на защиту киевских святынь («Василий Игнатьевич и Батыга»); Василиса Микулична возмущена бесчестием, которое наносит святыне христианского брака князь Владимир, и «наказывает» киевского правителя, заставляя его просватать собственную племянницу за женщину, что в случае осуществления явилось бы еще большим преступлением против таинства венчания49.
Добрыня Никитич ревнует о чести «святых отцов» (которых Змея высмеив ает как лжепророков)50 и об институте брака
(богатырь, явившись неузнанным на свадьбу собственной жены, не предъявляет свои права на красавицу публично, но открывается ей одной, чтобы защитить честь женщины и честь брака от поругания, если Настасья все же предпочтет нового жениха)51. Дюк Степанович отказывается проехать мимо спящих сторожей русской земли (Ильи Муромца и Добры-ни Никитича / Самсона Колыванова)52, чтобы не подвергнуть бесчестию русское богатырство. Он же воздерживается от гнева на Чурилу Пленковича, дабы не бесчестить церковную службу53; герой не боится указать князю Владимиру на недостаточно исправное чествование киевлянами святых икон и церковных строений, херувимской песни и «Божьего дара» (хлеба). Илья Муромец проявляет любовь-ревнование об «обеденке», доступ к которой затруднен по вине Соловья-разбойника54, об институте брака (реакция на кровосмешение в роду Соловья)55, о законной власти (защита киевского князя и княгини от бесчестия во время соловьиного свиста)56, о «честных столах» и институте русского богатырства (в эпизоде с ножом, брошенным Алешей57, и в былине о ссоре с князем Владимиром58), об институте нищенства «Христа ради» и институте христианского брака («Илья Муромец и Идоли- ще»)59, о свят ых церквях, монастырях, о вдовах и сиротах
(«Илья Муромец и Калин-царь»)60, о почитании Бога, Богородицы и святых угодников (жертвование на церковь всего золота из найденного клада)61.
Козарин, к счастью для него самого, оказывается способен проявить почтение к институту честного девичества62; Константин Саульевич / Саулович чтит отцовское благословение (до победы над войском Кунгура-царя)63. Михайло Даниловичу удается освободиться из оков благодаря приливу чудесной силы, вызванной готовностью «стоять за веру да за крещоную», «за церкви за Божыи», «за три-де манастыря»64. Отказываясь от связи с дочерью Морского царя, Садко проявляет ревнование об институте «честного» брака (в Новгороде его ждет законная супруга); в конце своих похождений герой чтит обещание, данное им Николе Можайскому (строит обетную церковь)65.
Даже в сюжете о ссоре Ильи Муромца с князем Владимиром главный герой мотивирован отнюдь не желанием отомстить за личное бесчестие: он вступается за все русское богатырство, которое потеряло свое почетное положение в Киеве по вине «людей лукавых». Принципиально важно то, что Илья, явившись в стольный град, не называет своего настоящего имени, но представляется безвестным Никитой Залешанином. Он испытывает князя и потому обозначает лишь свою принадлежность к богатырству, требуя на этом основании положенного богатырю «среднего места» за княжьим столом.
Если бы князь узнал Муромца то, надо полагать, предложил бы лично ему почетное место. Но неведомому воину Никите назначают низкое место, и это указывает на то, что власть перестала ценить богатырей как сословие. Не только почетные, но и «средние» места, ранее всегда принадлежавшие русским витязям, заняты теперь «боярами кособрюхими» и прочими «людьми лукавыми», которые обманом и кознями добились расположения власти. Тут Илье «за обиду стало»: он приходит в гнев, наблюдая бесчестие, которое нанесено при дворе киевского князя всему русскому богатырству как общественному явлению.
Илья Муромец начинает свой удивительный «бунт». Его цель — отнюдь не захват власти, не смещение Владимира с трона и даже не полное изгнание бояр и богачей из Киева. Ради восстановления чести богатырства как общественного института Илья идет на конфликт с киевским правителем. Он добивается того, чтобы русскому богатырству было наконец возвращено почетное «срединное» место за княжьим столом и в русском обществе в целом. В. П. Аникин полагал, что в рассматриваемом сюжете Илья стремится доказать князю свое право считаться «самым сильным защитником Руси» [Аникин: 169]. Между тем «чемпионские» притязания Муромца представляются сомнительными, если учесть, например, следующую подробность: в большинстве вариантов былины о ссоре богатыря с князем Владимиром говорится, что даже после примирения Илья отказывается сесть на «место верхнее», но занимает положенное всем богатырям «место среднее».
Как можно заметить, присутствие в каждой паре конкурирующих аксиологических категорий — как девальвируемой, так и укрепляемой ценности — указывает на то, что задачей эпического певца могла быть деконструкция картины мира, основанной на ценностях героического гнева, желания личной чести и личной славы. Одновременно, как логично предположить, происходило утверждение мировоззрения, основанного на любви к страдающему человеку и ревновании о чести «внешних» по отношению к герою и слушателю объектов: христианских святынь и Божьих установлений на земле, обладающих свойством «правды-истины».
Как следствие, русское эпическое сознание представляет собой единую для подавляющего большинства певцов картину мира, выстроенную на аксиологической доминанте страдающего человека и установленных Богом законов, на ценностях соборной славы и «честных» объектов, «стоимость» которых превышает значение человеческой жизни, а также на инструментальной ценности Божьего дара как возможности бескорыстного служения.
Девальвируемые в русских былинах ценности личной чести и личной славы, а также связанные с ними ценности-средства («энергии») совпадают с ценностями осуждаемого в христианстве мировоззрения «ветхого человека» (Еф. 4:22–23, Рим. 6:6; Колос. 3:9). Согласно преп. Ефрему Сирину, вожделение «ветхого человека» «имеет троякое стремление, или к плотским удовольствиям, или к пустой славе, или к прелести богатства»66. Эти ценности тождественны тем, которые занимают высшее место в иерархии девальвируемых аксиологических категорий русского былинного эпоса: «плотские удовольствия» и «богатство» суть составляющие личной чести героя, тогда как «пустая слава» соответствует былинной «славе сосветной».
Отцы христианской Церкви утверждают, что «ветхий человек» пребывает в падшем состоянии, главной особенностью которого является себялюбие («самость», «самоугодие»), проявляющееся, в частности, в виде таких пороков, как сребролюбие, чревоугодие или похоть67. Применительно к былинам названные пороки отражают христианское понимание ценностных ориентаций эпического героя на такие важнейшие составляющие его личной чести, как золото, ценное имущество, любовные утехи, яства и питие.
Напротив, картина мира, которая основана на аксиологической доминанте любви-ревнования о святынях, а также об установленных Богом законах и социальных институтах, совпадает с утверждаемым Отцами Церкви мировоззрением «нового человека». У Иоанна Лествичника находим, в частности, прямое указание на необходимость отказа от личной чести (ἀτιμία — бесчестие ради Христа)68. Согласно свт. Феофану Затворнику, отвержение самости позволит преодолеть как «страсти, которые прямо порождаются самоугодием, то есть страсти похоти», так и те, которые «порождаются из самости вследствие случайных столкновений и сопротивлений» между людьми69. Именно так и происходит с теми былинными героями, в ценностном центре которых утверждается доминанта благочестивого (т. е. почитающего святыни) «сердца богатырского». Персонажи этого типа, с одной стороны, не желают личной чести (свободны от «зависти»), а с другой стороны, не гневаются в случае причинения им личного бесчестия (лишения ценного имущества или материально-знаковых благ).
Тот факт, что ценность личной («именной») славы девальвируется в былинах, соответствует установке христианского сознания на подавление стремления к ней как порочной страсти («ничего не станем делать из-за людской славы»70, «истинная слава состоит в том, чтобы презирать славу, считать ее за ничто»71). В христианском понимании личная, «языческая» слава является искушением и грозит не только посмертными муками, но и кознями завистников еще при жизни человека (как это отражено, например, в сюжете византийского «Прекраснейшего рассказа об удивительном муже по имени Велизарий» [Попова: 48]).
Отцы Восточной Церкви прямо противопоставляют «славу человеческую» и «славу Божию»: «уловляемый тщеславием не может быть в мире ни с самим собой, ни с ближним»72; ищущий земной славы «чужд умиления и ко всем жесток сер-дцем»73. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что в русском героическом эпосе именно бескорыстное сострадание к ближнему, побуждающее героя на подвиги ради славы Божией, образует пару альтернативных одноименных концептов, конкурируя с ценностью личной славы.
Согласно прп. Антонию Великому, в том, кто любит человеческую славу, постоянно живут «зависть и рвение»74. Здесь уместно отметить, что о былинных героях, одержимых желанием личной славы, певцы сказывают, что им «завиду стало», что сердце их «заплывчиво» и «неутерпчиво». Русское эпическое представление о том, что страстно желающее личной славы сердце «заплывает» — то есть толкает героя на преступление запретов, положенных «обычным» людям, с которыми он не хочет равняться, — вполне соответствует христианскому взгляду на последствия поступков, предпринимаемых ради «земной славы». Так, Иоанн Златоуст подчеркивает следующую закономерность: «Ничто, истинно ничто так не делает людей законопреступными и несмысленными, как желание славы народной»75.
По убеждению Отцов Церкви, «матерь гордости — тщесла-вие»76: «ветхий человек», желая личной славы, становится гордым, возвышает себя над другими. В былинах одержимого жаждой личной славы Тугарина вносят в княжьи палаты на золотом блюде или золотой доске. Впоследствии Змеевич с нескрываем ым презрением относится к Алеше Поповичу.
Чрезвычайной, богоборческой гордостью одержим Идолище, который запрещает цареградским нищим просить подаяние «Христа ради», но велит просить его «ради Идолища».
Даже частным, на первый взгляд, «психологическим» наблюдениям Отцов Церкви о страсти тщеславия соответствуют своего рода былинные «иллюстрации». Например, по слову Нила Синайского, «нередко от тщеславия происходят помыслы блуда»77. Укажем, что многие былинные антагонисты, добивающиеся личной славы более, чем личной чести, желают обладать чужой женой (в особенности супругой властителя) — таковы Волх Всеславович и Змей Тугарин; даже Алеша Попович желает прославиться тем, что за него добровольно вышла Настасья Микулична, супруга Добрыни Никитича («Неудавшаяся женитьба Алеши Поповича»). Один из самых честолюбивых богатырей — Дунай Иванович — распространяет молву о своей связи с недоступной никому более дочерью Политовского короля («Молодец и королевна»).
Былинное понимание богатырского «талана-участи» как дара, полученного свыше для бескорыстного служения, восходит, вне всякого сомнения, к евангельской притче (Мф. 25:14–30)78, утверждающей представление о таланте как о ценности, которая не является собственностью человека, но дана ему лишь во временное владение для того, чтобы употребить ее на пользу ближним. При этом одаренного ждет наказание, если он свой талант «сохранил в себе <…> бесплодным и бесполезным для других»79.
Характерное для эпосов многих народов альтернативное представление о ценности чудесного богатырского дара (силы, мудрости и др.) как личного права героя на добычу и славу соответствует осуждаемому в христианстве образу «ветхого человека». Яркой иллюстрацией тому является сцена выбора пути на росстани. Русский эпический герой отказывается от дороги, обещающей «богату быть» и «женату быть» (ценное имущество и труднодоступная красавица — самые распространенные в мировом эпосе трофеи героя, нацеленного на добывание личной имущественной чести). Вместо этого былинный богатырь предпочитает путь бескорыстного жертвенного служения, обещающий ему «убиту быть».
Христианская ценность воздержания соотносится с русской эпической «неупадчивостью»: «неупадчивость» на яства / пития, на блуд соответствует христианским добродетелям аскезы и целомудрия, «неупадчивость» на гнев — кротости. Для «нового человека» характерно замещение ценности самолюбивого гнева — ценностью гнева праведного, подвигающего на защиту святынь.
Харизматическая природа богатырского дара в понимании христиан определяет духовный характер приданной свыше силы, которая противопоставляется силе грубой, телесной. Харизматическая сила не может быть направлена на удовлетворение личных интересов героя (т. е. запросов «ветхого человека» — стремления к добыче и славе).
Способность героя молиться так, чтобы получить просимое, высоко ценится в былинном мире: такая молитва обеспечивает победу и помогает избежать гибели за счет немедленного получения дара свыше (как правило, силы, но также золота). Молитва и богомолье необходимы для спасения «честного» объекта — самой души героя.
Дар богатырской силы, таким образом, в православном понимании не есть личное право или некое преимущество одаренного, но бремя служения, близкое монашескому подвигу отречения от соблазнов мира. В частности, митр. Иоанн (Снычев) трактовал «послушание богатырства» как «служение Богу и Церкви на поприще мятежной бранной жизни» и полагал, что Илья Муромец получил от Святогора «дар <…> богатырской силы вместе с обязанностями этого служения» [Иоанн Снычев: 57].
Девальвация в былинах общеэпической ценности героического гнева, вызванного недостатком личной чести или личной славы, соответствует христианскому отвержению себялюбивого гнева как порока «ветхого человека». Свт. Феофан Затворник подчеркивает, что в «ветхом человеке» «качест-вует самоугодие», поэтому меж такими людьми «неизбежны столкновения, от коих раздражение и все порождаемые им страсти и дела неприязни»80. В русских былинах «языческая» ценность характерного акта богатырского сердца — героического гнева как желания чести и славы (или же как реакции на бесславие или бесчестие) — замещается христианским пониманием гнева как ревности о Боге.
В Новом Завете и Апостольских Посланиях нередко встречается слово θυμός , обозначающее сильное раздражение сердца, ярость81. Эту сердечную силу, по словам свт. Григория Назианзина, человек получает как «дар Божий», и в таком качестве она не имеет характера персонального возмездия за личное бесчестие или ущемление личных прав82. Сопоставимым образом свт. Василий Великий говорит о «пользе раздражительности»83, а прп. Иоанн Пелусиот призывает «гневаться справедливо, когда речь идет или о славе Божией, или об исправлении ближнего, или когда должно наказать за обиженных», но предостерегает гневаться «в отмщении за себя самих»84. В случаях, когда поруганию подвергаются материальные святыни, «законы Божьи», когда причиняют страдания беззащитным, богатыри ощущают «ярость», «разгарчивость», «неутерпчивость» сердца. Способность испытывать эту эмоцию имеет безусловно положительное значение в аксиологической системе русского эпического сознания и является своеобразным «индикатором» богатырского характера как такового.
С христианским представлением о «ветхом» и «новом» связана трехчастная схема «устроения» человека, которая восходит к апостолу Павлу (1 Сол. 5:23). Так, прп. Ириней Лионский писал о том, что «совершенный человек <…> состоит из трех — плоти, души и духа»85. Результаты аксиологического анализа былин свидетельствуют о том, что в понимании русского эпического певца человек, в частности былинный богатырь, тоже имеет трехчастное строение.
Герои, для которых высшими ценностями являются соборная слава русского богатырства и честь православных святынь, обладают имеющей духовную природу необыкновенной способностью — харизматической силой («таланом»). Эту силу — по молитве или в ответ на акт сердечного сострадания — может получить свыше даже физически немощный персонаж. Другие дары свыше — харизматическая смелость («ярость»), получаемая в ответ на движение сострадающего сердца героя, ощущающего свое нравственное право на победу, и харизматический ум («догадка»).
Во-вторых, им присущи душевные силы: способность «богатырского» сердца проявлять сострадательную любовь, с гневом отвергать соблазны («неупадчивость»), молиться («молитва доходна ко Господу») и действовать, сдерживая свои чувства («вежество»), а также совершать ценностный выбор и предпочитать тот или иной вариант поступка, исходя из характера мотивирующей ценности.
Наконец, на телесном уровне богатыри обладают такими способностями, как «ловкость-ухватка», умение управляться с оружием и конем, плавать, играть на гуслях, применять военную хитрость, изменять свой облик, притворившись, к примеру, представителем противоположного пола (переодевание). К этому же разряду дарований принадлежит «физическая» (т. е. зависящая от физических ограничений) свобода героя как способность действовать, реализовывая свое предназначение.
Напротив, богатыри, «устроенные» по модели «ветхого человека» (т. е. стремящиеся, подобно большинству эпических героев разных народов, к стяжанию личной чести и личной славы), лишены духовных способностей. Их необыкновенная сила имеет исключительно физическую природу; в плане душевных способностей они характеризуются лишь героическим гневом и «похотью», «заплывчивостью» — желанием славы и чести.
Влияние эпических певцов на аудиторию приводит к результатам, общим для всего корпуса былинных записей. Сознание слушателя мыслится как имеющее телеологический характер: оно не может верно оценить аксиологический выбор героя, располагая лишь знанием о той ценности, которая этого героя мотивировала. Технология ценностно-корректи-рующего воздействия на аудиторию подразумевает, что слушателю для оценивания важно знать о последствиях совершенного поступка. Сознание певца, напротив, «деонтологично». Он, например, «знает» о том, что сострадание есть добродетель, т. е. благо само по себе и в любой ситуации, а жажда личной славы есть порочная страсть; с учетом этого поступок героя сказитель имеет возможность оценить на основании одних только сведений о мотивирующей героя ценности, при этом информация о последствиях поступка не является необходимой.
Следовательно, внеэстетической задачей русского эпического певца и внеэстетической функцией былины как жанра является деконструкция в сознании аудитории мировоззренческих принципов «ветхого человека». Одновременно происходит утверждение христианской картины мира, основанной на любви к страдающим людям и ревновании о чести «внешних» по отношению к личности объектов — православных святынь и Божьих установлений на земле. Однако реализовать эту функцию возможно лишь в аутентичном акте фольклорной коммуникации, предполагающем непосредственное взаимодействие певца и его аудитории.
Список литературы Аксиологические доминанты в системе ценностей русского эпического героя
- Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. Л.: Наука, 1974. 171 с.
- Аникин В. П. Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин. М.: Изд-во Московского ун-та, 1980. 332 с.
- Аншакова С. Ю. Языковая картина мира в системе антонимических оппозиций русских былинных текстов: автореф. дис. … канд. филол. наук. Тамбов, 2001. 25 с.
- Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов. С. 7–68.
- Бернштам Т. А. Герой и его женщины: образы предков в мифологии восточных славян. СПб.: МАЭ РАН, 2011. 371 с.
- Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний период). М.: Наука, 1965. 245 с.
- Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М.: Наука, 1974. 342 с.
- Иоанн Снычев, митр. Духовные основы русского богатырства. Былины как зеркало русского сознания // Иоанн Снычев, митр. Самодержавие духа: очерки русского самосознания. М.: Институт русской цивилизации; Родная страна, 2017. C. 49–63.
- Мадлевская Е. В. Героиня-воительница в эпических жанрах русского фольклора: дис. … канд. филол. наук. СПб., 2000. 225 с.
- Миронов А. С. Аксиосфера русского эпоса и ценностный выбор его героев: культурфилософский анализ: дис. … д-ра философ. наук. Волгоград, 2021. 426 с.
- Миронов А. С. Эпос русских: ценности. М.: Институт Наследия, 2022. Ч. 1. 354 c.
- Миронов А. С. Эпос русских: ценности. М.: Институт Наследия, 2023. Ч. 2. 352 c.
- Попова Т. В. Византийская народная литература. История жанровых форм эпоса и романа. М.: Наука, 1985. 272 с.
- Путилов Б. Н. Древняя Русь в лицах: Боги, герои, люди. СПб.: Азбука, 1999. 367 с.
- Путилов Б. Н. Эпос и обряд // Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Л.: Наука, 1974. C. 76–81.
- Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. М.: Международные отношения, 1999. Т. 1. 687 с.
- Смирнов Ю. И. Славянские эпические традиции. М.: Наука, 1974. 263 с.
- Ухтомский А. А. Доминанта. СПб.: Питер, 2002. 448 с.
- Фроянов И. Я. Начало христианства на Руси. Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2003. 273 с.
- Чердынцев В. В. Черты первобытнообщинного строя в былинах // Чердынцев В. В. Где, когда и как возникла былина? М.: Эдиториал УРСС, 1998. С. 12–40.