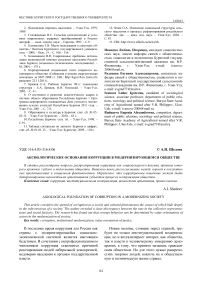Аксиологические основания коррупции в модернизирующемся обществе
Автор: Шедоев Алексей Игоревич
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 14, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены вопросы распространения коррупции как социокульурного явления, причины которого кроются глубоко в подсознании общества. Выявлено явное рассогласование между нормой в коллективных представлениях и социальной фактичностью. Определено, что коррупционное поведение может быть детерминировано ценностными ориентациями субъектов процесса модернизации общества.
Коррупция, институциональная модернизация, ценностная ориентация, правосознание
Короткий адрес: https://sciup.org/148180815
IDR: 148180815 | УДК: 316.4.05-316.4.06
Текст научной статьи Аксиологические основания коррупции в модернизирующемся обществе
В последнее время коррупция для России как страны с модернизирующейся социальноэкономической системой является настоящим бедствием. В сочетании с непрофессионализмом чиновников коррупция становится причиной разочарования людей либеральной демократией, недоверия населения к органам государственной власти.
Новые вызовы, стоящие перед страной, требуют не только институциональной модернизации, но и актуализируют интерес, как общества, так и власти к человеческому измерению демократии, к тому, что принято называть гражданским обществом. Но для этого нужно раскрепостить энергию людей, вовлечь их в общественную и политическую жизнь страны.
То есть, в анализе коррупции как социокультурного явления нам представляются важными ответы на такие вопросы как: связано ли распространение коррупции в современном российском обществе с радикальным изменением культурных ценностей и установок; можно ли остановить широкое распространение коррупции с помощью изменения ценностно-нормативных установок базовых институтов современного российского общества и конкретных индивидов; какую роль в борьбе с коррупцией могут сыграть традиционные установки?
Ответы на эти вопросы затрагивают культурологический и ментальный (психологический) аспект проблемы. В этой связи с целью изучения ментальных нормативно-ценностных установок санкционирования коррупции нами была использована методика равновероятных трюизмов, позволяющая выяснить – какая именно норма в отношении коррупции преобладает в обществе в настоящее время [1]. Мы исходили из того, что норма всегда является трюизмом – чем-то обы- денным, всем известным, само собой разумеющимся. Предлагая респонденту равновероятные нормы, мы выясняем – какая из них доминирует. Необходимо пояснить, что юридические нормы могут не совпадать с нормами обыденной жизни людей, могут быть антагонистичны. В этом случае право действует избирательно: в одном случае могут наказать, в другом – сделать вид, что не заметили. Или в одном случае наказать соответственно закону, в другом – «по понятиям» общества.
Мы опросили 320 респондентов в г. Улан-Удэ, Гусиноозерск, Северобайкальск, Кяхта и двух сельских районах – Прибайкальском и Еравнинском. При определении сельских районов использовался метод квотной выборки. Поскольку основная направленность исследования касается анализа зависимости уровня коррупции от ценностных ориентаций респондентов, то в качестве контрольных признаков выступили сведения о таких параметрах как возраст, пол, место жительства (город-село).
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Должны ли люди каким-то образом проявлять благодарность за оказанные услуги со стороны других людей?» (%)
|
Варианты ответов |
Возрастные группы |
|||
|
18-30 |
31-50 |
Старше 50 лет |
В целом |
|
|
Да |
94 |
96 |
96 |
95 |
|
Нет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Это личное дело каждого |
5 |
4 |
4 |
4 |
|
Затрудняюсь ответить |
1 |
0 |
0 |
1 |
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Должны ли люди каким-то образом проявлять благодарность за оказанные услуги со стороны чиновников?» (%)
|
Варианты ответов |
Возрастные группы |
|||
|
18-30 |
31-50 |
Старше 50 лет |
В целом |
|
|
Да |
82 |
40 |
29 |
51 |
|
Нет |
2 |
24 |
46 |
24 |
|
Это личное дело каждого |
4 |
28 |
20 |
17 |
|
Затрудняюсь ответить |
12 |
8 |
5 |
8 |
Итак, нашим респондентам был задан вопрос: «Какие отношения между людьми в обществе являются, с Вашей точки зрения, нормальными?», для их характеристики предлагалась пара: «взаимопомощь / каждый сам за себя». Выяснилось, что для подавляющего большинства респондентов (94%) нормальным в отношениях является готовность к взаимной помощи. На вопросы: «Должны ли люди каким-то образом проявлять благодарность друг другу за оказанные услуги?» и «Должны ли люди каким-то об- разом проявлять благодарность за оказанные услуги со стороны чиновников?» все три возрастные группы – молодежь, средний возраст, старшее поколение – разделились во мнениях относительно нормы «друг другу» и «чиновникам»: среди молодежи (до 30 лет) ответили «да» и в первом, и во втором случае примерно одинаково (94% и 82%); в среднем возрасте расхождение уже значительно больше (96% и 40%); в старшем возрасте разрыв более радикальный – 97% против 29% (табл. 1,2).
Полученные данные говорят о том, что молодежь, социализированная в современных условиях, более терпима к такой форме коррупции как взятка. Молодежь усвоила значение и силу коррупционной составляющей, способствующей, в том числе, и личному успеху, если ты являешься действительным носителем новых прагматичных корпоративных ценностей, среди которых «благодарность» понимается как корыстная услуга. То есть, установка «ты – мне, я – тебе» воспринимается молодыми респондентами как само собой разумеющийся поведенческий стереотип.
При исследовании отношений между государством и гражданами было предложено выбрать из пары: «граждане должны обладать возможностью влиять на государственную политику / влияние граждан на государственное управление необязательно». Выяснилось, что 92% опрошенных разделяют первое мнение, противоположное суждение поддержали 6% респондентов. Характерно, что ответы в пользу обязательного влияния граждан на политику государства доминируют во всех возрастных когортах: 92% – молодежь, 91% – средний возраст, 93% – старший возраст. Считают влияние граждан на управление необязательным 9% молодежи, 3% респондентов зрелого возраста и 5% старшего поколения соответственно. После фиксации доминантной нормы был задан вопрос: «С учетом данного Вами ответа, являются ли отношения между государством и гражданами в сегодняшнем российском обществе нормальными?». 95%, считающих нормой возможность граждан влиять на государственное управление, ответили на этот вопрос отрицательно. Из числа респондентов, полагающих, что влиять на государственное управление необязательно, считают сложившиеся отношения в данной системе нормальными 40%.
Очевидно, текущее положение дел в данной системе общественных отношений воспринимается в качестве ненормального, даже молодежь не хочет признавать отношения между людьми и государством как нормальные, хотя в их сознании доминирует принцип «каждый сам за себя». Налицо явное рассогласование между нормой в коллективных представлениях и социальной фактичностью. Из этого можно сделать вывод, что молодежь, также как и старшее поколение недовольна «коррупционной составляющей» в отношениях между государством и людьми. То есть, они пока готовы жить по сложившимся «понятиям», но до поры до времени.
Установлено, что предпочтительными ценностями для респондентов стали: взаимопомощь, влияние граждан на государственную политику, взаимная ответственность и уважение в отношениях между народом и властью. То есть, содержанием сознания подавляющего большинства опрошенных нами респондентов выступают нормы, которые можно определить в качестве конструктивных, основанных на ценностях коллективизма и демократичности. Однако, вместе с тем, мы обнаруживаем готовность людей (большей части молодежи) каким-либо образом быть благодарными представителям власти за оказанные услуги. На наш, взгляд, в данном трюизме заложен коррупционный потенциал – это по сути дела коррупция «снизу», ее ментальная культурная основа или нормативный консенсус между народом и властью. Иначе говоря, коррупция никому не нравится, но и не отторгается.
В ходе опроса обнаружились статистически значимые различия по социальнодемографическим и гендерным характеристикам по нормативному консенсусу по отношению к коррупции. Молодые респонденты мужского пола более привержены данному трюизму, а также таковых больше среди живущих в городе Улан-Удэ, чем в сельских районах.
Выявленный консенсус – это достаточно серьезный нормативный диссонанс между должным и сущим. На основании этих результатов мы можем сделать вывод о том, что коррупционные отношения санкционируются существующими в коллективных представлениях нормами.
Похоже, в данной сфере вновь обнаруживает себя амбивалентность российского сознания и ментальности, на которую обратили внимание еще Н.А. Бердяев и И.А. Ильин, и которая постулируется как феномен, названный Ж.Т. То-щенко «парадоксальным мышлением». В любом случае мы имеем все признаки социальной аномии, при которой институциональные практики и общественные отношения вошли в резкий диссонанс с представлениями о должном общественном устройстве, присущем гражданам России. С другой стороны, сама необходимость существовать в системе, несанкционированной нормами, признающимися людьми как действительные, не может не порождать коррупционное мышление как снизу, так и сверху. Выведенная на уровень рефлексии, эта парадоксальность действительно начинает напоминать «сделку с совестью» – некий прием, позволяющий сосуществовать взаимоисключающим началам, вновь демонстрирующий нам феномен «абсурдной дополнительности» [2].
Низкий уровень правосознания и правовой культуры всего населения формирует общий деструктивный фон для развития коррупции и экспансии коррупционных практик: во-первых, формируется своего рода социальный заказ населения на правовую деформацию сознания государственных служащих, с другой – искаженные правовые установки, правовой нигилизм государственных служащих усугубляют дефор- мации правового сознания и правового поведения населения.
Столкнувшись с нарушением своих прав, часть наших респондентов (23%) готова прибегнуть к неправовым методам их восстановления. Из этого следует, что неправовые практики достаточно глубоко укоренены в общественном сознании, следовательно, они приносят успех наряду с использованием правовых каналов восстановления прав (табл. 3,4).
Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Если нарушаются Ваши права, то какие способы Вы предпочли бы использовать при отстаивания своих прав и интересов?» (%)
|
Варианты ответов |
Возрастные группы |
|||
|
18-30 |
31-50 |
Старше 50 лет |
В целом |
|
|
Обращение в суд |
61 |
73 |
78 |
71 |
|
Обращение в государственные или общественные организации для решения своих проблем |
6 |
10 |
6 |
7 |
|
Участие в забастовках, митингах и демонстрациях |
4 |
2 |
2 |
3 |
|
Использование своих связей и знакомств |
15 |
12 |
10 |
12 |
|
Участие в деятельности политических партий и движений |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Договоренность с теми, от кого зависело решение проблем, за соответствующее вознаграждение |
10 |
2 |
3 |
5 |
|
Не стал бы ничего делать |
2 |
0 |
0 |
1 |
Таблица 4
Распределение ответов на вопрос «Допускаете ли Вы нарушение закона при условии, что…» (%)
|
Варианты ответов |
Возрастные группы |
|||
|
18-30 |
31-50 |
Старше 50 лет |
В целом |
|
|
Закон несовершенен |
38 |
40 |
33 |
37 |
|
Все нарушают закон |
15 |
6 |
2 |
8 |
|
Никто об этом не узнает |
17 |
8 |
4 |
10 |
|
Допускаю уклонение от уплаты налогов |
8 |
18 |
16 |
14 |
|
Не допускаю нарушения закона ни при каких обстоятельствах |
22 |
28 |
45 |
32 |
Успех неправовых практик и неконкурентно-способность легитимных методов обуславливают деформацию правового сознания и ведут, в первую очередь, к правовому нигилизму, правовому релятивизму и правовому инфантилизму. По-видимому, массовое распространение товарно-денежных отношений привело в нашем обществе к принципиальному изменению человеческого мышления: уменьшению роли гуманизма, альтруизма.
В нашем исследовании мы также обратили внимание, что респонденты старшего возраста, социализированные в традициях советской морали, проявляют большую нравственную целостность, чем поколение, чье взросление совпало с трансформацией общества.
В этой связи хотелось бы отметить, что в развитых демократиях, включая США, сочетаются сильные официальные учреждения с гибкой неформальной культурой, обеспечивающей их устойчивость. То есть в дополнение контролирующих государственных органов и законов в борьбе с коррупцией есть еще и культура. Поэтому моральные качества людей, встроенные в формальные институты, способствуют решению многих проблем, в том числе связанных с коррупцией.
Мы разделяем авторитетное мнение Ф.Фукуямы, предостерегавшего о том, что переход на буржуазные рельсы, которому подверглись бывшие коммунистические общества не ведет одновременно к прогрессу морали, а на- оборот сопровождается тенденцией к крайнему индивидуализму [3].
Культура неограниченного индивидуализма, к сожалению, легко справляется с любыми моральными ценностями, хотя известно, что моральные ценности и общественные правила – это необходимое условие совместной деятельности людей, а, значит, и всего общества. То есть культура неограниченного буржуазного индивидуализма является основой коррупционного поведения. Эта культура выгодна коррупционерам. В этой связи характерно мнение респондента: «Хотелось бы обратить внимание на то, что в нашем сегодняшнем обществе быть честным просто смешно, честность воспринимается как слабость, на современном слэнге честный человек – это лох. Обратите внимание на то, что людей друг с другом ничего сегодня не связывает, ощущается общая растерянность и потерянность, люди злы и агрессивны, им обидно, что те ценности, которыми они руководствовались в жизни, сейчас никому не нужны».
На наш взгляд, коррупционное поведение может быть детерминировано ценностными ориентациями субъектов. С этой точки зрения коррупционная деятельность имеет вполне «человеческие» детерминанты. По нашему мнению, ценности коллективизма советского времени и ценности буржуазного индивидуализма современного общества являются основами для функционирования и воспроизводства двух типов поведения – в первом случае основанного на морали, в другом – на так называемых «правилах игры», «понятиях» обуславливающих коррупционное поведение.