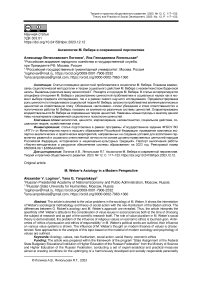Аксиология М. Вебера в современной перспективе
Автор: Логинов А.В., Янпольская Я.Г.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена ценностной проблематике в социологии М. Вебера. Показана взаимосвязь социологической методологии и теории социального действия М. Вебера с неокантианством баденской школы. Выявлены различия межу аксиологией Г. Риккерта и подходом М. Вебера. В статье интерпретируется специфика отношения М. Вебера к рассмотрению ценностной проблематики в социальных науках как в момент выбора предмета исследования, так и в рамках самого научного исследования. Продемонстрирована роль ценностного плюрализма в социальной теории М. Вебера, затронута проблематика влияния религиозных ценностей на хозяйственную этику. Обозначена «антиномия» «этики убеждения и этики ответственности» в политических работах М. Вебера, показано их влияние на различные системы ценностей. Охарактеризовано воздействие мысли М. Вебера на современные теории ценностей. Намечены новые подходы к анализу данной темы на материале современной социологии и психологии ценностей.
Аксиология, ценности, мировоззрение, неокантианство, социальное действие, социальная теория, хозяйственная этика
Короткий адрес: https://sciup.org/149144615
IDR: 149144615 | УДК: 303.01 | DOI: 10.24158/tipor.2023.12.12
Текст научной статьи Аксиология М. Вебера в современной перспективе
1,2Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия ,
,
1Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia 1,2Russian State University for Humanities, Moscow, Russia ,
,
Трудно переоценить значение идей Макса Вебера для современных социальных наук и, в частности, социологии. Л. Козер в книге «Мастера социологической мысли» даже утверждает, что социологию можно разделить на «довеберовскую и послевеберовскую» (Козер, 2006). Важную роль идеи М. Вебера сыграли и в развитии ценностной проблематики. Макс Вебер оказал значительное влияние и на трактовку ценностей в современной философии, социологии, истории, политологии, психологии, поскольку современные социальные науки непосредственно связаны с его пониманием культуры и специфики социального действия, трактовкой задач и сущности научного исследования. Ценностная проблематика играет важную роль в социальной теории М. Вебера. Испытав влияние неокантианской аксиологии и творчества Ф. Ницше, М. Вебер создал оригинальную философию и социологию ценностей. Данная проблематика напрямую связана в его творчестве со стремлением, с одной стороны, преодолеть позитивистские установки в восприятии социологии, с другой стороны, для него важно было не перейти на позиции идеалистической философии с ее субъективизмом и иррационализмом. В поиске своей собственной методологии социальных исследований М. Вебер опирался на аксиологические идеи неокантианцев баденской школы. По словам В. Виндельбанда, контекстом развития данных идей стал «распад старых форм жизни и появление новых ценностных мотивов» в европейской культуре (Виндельбанд, 1995: 350).
Ключевым для баденской школы неокантианства стало различение наук на генерализующие и индивидуализирующие, введенное уже В. Виндельбандом, учителем Г. Риккерта. Именно в этом, по мнению представителей данной школы, состоит ключевое различие между естественными и гуманитарными науками. Г. Риккерт в своих исследованиях сосредоточился на понятии индивидуализации, стремясь найти определенную методологию для работы с индивидуальным. Даже если в этой сфере невозможно говорить об открытии особых законов, это не означает абсолютного произвола исследователя при работе с фактами. Важно понять, как происходит различение между «исторически важной индивидуальностью» и «обычной (несущественной) разнородностью». Г. Риккерт вводит понятие ценностей, говоря об особой процедуре «отнесения к ценностям» (Wertbeziehung), и это понятие становится ключевым для социологии М. Вебера. Исследователь, выбирая объект своего исследования, всякий раз соотносит его с миром ценностей, структурирующих, согласно Г. Риккерту, мир человеческой культуры. Естественнонаучное познание имеет определенные границы, полагал он, а история имеет свои собственные методы познания. «История никогда не может пытаться производить свой материал в систему общих понятий (…), но она старается по крайней мере приблизиться к изображению самой действительности» (Риккерт, 1997: 110). Подход Г. Риккерта принципиально отличен от психологического, поскольку немецкий философ стремился отделить мир ценностей от индивидуальных психических переживаний, которые субъективны и изменчивы, при этом Г. Риккерт склоняется к представлению об абсолютных ценностях, имеющих вневременное значение. С другой стороны, он не может не учитывать исторически изменчивый характер проявления тех или иных ценностей. Их непостоянство, пишет он, подобно «волнам океана». Вопрос о соотношении универсальных, трансцендентных ценностей и ценностей имманентных остается у него до конца не разрешенным. Для неокантианцев баденской школы принципиально важно было то, что «ценности нельзя было ни оторвать категорически и абсолютно от человеческого бытия – иначе они рисковали утратить свою содержательную определенность, ни сопрячь с этим бытием – иначе они рисковали утратить свою абсолютность». Меняется представление о ценностях и в перспективе научного исследования: каждый раз на первый план выходят те или иные ценности, определенная их иерархия. Как соотносятся универсальные ценности и исторически изменчивые воплощения этих ценностей, остается достаточно сложным вопросом.
М. Вебер творчески развил представления о ценностях, выработанные в рамках неокантианства Г. Риккерта. Немецкий социолог полагал, что вся человеческая деятельность имеет ценностную окраску. При этом ценность – это определенная структура, при помощи которой люди организуют свой опыт. Именно ценности структурируют человеческую культуру: «Эмпирическая реальность есть для нас культура потому, что мы соотносим ее с ценностями» (Вебер, 1990: 374). Имея дело с социальной действительностью, каждый человек совершает ценностный выбор, отдавая предпочтение «тем или иными богам». Следует заметить, что «боги» в данном высказывании М. Вебера – скорее метафора, хотя о богах в буквальном смысле тоже идет речь. Немецкий социолог имеет в виду различного рода ценностные предпочтения, в том числе и секулярного общества. Феномену религии М. Вебер, как известно, уделял особое внимание. Именно религии были источниками ценностей на протяжении большей части исторического развития человечества, и именно религиозные системы ценностей во многом сформировали хозяйственную этику многих народов. Так, протестантизм ввел понятие «призвания», впервые появившееся в переводе Библии М. Лютера. Согласно М. Веберу, «отношение к мирской профессиональной добродетели с самого начала было характерно для лютеранства» (Вебер, 1994: 225).
Немецкий ученый рассматривал общество как сложное равновесие между различными социальными группами, избегая сущностного подхода к социальному процессу. Он полагал, что все крупные общности и институты складываются из взаимодействий между отдельными людьми. Согласно М. Веберу, социальное равновесие поддерживается именно совместной деятельностью, «поскольку действия каждого человека ориентированы на действия других, и все люди придают особую ценность коллективным образованиям, и все люди придают особую ценность коллективным образованиям, в которых они участвуют». «Вебер рассматривал общество как арену соревнующихся социальных групп, где каждая имеет свои экономические интересы, чувство достоинства, соответствующие своему социальному статусу и определенным взглядам на окружающий мир и на людей. (…) Он был сознательно убежден в том, что некоторые конфликты между людьми объясняются противодействием конечных ценностей, которое не может быть уничтожено в ходе спора и выяснения точек зрения» (Бендрикс, 1994: 571).
Ценностный выбор проявляется на повседневном уровне как предпочтение одних аспектов реальности перед другими, именно ценности определяют цели наших действий. При этом очень важно то, что ценности неотъемлемы от нашего свободного выбора, без этой предпосылки невозможно было бы говорить об освоении тех или иных ценностей. В этом состоит принципиальное отличие ценностей от норм , поскольку последние, чаще всего, оказываются обязательными к исполнению, особенно это относится к нормам юридическим. Ценности связаны с индивидуальным опытом каждого человека, каждый в своих обстоятельствах истолковывает их по-своему. М. Веберу близок подход немецкой исторической школы с ее вниманием к единичному в истории. При этом социолог был далек от мнения, что науке доступно постижение сути социальной реальности, он был склонен рассматривать ее скорее как хаос, на который наука способна набросить свою концептуальную сетку, стараясь уловить неуловимое. Наука сама по себе не способна породить ценности или целостное мировоззрение, «высшие идеалы, наиболее нас волнующие, во все времена находят выражение лишь в борьбе с другими идеалами, столь священными для других, как наши для нас» (Вебер, 1990: 385). М. Вебер полагал, что политеизм ценностей принципиально неустраним.
Немецкий социолог отстаивал автономию научного знания. Именно в научном познании возможно избежать погружения в мир изменчивых ценностей, что оказывается возможным благодаря следующему различению. М. Вебер принципиально разграничивал оценочные суждения (Werturteil) и отнесение к ценности (Wertbezihung). Отнесение к ценности «помогает нам понять то главное, что определяет поведение человека», определяет его внутренний смысл, «индивидуальное толкование человеком избранной ценности» (Кравченко, 2002: 93). Отнесение к ценности характерно для социальной науки, поскольку от него зависит выбор и понимание предмета исследования, именно на этом уровне присутствуют ценностные аспекты. Выбор предмета исследований имеет у него вненаучный характер, так как значимость предмета исследования обусловлена ценностными предпочтениями самого ученого. Само же научное исследование должно быть объективным и свободно от ценностей. «Принцип свободы от ценностей… есть требование отчетливо отграничивать в ходе конкретного социологического исследования констатацию эмпирических фактов от их оценки как достойных порицания или одобрения, желаемых или нежелае-мых» (Гофман и др., 2002: 350–351). Наука ничему не учит, полагает М. Вебер, но позволяет людям осознать то, к чему они сами стремятся. Представляется, что по сравнению с неокантианцами баденской школы М. Вебер сделал значительный шаг в сторону релятивизации ценностей. Также у немецкого социолога нет такого жесткого противопоставления наук о природе и наук о культуре, как это было принято в неокантианстве. Аксиология у М. Вебера напрямую связана с понятием социального действия , центрального для его концепции. Типология социальных действий основывается на ценностных предпочтениях. М. Вебер изучал осмысленные действия, отличая их от реактивных поступков, которые не поддаются социологическому описанию. По сути, все типы действий в той или иной степени связаны с миром ценностей и до некоторой степени рациональны. Отправной точкой для немецкого социолога стал идеальный тип абсолютно рационального поведения, относительно него все человеческие действия отклоняются, не соответствуют ему в полной мере.
Как известно, М. Вебер делит социальные действия на четыре идеальных типа: аффективные, традиционные, целерациональные и ценностно-рациональные. Аксиологическую окраску имеют, прежде всего, действия последнего типа. Действия третьего и четвертого типа связаны с ценностями, но это разные ценности, в целерациональных действиях они инструментальны, а в ценностно-рациональных «ценность имеет внутренний смысл, она самодостаточна» (Шацкий, 2018: 624). Каждый человек, действуя, придает ценностям определенное значение, которое всякий раз «полагается субъективно». Социальными становятся такие действия, которые соотносятся с действиями других людей. Различение ценностей становится основанием для придания смысла тем или иным действиям, именно ценности становятся основным критерием. Ценность представляет собой определенную соотнесенность человека с миром, при этом она отлична от каких-либо утилитарных интересов. Именно ценностный выбор лежит в основе целеполагания, человек в этой ситуации «взвешивает и совершает выбор между ценностями... как ему велит его совесть и его мировоззрение» (Давыдов, 1998: 348). Несмотря на то, что ценности могут быть иррациональными, само действие воспринимается как вполне рационально объяснимое.
В наибольшей степени ценностные установки выражаются в различных религиозных традициях. «Религии для Вебера, в первую очередь – отношения с «миром», при этом «мир», прежде всего, может быть понят как области общества и культуры, которые не являются религией: политика, хозяйство, семья, искусство и т. д. Со всеми этими сферами религия может вступить в отношения, это происходит не абстрактно, но в мышлении и деятельности людей…» (Michaels, 1997: 128). Классическое исследование М. Вебера, как известно, посвящено протестантской этике и ее влиянию на хозяйственную жизнь Западной Европы. Выбор данного объекта исследований, разумеется, для М. Вебера был ценностно мотивирован, это был и способ разобраться в самом себе, и в особенностях европейского капитализма начала XX века. «На протяжении всей книги Вебер интересуется не столько тем, что делают исторические фигуры, сколько тем, что они говорят, что читают и во что верят» (Каубе, 2016: 232–233). Речь здесь идет о ценностных установках. В этом исследовании М. Вебер, возможно, наилучшим образом показал, как работает его метод исследований. Немецкий ученый прослеживает, пользуясь терминологией Ф. Ницше, генеалогию буржуазной морали. Ощущение необходимости исполнения долга, моральной ответственности за свое дело, характерное для американской и европейской буржуазии имело глубокие религиозные корни. Ценностные установки нарождающейся буржуазии вызревали в многочисленных протестантских течениях и сектах, были связаны с суровой теологической концепцией предопределения и разделения людей на две категории: тех, кому предначертано спасение и уготованных к погибели. Формирование ценностей мирской аскезы в этой связи можно рассматривать как результат психологической разрядки, необходимой в условиях совершенно невыносимой метафизической ситуации, в которой оказывается человек в рамках данной концепции. Интерпретация социально-психологического механизма формирования ценностей, как представляется, у М. Вебера достаточно сходна с описанием феномена рессентимента у Ф. Ницше и М. Шелера. В «Хозяйственной этике мировых религий» М. Вебер также исследует ценностные системы различных религий во взаимосвязи с хозяйственной деятельностью и социальной стратификацией.
Интересные ценностные аспекты можно проследить и в политической философии М. Вебера. Как известно, он различил здесь «этику убеждения» и «этику ответственности». Первый тип этики отсылает нас к абсолютным ценностям, приверженец такой этики не стремится отвечать за свою деятельность, он ориентирован на абсолютные идеалы. Второй тип этики предполагает возможность осознать последствия своих действий, исходить из реальной обстановки. Р. Арон назвал данную оппозицию «антиномией политического действия». Это противоречие он, несколько упрощая, возводит к двум типам политической философии (Арон, 1991: 518). Одну он связывает с Макиавелли, а вторую с Кантом. Первый из этих типов связан с достижением практических результатов, а второй – обусловлен индивидуальным выбором ценностей, которые могут оказаться несовместимыми. Эти два идеальных типа позволяют М. Веберу прояснить действия политиков, но разделить их, как он сам пишет, в полной мере оказывается невозможным, скорее такое различение позволяет сделать политическое действие более осознанным. Два типа этики взаимно дополнительны, присущи, по словам М. Вебера, «подлинному человеку». «Кто хочет заниматься политикой вообще и сделать ее своей единственной профессией, должен осознать данные этические парадоксы и свою ответственность за то, что получается под их влиянием из него самого» (Вебер, 2017: 322). Ценностный аспект связан и с понятием господства в его политической теории. «Господство – это вероятность того, что определенные люди повинуются приказу определенного содержания» (Вебер, 2016: 109). Повиновение власти связано с легитимностью, которая включает одобрение, принятие власти на определенных ценностных основаниях.
В социологической оптике М. Вебера по-новому начинает восприниматься проблема свободы и обусловленности, необходимости. С одной стороны, ценностный выбор предполагает определенную степень свободы, с другой стороны, мы оказываемся всегда обусловлены ценностями своей эпохи и своего социального слоя. В то же время нельзя не заметить серьезное отличие веберовской теории ценностей от идей неокантианства. Г. Риккерт полагал, что ценности обладают вневременным и универсальным значением, но конкретный человек в свободном действии воплощает ценности, преломляя их через свой опыт. Ценности осуществляются в жизни чаще всего по доброй воле, бескорыстно, ради них самих, утверждал Г. Риккерт, ориентируясь на кантовский «категорический императив». М. Вебер же склонен был рассматривать ценности как конкретно-исторические образования: они формируются «интересами эпохи», соответственно, могут сильно видоизменяться. На релятивистские тенденции в теории ценностей М. Вебера обратил внимание немецкий философ и социолог М. Шелер: «Выбор мировоззрения и конкретных ценностей, по М. Веберу, оказывается произвольным, ни наука, ни философия в этом не могут помочь. На выбор мировоззрения часто влияют традиция, обычай, социальный слой или «харизматический пророк». Принятие тех или иных «богов», приобщение к определенным ценностям представляется случайным фактом, рациональным образом социолог это не может интерпретировать. Именно данный момент в учении М. Вебера отвергает М. Шелер, а именно то, что философия «как сущностная человеческая познавательная установка – полностью игнорируется» (Шелер, 2020: 184). Несмотря на внешний антипозитивизм М. Вебера, его критика позитивизма представлялась М. Шелеру недостаточно радикальной. М. Шелер не принимал у М. Вебера именно ценностный релятивизм, поскольку в его подходе отсутствует метафизический центр, на основе которого только и может быть, по его мнению, построена социологическая концепция.
Несмотря на то, что М. Вебер оставил очень значительное теоретическое наследие, у него практически не было прямых учеников и последователей. Различные социальные науки использовали и развивали отдельные аспекты наследия М. Вебера. Круг интересов немецкого ученого был чрезвычайно широк, с ним мало кто из более поздних теоретиков может сравниться. Отмечается, что англоязычная социологическая традиция достаточно поздно открыла для себя идеи М. Вебера, это случилось примерно через четверть века после его смерти, а слава великого социального теоретика пришла к нему еще позже. Аксиологический аспект его теории тоже имел определенное воздействие, но в англоязычном мире была и своя традиция рассмотрения ценностной проблематики в рамках философского прагматизма Ч. Пирса и Д. Дьюи. Там мир ценностей выводился из определенных комплексов потребностей человека. Внимание здесь часто сосредоточено на моменте ценностного выбора, который совершает человек. Аналогичным образом интерпретировалась ценностная проблематика и во многих психологических теориях, хотя следы влияния баденской школы неокантианства тоже можно обнаружить. В частности, широкую известность приобрела концепция ценностей американского психолога М. Рокича (1918–1988), различавшего инструментальные и терминальные ценности. Это различение, возможно, наследует веберовское различение целерационального и ценностно-рационального действия. Следует признать, что разница между этими уровнями ценностей совсем не так очевидна, как может показаться на первый взгляд.
Большую роль в популяризации наследия М. Вебера в англоязычном мире сыграл Т. Парсонс. Он «приложил немало усилий, чтобы синтезировать его идеи с идеями Парето и Дюркгейма в рамках единой теории социального действия; теоретические идеи Вебера были при этом вырваны из исторического контекста и превратились в понятия с вневременным содержанием»1. Т. Парсонс также внес свой вклад в интерпретацию веберовского принципа «свободы от ценностных суждений», предлагая на его основе преодолеть «историцизм, утилитаризм и марксизм», фактически вообще отказавшись от ценностей. Аксиологическая проблематика в социологии Т. Парсонса играет роль только в качестве средства интеграции социальных систем. Большую роль в интерпретации веберовского наследия сыграли и представители франкфуртской школы в рамках конфликта с позитивистски-ориентированной социологией. В дальнейшем интерес к веберовскому наследию был связан с поисками «этических корней рациональности», в этой связи пробудился интерес и к ценностной проблематике в социальной теории М. Вебера. Это характерно для так называемого «веберовского ренессанса» в европейской социологии второй половины XX в. Амбициозные исследования американского социолога и политолога Р. Инглхарта различных мировых ценностных систем, предпринятое в широком временном интервале с 1980-х по 2010-е гг., в малой степени учитывает веберовское наследие и практически не соответствует требованию «свободы от ценностных суждений» М. Вебера, являясь своеобразной апологией либеральной демократической системы американского типа. Следует отметить, что влияние веберовского аксиологического наследия сохраняется, прежде всего, в европейской социологии, на американскую социальную теорию этот пласт его идей оказал заметно меньшее воздействие. Идеи неокантианцев и М. Вебера в их упрощенной интерпретации сыграли немалую роль в популяризации ценностной проблематики в современных социальных науках. В настоящее время широко обсуждаются вопросы уместности и необходимости аксиологии в школьном и университетском пространстве. Веберовское наследие возвращает нас к двойной позиции: учитывая логику и онтологию ценностей, неустранимость ценностной перспективы, не допускать их доминирования в научном исследовании и университетском преподавании.
Список литературы Аксиология М. Вебера в современной перспективе
- Арон Р. Этапы развития социологической мысли / пер. с фр. А.И. Рычагова, В.А. Скибы. М., 1992. 608 с.
- Бендрикс Р. Образ общества у М. Вебера // Вебер М. Избранное. Образ общества / пер. с нем. М.И. Левиной, А.В. Михайлова, С.В. Карпушиной. М., 1994. C. 567-583.
- Вебер М. Избранное / пер. с нем. М.И. Левиной, А.Ф. Филиппова, П.П. Гайденко. М., 1990. 808 с.
- Вебер М. Избранное. Образ общества / пер. с нем. М.И. Левиной, А.В. Михайлова, С.В. Карпушиной. М., 1994. 702 с.
- Вебер М. Власть и политика / пер. с нем. Б.М. Скуратова, А.Ф. Филиппова М., 2017. 432 с.
- Вебер М. Хозяйство и общество. Очерки понимающей социологии: в 4 т. / пер с нем. В.А. Браун-Цеховой, Л.Г. Ионина, И.А. Судариковой, А.Н. Беляева, Д.Б. Цыганкова. М., 2016. Т. 1. 445 с.
- Виндельбанд В. Дух и история. Избранное / пер с нем. М.И. Левиной, Г. Сонина. М., 1995. 687 с.
- Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология. Актуальные проблемы веберовского социологического учения: монография. М., 1998. 510 с.
- История теоретической социологии / А.Б. Гофман [и др.]: в 4 т. М., 2002. Т. 2. 553 с.
- Каубе Ю. Макс Вебер. Жизнь на рубеже эпох / пер. с нем. К.Г. Тимофеевой. М., 2016. 600 с.
- Козер Л.А. Мастера социологической мысли. Идеи в историческом и социальном контексте / пер. с англ. Т.И. Шумилиной М., 2006. 513 с.
- Кравченко Е.И. М. Макс Вебер. М., 2002. 224 с.
- Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий / пер. с нем. А. Водена. СПб., 1997. 532 с.
- Шацкий Е. История социологической мысли: в 2 т. / пер. с польского Е. Барзовой, А. Васильева, Н. Вертячих, Г. Му-радян, А. Уразбекова, В. Федорова, О. Чехова. М., 2018. Т. 1. 720 с.
- Шелер М. О сущности философии / пер. с нем. А.Н. Малинкина. М., 2020. 352 с.
- Klassiker der Religionswissenschaft Von Friedrich Schleiermacher bis Mircea Eliade / Hg. von Alex Michaels. München, 1997. 427 s. = Классики религиоведения от Фридриха Шлейермахера до Мирчи Элиаде / под ред. А. Майклса. Мюнхен, 1997. 427 с.