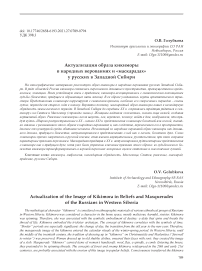Актуализация образа кикиморы в народных верованиях и «маскарадах» у русских в Западной Сибири
Автор: Голубкова О.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.
Бесплатный доступ
На этнографических материалах рассмотрен образ кикиморы в народных верованиях русских Западной Сибири. В ряде областей России кикимора считалась персонажем домашнего пространства, преимущественно вредоносным, зловещим. Имея устойчивую связь с прядением, кикимора ассоциировалась с символическим воплощением судьбы (божество, прядущее и обрывающее нить жизни). В ее образе угадывались черты архетипического трикстера. Представления о кикиморе коррелируют с символами времени, особенно его «пороговых» периодов - смены суток, перехода от старого года к новому. Вероятно поэтому, маскарадный образ кикиморы вошел в календарную обрядность зимне-весеннего периода. В Западной Сибири до середины ХХ в. сохранялась традиция рядиться в «кикимору» на Святки и Масленицу («проводы зимы»). Женщины надевали «лохмотья», мазали лица сажей, создавая неряшливый образ. Ряженые «кикиморы» несли шерсть, лен, веретено, чесалку; войдя в дом, изображали, что прядут кудель. Широко распространенные в XX - начале XXI в. представления о кикиморе болотной или лесной, очевидно связаны с размыванием этого образа в народных верованиях и, как следствие, перенесением его в пространство, далекое от культурной среды обитания человека. Исчезающий из народных верований образ кикиморы как домашнего демона, прядущего божества, актуализировался в представлениях о ней как о лесном, болотном духе. Слово «кикимора» прочно закрепилось в русской лексике, став именем нарицательным, ругательством, при этом сохранив характерные признаки персонажа. Маскарадная традиция в ХХ в. актуализировала рудиментарные представления о кикиморе как о прядущем духе, хотя уже были утрачены ключевые признаки этого образа: из судьбоносного божества кикимора трансформировалась в игровой персонаж жанровых сценок святочных и масленичных гуляний.
Кикимора, мифология, календарная обрядность, масленица, святки, ряженые, маскарад, прядение, русские сибири
Короткий адрес: https://sciup.org/145146184
IDR: 145146184 | УДК: 398.3 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0789-0794
Текст научной статьи Актуализация образа кикиморы в народных верованиях и «маскарадах» у русских в Западной Сибири
Символы и знаки, свойственные мифологическим представлениям разных народов, продолжают жить, развиваться и влиять на мировоззрение, формируя этнокультурный фон. Они являются связующими звеньями между прошлым и настоящим, традицией и современностью. С психологической точки зрения, символ неразрывно связан с коллективным бессознательным, поэтому символ всегда больше, чем рациональное понятие. «Каждая культура в процессе своего развития создает различные системы символов, призванных выступать своеобразными кодами для ее носителей, и личность, чтобы стать «своей» в культуре, должна освоить эти коды. В реальном общении символ никогда не сводится к одному определенному значению, он – всегда комплекс возможностей и смысловых перспектив» [Майничева, 2020, с. 9–10]. Базой для исследований различных пластов мировоззрения (мифоритуального комплекса, аспектов личной и коллективной психологии, этнокультурной идентичности) могут быть результаты анализа конкретных – как архаичных, так и современных – образов и символов этнической мифологии. Детальное изучение тонкостей сюжетной, локальной и функциональной специфики мифологических персонажей выстраивает общую картину мировоззренческого комплекса, позволяя реконструировать его утраченные элементы.
На полевых материалах (представления о мифологическом персонаже кикимора) рассмотрена проблема актуализации и стратегий сохранения элементов традиционной культуры у различных эт-нолокальных групп восточнославянского (преимущественно русского) населения в Западной Сибири. Цель работы заключалась в выявлении локальной специфики представлений о кикиморе у русских сибиряков и определении причин актуализации ее образа в маскарадной традиции календарных праздников (Святки, Масленица), учитывая, что «праздничная культура, являясь квинтэссенцией культурного состояния российского общества, становится полем проявления старых и конструирования новых символов и смыслов» [Золотова, 2020, с. 160]. Для реализации поставленных задач рассмотрены основные аспекты представлений о мифологиче-790
ском персонаже: описаны облик, характерные признаки, типичные место и время, причинно-следственные связи появления кикиморы в доме (как их трактовали сами информанты), выявлена актуализация имени и облика кикиморы в современной лексике и карнавальной культуре. Проведен сравнительный анализ текстов с аналогичными сюжетами ряда российских регионов, установлены степень и вероятные причины сохранности народных верований о кикиморе у русских в Западной Сибири на протяжении XX – начала XXI в. Основным источником исследования стали полевые материалы автора (ПМА): дневники этнографических экспедиций ИАЭТ СО РАН 1997–2021 гг. (личный архив), а также опубликованные этнографические и фольклорные материалы российских исследователей XIX–XX вв. [Афанасьев, 1868, с. 36–43; Власова, 1998, с. 215–224; Даль, 2008, с. 404–421; Криничная, 1995, с. 9–33; 2004, с. 175–178; Левкиевская, 2000, с. 259–265; Максимов, 1903, с. 61–68; Мифологические рассказы, 1987, с. 85–96; Черепанова, 1983, с. 122–130].
Кикимора – один из наиболее многоплановых персонажей. Неоднозначны представления о происхождении и локализации этого духа. В отличие от других широко известных мифологических персонажей (русалка, леший, домовой, водяной), кикимора не имеет общевосточнославянского распространения, это образ преимущественно русской демонологии. Поверья о кикиморе известны во многих регионах Ро ссии: Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Ярославской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Кировской, Томской областях, в Карелии, Пермском крае, Восточной Сибири; в меньшей степени они встречаются у белорусов; отсутствуют у украинцев и южнорусских этнографических групп [Власова, 1998, с. 215–224; Левки-евская, 2000, с. 259–265]. Большинство фольклорных текстов о кикиморе было записано на Русском Севере [Даль, 2008, с. 404–421; Криничная, 1995, с. 9–33; Максимов, 1903, с. 61–68], в Сибири они представлены собранием бывальщин Забайкалья из архива В.П. Зиновьева [Мифологические рассказы, 1987, с. 85–96]. Наши полевые материалы допол- нили этнографическую коллекцию сюжетов несказочной устной прозы западно-сибирскими былич-ками о кикиморе, записанными в Новосибирской, Омской областях и Алтайском крае.
Этимология наименования «кикимора» имеет различные версии. Все словари сходятся в том, что нужно рассматривать две части слова – «кики»и «мора» – по отдельности, при этом исследователи единодушны в том, что *мора/мара/mara – олицетворение душ усопших, смерти, ночных кошмаров, «морока», а также наименование одного из демонологических персонажей в ряде регионов России [Афанасьев, 1868, с. 37; Криничная, 1995, с. 5 – 30]. «Мары или марухи – старые, маленькие существа женского пола, которые сидят на печи, прядут по ночам пряжу и все шепчут да подпрыгивают, а в людей бросают кирпичами; в Олонецкой губ. ни одна баба не покидает своей пряслицы без молитвы, потому что в противном случае явится ночью мара, изорвет и спутает кудель» [Афанасьев, 1868, с. 36]. Но относительно первой части слова «кикимора» версии разнятся. В.И. Даль считал, что наименование духа происходит от женского головного убора – кики или кички («бабий головной убор, с рогами, род повойника») [Даль, 1881, с. 108; 2008, с. 404 – 407]. С.В. Максимов имя персонажа связывал с глаголом «кикать» как звукоподрожанием птичьему крику [Максимов, 1903, с. 61 – 63]. Е.Е. Левкиев-ская «кик» возводит к древнему балто-славянскому корню *кук/кик/кык, который имеет значение горбатости, скрюченности. Другое название демона – «шишимора» – во сходит к русским диалектным глаголам «шишить», «шишать» (копошиться, шевелиться, делать украдкой), что довольно точно соответствует «поведению» данного существа [Лев-киевская, 2000, с. 259]. Происхождение кикиморы связывали с умершими некрещенными младенцами или прóклятыми детьми [Афанасьев, 1868, с. 35–49; Даль, 2008, с. 404–421; Зеленин, 1995, с. 60].
В народных верованиях кикимора обычно наделялась вредоносными качествами: она пугала, гремела, стучала, била посуду, портила хлеб, рвала и путала нитки, ощипывала кур, загоняла лошадей [Даль, 2008, с. 406; Левкиевская, 2000, с. 259–265; Максимов, 1903, с. 62–63; Черепанова, 1983, с. 122– 127]. На Русском Севере и в некоторых областях России кикимора считалась персонажем домашнего пространства. «Кикимора – род домового, который по ночам прядет; он днем сидит невидимкой за печью, а проказит по ночам, с веретеном, прялкою, воробами и вьюшкой» [Даль,1881, с. 108]. Аналогичные представления известны в Сибири [Власова, 1998, с. 217; Мифологические рассказы, 1987, с. 88–96], зафиксированы ПМА. Образ домашней кикиморы, о снованный на мифопоэтических на- родных верованиях, вошел в художественную литературу [Сомов, 1984, с. 219–228]. В фольклорно-литературном образе кикиморы угадываются черты трикстера: она меняет облик, учиняет мелкие проказы, взаимодействует с людьми сначала в шуточной манере, а затем все более изощренно. «Мотивы “попадания во власть демонического существа” и “спасения от демонического существа” усиливают связь образа кикиморы с этим архетипом» [Мешкова, 2021, с. 1981].
Наряду с домашней кикиморой широко распространены представления о кикиморе лесной и болотной. В отличие от «классического» образа домашней кикиморы, в этнографической литературе упоминания о кикиморе болотной, лесной крайне скудны, они встречаются эпизодически. В то же время, словосочетание «кикимора болотная» устойчиво закрепилось в русской лексике. В 2015–2016 гг. мы провели этнографо-лингвистическое исследование по выявлению современных представлений о наиболее известных персонажах славянской мифологии у городских жителей различных социально-возрастных групп. Результаты опроса показали, что образ кикиморы, по сравнению с другими демонологическими персонажами, претерпел самые большие изменения: утрачена его связь с домашним пространством. В современной лексике имя кикиморы стало бранным словом – пренебрежительным наименованием вредной, неопрятной, некрасивой женщины со скверным характером [Ансимова, Голубкова, 2016, с. 130–138]. В 2021 г. автором данной статьи был продолжен опрос горожан разных регионов (через веб-ресурс), результаты которого показали, что абсолютное большинство (88 %) респондентов незнакомы с представлениями о домашней кикиморе, но слышали об этом персонаже как о лесном или болотном духе (МОА – материалы опроса автора, 2021). Кикимора – женщина неприятная, некрасивая, злобная, точно не образец для подражания. Живет она в болоте, в чаще леса, где обычно люди не ходят (МОА, 2021). Кикимора – это женщина неопределенного возраста, вся в зеленом одеянии, живет около болота. Она дружит с Лешим и не очень понятно ее отношение к людям (МОА, 2021). Кикимора –это сущность другого мира. Это болотная ведьма, рожденная из утопленницы. Они сами по себе есть и злобные, и не очень, и весьма озорные. Кикимора может предупредить о чем-то, но событие судьбы неизбежно. Изменить его ты не сможешь, даже зная о нем (МОА, 2021). С детства помню, бабушка сказки читала. И мне всегда жалко было кикимору. Морь она на людей наводила, в болота затягивала. Но только плохих людишек, которые вели себя плохо, живность в лесу убивали. Кикимора хитрая, она и жадным людям дорогу к богатству покажет, да там из него душу вытянет (МОА, 2021). Кикимора похожа на маленькую девочку или девушку. Сама она очень маленькая, головка у нее как сожженная спичка. Живет на болоте, гадкая и вредная. Заводит путников не туда, куда надо, и как-то издевается над ними. Голос у нее тоненький и противный (МОА, 2021). Кикимора - худая, несимпатичная женщина с немытыми длинными седыми волосами. Живет в лесу около болота (МОА, 2021). Кикимора это жена Лешего, болотная бабка. Она заманивает людей в болото. Сухая, как палка, с длинным носом, в лохмотьях. Круглые глаза, как у птицы. Когда люди теряются в лесу и аукают, то она откликается человеческим голосом, а вообще она по-человечески не разговаривает (МОА, 2021).
Кикиморой также называли куклу, сделанную в магических целях из тряпок, соломы или щепок: чтобы в доме «чудилось», для наведения порчи. Для усиления магического эффекта при изготовлении кикиморы-куклы использовали кровь или предметы, бывшие в соприкосновении с мертвецом (лоскут одежды, мыло, которым обмывали покойника, щепки, оставшиеся при изготовлении гроба и т.п.) [Максимов, 1903, с. 62–63; Мифологические рассказы, 1987, с. 88–96]. Кикиморой могли называть предмет, воспроизводящий звуки. Такая «кикимора» была средством мести печников и плотников. Обидевшись на хозяев, они могли определенным образом замуровать в печной трубе или в стене дома бутылочное горлышко, трещотку из щепок, чтобы ветер создавал неприятный шум, треск, пугающие «завывания» [Даль, 2008, с. 404–421; Максимов, 1903, с. 62–63].
В сельской местности исследуемого региона (на юге Западной Сибири) еще сохранились традиционные представления о домашней кикиморе – инфернальном вредоносном существе, которое создает шум и причиняет беспокойство в доме. Если в доме кикимора заведется, от нее только одно беспокойство будет, добра не жди, потому что это нечистая сила (ПМА: с. Первомайское, Алтайский край, 2009). У соседей завелась кикимора. Каждую ночь по чердаку у них как на телеге по всей хате катались, грохот стоял. Заглянула к ним на чердак, а там кто-то маленький, патлатый сидит на корточках, на меня смотрит. Глаза красные (ПМА: с. Светлое, Краснозерский р-н НСО, 2004). Худые люди гвозди под крыльцо подкапывают, чтобы в доме было все плохо. Тогда кикимора придет, она будет пакостить, стучать и греметь. От этого кто-нибудь заболеет или умрет (ПМА: с. Мереть, Сузунский р-на НСО, 2018).
Устойчивым признаком кикиморы считали ее способность быть предвестником, а иногда при-792
чиной несчастья, смерти кого-то из домочадцев или их родственников. Сидели вечером в избе. Вдруг открылась дверь, зашла женщина (незнакомая - О.Г.) и давай танцевать. Женщина плясала по избе, как вихрь промчалась. Бабка давай читать молитвы, бабка дочь попа была, умела читать. Женщина сразу убежала. На другой день сестру в НКВД забрали. Вот она кикимора, нечистая сила (ПМА: с. Лянино, Здвинский р-н НСО, 2002). Завелась в доме кикимора. Стучала, посудой гремела. Увидела ночью - кошка черная крадется, а у нас кошки не было. Ну, думаю, не к добру это, кикимора завелась. В тот год у меня брат умер, после этого все прекратилось (ПМА: д. Камышинка, Нижнеомский р-н Омской обл., 2002). В войну у нас в подполе кикимора завелась. Никто не видел, а только слышали. Ночью, как спать ляжем, слышно шаги под полом: тук, тук. Страшно было. Потом слышу, как будто свистит внизу. То ли свистит, то ли плачет. Бабушка старенькая была, я ее спрашиваю: - Ты слышишь? это чё? Она говорит: - Слышу, это кикимора у нас плачет, жди беды. На следующий день принесли похоронку, брата убили. Мужики все на фронте были. Потом еще два раза слышали. А следом похоронки приносили (ПМА: с. Зыряновка, Заринский р-н Алтайского края, 2009).
Представления о кикиморе как о прядущем духе можно назвать исчезающими, как и сам вид этой женской работы. Упоминания о кикиморе, которая трепала, пряла, мяла шерсть, лен или коноплю, были записаны от наиболее возрастных респондентов (1910-20-х годов рождения). В бане кикимора завелась, коноплю тюпала (чесала, мяла -О.Г.). Было страшно зайти. Заглянула я в баню, а там кикимора сидит, коноплю тюпает. Тюпает и тюпает, стукоток стоит (ПМА: д. Барлакуль, Здвинский р-н НСО, 2001). Нельзя оставлять на ночь пряжу, не перекрестивши. Придет кикимора, все испортит (ПМА: с. Нижняя Омка, Омская обл., 2002).
Кикимора связана с календарным циклом. На Русском Севере бытовали представления о том, что кикиморы суще ствуют только в Святки или что в этот период кикиморы рожают шуликунов, которые вылетают через трубу на улицу и живут там до Крещения [Власова, 1998, с. 217; Черепанова, 1983, с. 125–128]. Представления о святочных духах-шуликунах также были зафиксированы в Сибири [Фурсова, 1994, с. 68–80]. Попадая в орбиту календарных верований, демонические существа становятся «кирпичиками» календарной мифологии, воплощающей календарные мифологемы. С их помощью отмечаются обряды календарных «переходов», передаются символи- ческие значения отдельных периодов и праздников. Календарная система активно «привлекает» демонов для мифопоэтического оправдания разного рода запретов [Агапкина, 2002, с. 374–377]. То есть, представления о кикиморе коррелируют с символическим воплощением времени, о собен-но его «пороговых» периодов – смены суток, перехода от старого года к новому. Очевидно, поэтому образ кикиморы вошел в календарную обрядность зимне-весеннего периода – как персонаж святочных и масленичных маскарадов.
На Русском Севере один из элементов святочного ряжения был представлен образом кикиморы. «Старухи на Святках являлись на беседу наряженными шишиморами – одевались в шоболки (рваную одежду) и с длинной заостренной палкой садились на полати, свесив ноги с бруса, и в такой позе пряли <…> Девушки смеялись над шишиморой, хватали ее за ноги, а она била их палкой» [Черепанова, 1983, с. 124–125]. В Сибири (в Кежемском р-не Красноярского края) старуха с прялкой, изображающая кикимору, была частью масленичного поезда: «на сани поставят лавку, на ей сидит старуха с прялкой, куделю прядет» [Громыко, 1975, с. 103].
Кикиморами рядились во время святочных и масленичных («проводов зимы») маскарадов в Новосибирской обл. до середины ХХ в. Женщины надевали старую одежду («лохмотья»), мазали лица сажей, растрепывали волосы, создавая неряшливый образ. Ряженые «кикиморы» вместе с другими карнавальными персонажами («цыганами», «чертями») ходили по селу, колядовали. «Кикиморы» несли шерсть или лен, веретено, чесалку; войдя в дом, изображали, что прядут кудель. На масленицу наряжались чертями, кикиморами. Кикиморы несли в руках лен и трепали его, нитки крутили. Старые люди говорили, что так надо, от этого лен хороший уродится (ПМА: с. Верх-Коён, Искитимский р-н НСО, 2000). Кикиморы бегали по селу на новый год, на масленицу. Весело было, дурачились, наряжались. Кикиморы сажей лицо вымажут, лохмотья напялят и идут, поют песни (ПМА: там же). Под старый Новый год старухи в лохмотьях ходили, косматые, лица сажей перемазанные. Шли всей гурьбой по селу, песни похабные пели, а то и сматерятся. За это их кикиморами называли (ПМА: пос. Мошково НСО, 2000).
Итак, исчезающий из народных верований образ кикиморы как домашнего демона, прядущего божества, в XX – начале XXI в. актуализировался в представления о ней как о лесном или болотном духе. Вероятно, данный процесс связан с размыванием образа кикиморы в народных верованиях и, как следствие, перенесением его в пространство, далекое от культурной среды обитания человека. Слово «кикимора» прочно закрепилось в русской лексике, став именем нарицательным, ругательством, сохранив при этом характерные признаки персонажа. Маскарадная традиция в ХХ веке актуализировала рудиментарные представления о кикиморе как о прядущем духе, хотя уже были утрачены ключевые признаки этого образа: из судьбоносного божества кикимора трансформировалась в игровой персонаж жанровых сценок святочных и масленичных гуляний.
Список литературы Актуализация образа кикиморы в народных верованиях и «маскарадах» у русских в Западной Сибири
- Агапкина Т.А. Мифоэпические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. - М.: Ин-дрик, 2002. - 816 с.
- Ансимова О.А., Голубкова О.В. Мифологические персонажи домашнего пространства в народных верованиях русских (этнографический и лексикографический аспекты) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2016. - Т. 44. - № 3. - С. 130-138.
- Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. - М.: Изд-во К. Сол-датенкова, 1865: - Т. I. - 800 с.; - 1868: - Т. II. - 784 с.; -1869: - Т. III. - 840 с.
- Власова М.Н. Русские суеверия. Энциклопедический словарь. - СПб.: Азбука, 1998. - 672 с.
- Громыко М.М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (ХУШ - первая половина ХГХ в.). - Новосибирск: Наука СО, 1975. - 350 с.
- Даль В.И. Поверья, суеверия и предрассудки русского народа. - М.: Эксмо, 2008. - 736 с.
- Дяль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. - М.-СПб.: Гостиный двор, Кузнецкий мост. - 1881. - Т. II (И - О). - 810 с.
- Зеленин Д.К. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки. - М.: Индрик, 1995. - 432 с.
- Золотова Т.Н. Современная праздничная культура России: Сохранение русских традиций, конструирование новых символов и смыслов // Этнография Алтая и сопредельных территорий. - Барнаул: Изд-во Алтай. гос. пед. ун-та, 2020. - № 10. - С. 160-171.
- Криничная Н.А. Нить жизни: Реминисценции образов божеств судьбы в мифологии и фольклоре, обрядах и верованиях. - Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1995. - 40 с.
- Криничная Н.А. Русская мифология: Мир образов фольклора. - М.: Академический проспект; Гаудеамус, 2004. - 1008 с.
- Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. - М.: Астрель: АСТ, 2000. - 528 с.
- Майничева А.Ю. Современные исследования роли символов и знаков в мировоззрении русских Сибири XVI - начала XVIII в. // Гуманитарные науки в Сибири. -2020. - Т. 27. - № 2. - С. 5-12.
- Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. - СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1903. - 530 с.
- Мешкова К.Н. Шекспировская поэтика мифа в повести О.М. Сомова «Кикимора» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2021. - Т. 14. - № 7. -С. 1979-1983.
- Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири / Сост. В.П. Зиновьев. - Новосибирск, 1987. - 400 с.
- Сомов О.М. Были и небылицы. - М.: Советская Россия, 1984. - 368 с.
- Фурсова Е.В. «Шуликаны» и нечистая сила в селах Западной Сибири // Гуманитарные науки в Сибири. - 1994. - № 3. - С. 68-80.
- Черепанова О.А. Мифологическая лексика Русского Севера. - Л.: ЛГУ, 1983. - 169 с.