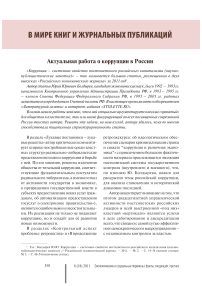Актуальная работа о коррупции в России
Автор: Дементьева Ирина Николаевна
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: В мире книг и журнальных публикаций
Статья в выпуске: 6 (18), 2011 года.
Бесплатный доступ
«Коррупция - системное свойство постсоветского российского капитализма (научно-публицистические заметки)» - так называется большая статья, размещенная в двух выпусках «Российского экономического журнала» за 2011 год. Автор статьи Юрий Юрьевич Болдырев, кандидат экономических наук, был в 1992 - 1993 гг. начальником Контрольного управления Администрации Президента РФ, в 1993 - 1995 гг. - членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, в 1995 - 2001 гг. работал заместителем председателя Счетной палаты РФ. В настоящее время является обозревателем «Литературной газеты» и интернет-издания «STOLETIE.RU». В самом начале работы заявлено, что в ней специально аргументируется весьма «чреватый» для общества и власти тезис, так или иначе фигурирующий во всех посвященных современной России текстах автора. Решить эту задачу, на наш взгляд, автору удалось, чему во многом способствовала тщательная структурированность статьи.
Короткий адрес: https://sciup.org/147109339
IDR: 147109339
Текст обзорной статьи Актуальная работа о коррупции в России
В разделе «Лукавые постановки – лукавые рецепты» автор критически комментирует широко востребованные среди властных структур радикально-либералистские представления и идеи о коррупции и борьбе с ней. По его мнению, рецепты излечения общества от тотальной коррупции, соответствующие фундаментальным постулатам радикального либерализма, а именно отказ от активности государства в экономике, о превращении государственной власти в субъекта предоставления неких услуг гражданам, об автоматизация предоставления госуслуг («электронное правительство»), являются ошибочными и несостоятельными. Их реализация не только не подавляет коррупцию, но и создаёт для её развития новые возможности.
В разделах «Контрольный аспект проблемы: ретровзгляд» и «В продолжение ретроэкскурса: об идеологическом обеспечении сценария криминализации страны и сюжете “коррупция и рыночная экономика”» с привлечением большого фактического материала прослеживается эволюция постсоветской системы государственного контроля (внутреннего и внешнего), что, по мнению Ю. Болдырева, важно для раскрытия темы российской коррупции, для анализа становления и исторической динамики последней.
Автор акцентирует внимание на том, что итогом двадцатилетней управленческой активности постсоветских российских лидеров и всей выстроенной «под них» властной «вертикали» являются успехи в деле саботирования и дискредитации всего, что связано с самой сутью эффективного демократического макроуправления – с независимым контролем за властью.
В подтверждение этому приводится сюжет о становлении и развитии Счетной палаты Российской Федерации, высшего органа внешнего государственного финансового контроля. Во второй половине 1990-х годов Счетной палатой были выявлены и преданы огласке самые грубые и беспрецедентные по своим масштабам нарушения в правительственном и центробанковском управлении госфинансами и госсобственностью, а также были подготовлены принципиально важные заключения о законопроектах, инициированные и лоббировавшиеся исполнительной властью.
Однако в 2000-е годы в закон «О Счетной палате РФ» были внесены радикальные изменения: Государственная Дума и Совет Федерации утратили право самостоятельно назначать руководителей и аудиторов Палаты (таковые стали назначаться лишь по представлению первого должностного лица государства).
Тем самым Палата лишилась статуса органа внешнего государственного финансового контроля, независимого от вертикали исполнительной власти и ее фактического руководителя – российского президента. Она превратилась из органа внешнего государственного контроля в «дублера» внутренних контрольных органов исполнительной власти.
Далее Ю. Болдырев указывает на тот факт, что в 90-е годы, активно противодействуя формированию в новой России системы независимого государственного контроля и параллельно энергично запуская априори мошеннические и грабительские механизмы тотальной форсированной приватизации, стоявшие за федеральной исполнительной властью социальные силы одновременно развернули и соответствующую идеологическую кампанию, включая пропаганду идеи неизбежности и даже полезности коррупции. Проводившаяся в 90-е гг. приватизация повлекла за собой криминализацию как механизмов управления, так и сознания новоявленных частных собственников. Это была высокотехнологичная реализация тщательно продуманного, в том числе в отношении идеологического обеспечения, многоходового алгоритма, причем не в последнюю очередь предусматривавшего сопряжение интересов внешних заказчиков «уменьшения» нашего государства с интересами утверждавшейся отечественной криминальной «элиты».
По мнению автора статьи, на базе рыночной экономики коррупция возникает под непосредственным воздействием совокупности факторов, включая общественную мораль, господствующие в обществе нравственные представления (прежде всего – о допустимом доходноимущественном неравенстве и приемлемой мере несправедливости в распределении национального дохода); эта мораль в свою очередь тесно связана со всей системой социально-экономического госрегулиро-вания и с политико-правовой системой.
Учитывая данные общеметодологические посылки, в отношении истории становления постсоветского российского капитализма можно уверенно утверждать: с начала развертывания радикально-либера-листских реформ имело место сознательное и целенаправленное применение механизмов экономического регулирования, заведомо провоцировавших и стимулировавших аморальное и мошенническое поведение контрагентов производственных и в целом общественных отношений. В результате важнейшая с позиций противодействия коррупции сегодняшняя проблема есть проблема субъектности.
Обозначенная методологическая посылка относительно необходимости субъектного подхода к вопросу о подавлении российской коррупции мотивирует подразделение всех её многообразных проявлений на две группы – аппаратную и государственно-политическую.
Этим двум видам коррупции, а также принципиальным направлениям противодействия им посвящен следующий раздел статьи Ю. Болдырева.
Первый вид – аппаратная коррупция – тот, которому призваны противостоять органы системы внутреннего государственного контроля. Автор рассматривает два механизма подавления этого вида коррупции. Первый связан с обеспечением перспектив карьерного роста и достойной оплаты труда госслужащих (в том числе высших должностных лиц). Второй состоит в реализации принципа презумпции коррумпированности госслужащего, требующей особой щепетильности деятельности чиновника в рамках законодательных нормативов. Причем не органы юстиции доказывают наличие в действиях чиновника преступно-коррупционного интереса, а ему самому нужно доказывать в суде свою невиновность.
В продолжение рассмотрения проблемы аппаратной коррупции Ю. Болдырев, используя обширный исторический материал, рассуждает о причинах её сохранения в России. В качестве первой причины он называет неадекватное вознаграждение госслужащих. Обращаясь к 1990-м годам, автор констатирует два обстоятельства. Во-первых, в течение всего десятилетия, когда закладывались основы нынешних нравов и обычаев, заработки госслужащих были унизительно низкими. Во-вторых, СМИ целенаправленно и агрессивно навязывали населению представление о необоснованно высокой оплате труда работников систем законодательной и исполнительной власти, уходя от сравнения зарплат госслужащих и занятых в частном секторе.
Второй причиной существования аппаратной коррупции в России была, по мнению автора статьи, откровенная невнятность условий применения к управленцам санкций.
Соответствующие нормы сформулированы так, что «можно привлечь, а можно и пожалеть». Это приводило не к обеспечению законности, а к формированию всеобщей лояльности к начальникам, некоей квазифеодальной зависимости подчиненных, которые тем самым оказываются на многих «крючках».
«Разность доходных потенциалов» госслужащих и занятых в частном секторе реализовывалась в «оптовой скупке» госслужащих банками. Это осуществлялось в разных формах – как прямых и грубых, так и более «интеллигентных» (например, связанных с перспективой будущего трудоустройства госуправленцев в соответствующих кредитных организациях), но в конечном счете обеспечило «лояльность» госслужащих не столько государству, сколько финансово-спекулятивному капиталу, интересы которого в общем случае не совпадают с общегосударственными или противоположны им.
Второй вид коррупции – государственно-политическая, которая тормозит национальное развитие большинства современных государств. Она представляет собой болезнь более тяжелую, ибо является инструментом для разнообразных «теневых» и даже легальных сил, которые стремятся подчинить действия госинститутов своим частным интересам вопреки интересам всего общества.
Ю. Болдырев выделяет признаки государственно-политической коррупции. Основной – отсутствие подавления коррупции аппаратной (чиновничьей), т.к. развращенное и зависимое чиновничество является её лучшей опорой. Кроме того, автор указывает на попытки идеологического обоснования полезности государственно-политической коррупции, интерпретации ее едва ли не как некоего блага.
Так, сторонники признания государственно-политического механизма демократического государства разновидностью все того же универсума – «рынка», т.е. «рынком политико-административных услуг», в принципе отвергают существование интересов всего общества.
А отсюда следует, что нет и не может быть также стратегических интересов государства, и каждый социальный слой, каждый субъект экономической деятельности должны просто приобретать за деньги необходимые им услуги: финансировать избирательные кампании, нанимать и перекупать лоббистов, политиков и политические партии и т.п., т.е. действовать сугубо рыночными методами. Согласно логике такого подхода, любая постановка вопроса о государственно-политической коррупции бессмысленна и даже абсурдна: кто «рыночно» сильнее и сумел продвинуть «своих» к власти, тот и реализует собственные частные интересы.
На основании рассуждений о государственно-политической коррупции автор приходит к следующему заключению. Данная разновидность коррупции – это феномен системный: следствие принуждения общества к гипертрофированной несправедливости и привития ему представлений о нормальности такой ситуации; результат примитивизации структуры экономики и содержания труда граждан, приоритета криминально-распределительных отношений перед «производительными»; плод «атомизации» и разложения социума, утратившего способность к солидарности и здоровую ценностную ориентацию.
Исходя из приведенной дефиниции, можно, во-первых, предположить следующее. Без постановки базисных вопросов о ценностях, справедливости, солидарности и единстве общества, равно как и о его целях в качестве целого и об идео- логии движения вперед, развертывание политической реформы по рецептам радикально-либералистски настроенной части экспертного сообщества лишь резко расширит «игровую площадку» для государственно-политической коррупции, превратив нынешние бюрократически-коррупционные отношения в отношения свободной купли-продажи «политических и информационных услуг».
Во-вторых, – в самом общем виде сформулировать «комплексный» (включающий ряд направлений) рецепт борьбы, программу подавления государственно-политической коррупции. Это, конечно, и преимущественно государственное финансирование избирательных кампаний (как во Франции и Канаде), и жесткая регламентация деятельности СМИ в периоды таких кампаний (как во Франции).
Однако главные линии суть реальное обеспечение научно-технологического прогресса (вместо нынешних пустопорожних разговоров об инновационной модернизации) и задействование механизмов радикально более справедливого распределения национального дохода (по опыту многих европейских стран), призванное вывести целые слои населения из нищеты и бедности и внести большую осознанность в их гражданский выбор.
В разделе «Глобальный контекст государственно-политической коррупции: транснациональные корпорации наступают», затрагивая вопрос о социальных силах, способных реализовать программу радикальных антикоррупционных действий, Ю. Болдырев указывает на скрытый процесс переподчинения всей глобальной политической системы (а значит, и национальных политических систем, в том числе государств общепризнанно демократических) глобальной же, мировой финансовой олигархии.
По мнению автора, коррупция как глобальный феномен состоит в почти тотальном контроле со стороны международной финансовой олигархии ключевых национальных СМИ, сфер культуры, науки и образования различных стран, а затем и национальных систем формирования органов государственной власти.
Возвращаясь к общим вопросам относительно опасности государственно-политической коррупции для демократического строя, Ю. Болдырев подчеркивает различие ситуации в России начала 1990-х и ситуации нынешней. В 90-е годы избираемая власть была изначально свободной в своих действиях и хотя бы в идеале зависимой в первую очередь от воли избирателей. Ее можно было различными мерами (включая, разумеется, угрозу жестких санкций) оградить от коррупционного искушения.
В настоящее время налицо следующий замкнутый круг: избираемая власть
(и парламентские партии, и президенты, и правительства), во-первых, априори финансово (а значит, и в других отношениях) зависит от тех, кого никоим образом не избирали, а во-вторых, прилагает все возможные усилия к тому, чтобы российское государство неуклонно наращивало свою подчиненность началам, внешним для отечественного электорального процесса.
В завершение статьи автор даёт прогнозную оценку относительно возможности подавления в России государственнополитической коррупции. Он считает, что нет оснований хотя бы допускать, что при сохранении нынешних тенденций деградации экономики и производства, науки и образования наша страна не то что модернизируется, но и вообще сохранится как единое суверенное целое. У России, полагает автор, нет времени на медленное, постепенное преодоление государственнополитической коррупции.
Дементьева И.Н., м.н.с. ИСЭРТ РАН