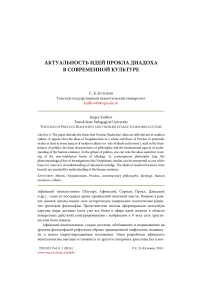Актуальность идей Прокла Диадоха в современной культуре
Автор: Куликов Сергей Борисович
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.8, 2014 года.
Бесплатный доступ
Идеи неоплатонизма в целом и разработки Прокла в частности имеют значение как минимум в трех сферах современной культуры (как совокупности идеалов и норм): в основах политики, базисных характеристиках философии и в границах фундаментальных аспектов понимания человеческого бытия. В отношении основ политики актуальны идеи, позволяющие сформировать идеологию нетоталитарного общества. В плане современной философии (в частности феноменологической линии исследований) неоплатонические разработки могут быть проинтерпретированы как одна из основ (источников) осмысления рационального познания. В отношении понимания человеческого бытия актуализируются идеалы материальной соразмерности (истинной красоты).
Афинский неоплатонизм, прокл диадох, современная философия, идеология, человеческое бытие, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/147103362
IDR: 147103362
Текст научной статьи Актуальность идей Прокла Диадоха в современной культуре
Афинский неоплатонизм (Плутарх Афинский, Сириан, Прокл, Дамаский и др.) – одно из последних ярких проявлений античной мысли. Именно в рамках данной школы нашло свое историческое завершение тысячелетнее развитие греческой философии. Представители школы сформировали целостную картину мира, активно (хотя уже все более в сфере идей, нежели в области конкретных действий) конкурировавшую с набравшим к V веку силу христианским богословием.
Афинский неоплатоники, создав системы, обобщавшие и поднимавшие на уровень философской рефлексии образы традиционной мифологии, выдвинули в целом мироутверждающие положения. Этим разработки афинского неоплатонизма выгодно отличаются от другого соперника христианства в эпо-
ΣΧΟΛΗ Vol. 8. 1 (2014)
ху раннего средневековья, такого как гностицизм (Афонасин 2003, 176–212). Гностицизм (во всяком случае, языческий), будучи, с одной стороны, логическим завершением общеантичных установок (например, противопоставления интеллигибельного и материального), с другой стороны, предлагал последовательно пессимистический подход к пониманию действительности. Вместе с тем актуализировались призывы к скорейшему разрушению материального мира как мира зла, и в этом аспекте гностицизм раскрывал возможности выхода за пределы смыслового универсума античности. В свою очередь неоплатоники, занимая более сдержанную позицию, видели в материальном мире дефицит проявленности умозрительного Блага, но надежд на возвращения к Благу как таковому не отвергали.
В связи со всем этим, равно как и с тем, что афинский неоплатонизм долгое время находился в относительном забвении и лишь в последнее время стал предметом тщательного анализа, не вызывает сомнений историко-философская актуальность изучения афинского неоплатонизма. Так, А. Ф. Лосев замечает:
После Плотина Прокл – самая крупная фигура во всем четырехвековом неоплатонизме. Да и Плотину он уступает только в новизне и оригинальности своих идей, поскольку Плотин созидал новую систему философии, Прокл же только углублял и детализировал эту систему. Однако в этом последнем отношении он безусловно превосходит Плотина; и это превосходство резко бросается в глаза в связи с огромной аналитической силой его ума, большим разнообразием его интересов, мастерством микроскопических исследований отвлеченнейшего логического предмета, а также в отношении тончайшего философско-филологического вникания в текст Платона, куда нужно прибавить еще очень четкий философский язык, местами доходящий до изложения в виде геометрических теорем и доказательств и часто удивляющий какой-то юридической отчеканенностью выставляемых положений (Лосев 2000, 30).
В то же время для авторов, ориентированных на проблемы современности (этика, политика, теория познания, онтология и т. д.), актуальность идей Прокла менее очевидна. Со времен эпохи Просвещения в науке принято опираться на идею прогресса, искать прогресс в результатах исследований, а значит, отказывать более раннему знанию в ценности относительно более позднего. Именно такие воззрения обнаруживаются и в рамках позиции многих современных авторов, ориентированных на актуальные дискуссии и пролагающие малоинтересными размышления, реализованные в прошлом.
Показательными в этой связи выглядят следующие слова Р. Рорти (высказанные, правда, в несколько другом контексте):
Время от времени я натыкался в философских журналах на сложные и запутанные проблемы – из разряда тех, которые возбуждают огромный интерес и в то же время столь незнакомы, что я не знал, что и думать о них. Я чувствовал, что мой моральный долг – познакомиться со встретившейся проблемой и разработать свой, альтернативный, способ ее разрешения. Иногда чувство вины за неисполненное про- должало мучить меня на протяжении пяти-десяти лет, хотя я так ничего и не делал, чтобы облегчить это чувство. В конце концов, однако, я часто обнаруживал, что проблема, которую я игнорировал, испытывая муки совести, исчезла с философской сцены, что никто из моих коллег больше не работает над ее решением и что нет никакого упоминания о ней в философских журналах. Тогда я поздравлял себя с разумной предусмотрительностью и приходил к мнению, что поступал достаточно мудро, ожидая исчезновения проблемы, правильно угадав ее эфемерность (Рорти 1997, xvii; пер. В. В. Целищева).
Именно в изживании «псевдопроблем», ориентации на проблемы позитивные, решение которых позволяет приращивать знание, видится нам одна из важных примет современной эпохи. Не миновали такие установки и философии. В современных условиях, во времена господства аналитической линии англо-американских исследований (а с ней и обновленных вариаций позитивизма) мысль «мертвой» эпохи (поздней античности) a priori как будто не может иметь силу. Необходимо ориентироваться на современную литературу, современные идеи, и тогда можно внести вклад в решение проблем общества и культуры.
Верна ли такая точка зрения в абсолютном смысле? Как представляется, полностью согласиться с ней мешает одно очень важное обстоятельство. Самая суть философии, ее «протоархе», если угодно, заключает в себе идею о том, что значимость философских открытий (выдвижение и разработка идей, их реализация, проверка и т. д.) обнаруживается обычно post factum. Так, разработки И. Канта были адекватно поняты и оценены спустя более полувека с его смерти. Как представляется, общим правилом для философии выступает именно то, что оценка философских идей требует временной дистанции.
В этом контексте раскрывается проблематика нашего исследования. Мы полагаем, что идеи Прокла (и вообще неоплатонизма афинского толка) актуальны в современной культуре. Причем идеи Прокла оказываются актуальны не только в качестве исторического факта, но и в отношении жизненных сил современной эпохи (понимая «современную эпоху» предельно широко, как новое и новейшее время).
Аргументация тезиса об актуальности идей Прокла в современной культуре исходно может быть выстроена в рамках указания связи идей, высказанных Проклом, с диалектическими исследованиями (в частности, исследованиями Г. Гегеля и его последователей). Так, А. Ф. Лосев замечает:
Теоретическая основа философии Прокла та же, что и у других неоплатоников, то есть это есть учение о трех универсальных ипостасях – едином, уме и душе – с воплощением этих трех ипостасей на одном универсальном теле, космосе… Нам представляется, что те диалектические триады, которыми оперирует философия нового времени и прежде всего Гегель, в значительной мере приближаются к такому пониманию диалектической триады у Прокла (Лосев 2000, 68).
Из этого ясно, что между позициями Гегеля и Прокла есть существенное сходство. Но есть и важное различие. А. Ф. Лосев полагает следующее:
…диалектический метод, как он формулируется с легкой руки Гегеля, часто трактуется как весьма абстрактная схема, а именно как разделение и соединение отвлеченных понятий, и только. Ничего общего с этим не имеет диалектика Прокла. У этого философа диалектика в первую очередь является исканием истины, а также и ее нахождением. В силу этой причины диалектика всегда говорит о красоте и сама является красотой, божественной красотой. А в таком случае она есть также и любовь к истине и красоте, и в этом отношении несравнима ни с какими другими методами философии (Лосев 2000, 69).
Нетрудно увидеть, что в рамках позиций Прокла и Гегеля, с одной стороны, наблюдается акцент на триадах (единое – ум – душа у Прокла; тезис – антитезис – синтез у Гегеля), которые обнаруживаются в основах развития сущего. С другой стороны, можно отметить, что в работах Гегеля отстаивается позиция, согласно которой диалектическое движение понятий ведется от абстрактного к конкретному (в целом от Абсолютной Идеи к Абсолютному Духу). В рамках неоплатонической традиции, напротив, прослеживается относительная деградация (выхолащивание, абстрагирование) Единого при его переходе к более низким ступеням.
В связи с этим указание на методологическое сходство неоплатонических построений и современных (идущих от Гегеля) диалектических изысканий не может служить достаточным основанием для актуализации идей Прокла Диадоха в современной культуре (а точнее в культуре нового и новейшего времени).
В то же время именно вывод о расхождениях неоплатонического триадизма и современной диалектики парадоксальным образом указывает на незадей-ствованный потенциал некоторых неоплатонических идей. Хорошо известны упреки наследников гегелевской линии со стороны либеральных мыслителей в том, что именно стремление подвести сущее под единый («историцистский») принцип диалектического развития лежит в основе тоталитарных учений ХХ века. Так, К. Поппер замечает:
В наше время [30-40е годы ХХ века – С. К.] гегелевский истерический историцизм все еще оплодотворяет современный тоталитаризм и помогает ему быстро расти. Использование его подготовило почву для образования слоя интеллигенции, склонного к интеллектуальной нечестности… Мы должны извлечь из этого урок, заключающийся в том, что интеллектуальная честность является фундаментом всего, чем мы дорожим (Поппер 1992, 72; пер. под ред. В. Н. Садовского).
Из всего этого становится ясно, что альтернативная точка зрения, которую представляет Прокл, имеет значение в отношении конституирования идеологии нетоталитарного общества. В общем плане Прокл замечает следующее:
Стало быть, на основании сказанного необходимо сделать вот какие выводы: многое участвует в едином; единое не смешивается с множеством; нет ничего лучшего, чем единое, и, напротив, именно оно и будет причиной бытия многого, так как все, лишающееся единого, сразу же устремляется в небытие и к собственной гибели. Немногое же сущее не будет не только не-многим, но и чем бы то ни было вообще. Действительно, бытию единым противоположно бытие ничем, а, в свой черед, бытию многим – бытие не-многим. Стало быть, поскольку единое и многое не тождественны друг другу, не-многое и ничто также не тождественны (Платоновская теология, II, 14, 8–17; Прокл 2001, 106; пер. Л. Ю. Лукомского).
В связи со всем этим построения Прокла можно понять так, что триадизм будет совпадать с выходом на символическое единство сущего, которое внешним образом представляет собой мифологическое разнообразие (в смысле множества мифологических образов). В каждом из этих образов базовое единство проявляется только символически (в рамках общности смысловых структур). Реальным остается несводимость к тотальному единству.
В качестве общей иллюстрации сформулированных положений можно привести особое понимание «божественной» природы числа. В интерпретации Прокла единицы (точнее, «единства») являются базисом, который разделяется на локальные единства. Прокл замечает:
…если существует множество богов, то множество это единично. Однако ясно, что оно существует, если только всякая изначальная причина управляет собственным множеством, подобным его и сродным (Первоосновы теологии, II, 113; Прокл 1993, 84; пер. А. А. Тахо-Годи).
Точно так же следует сказать и о любом обществе, в котором отдельные люди создают институты, не растворяясь в этих институтах до конца. Естественно, что в данном отношении таких людей нет оснований понимать в качестве действительных богов. Но и полностью лишать их творческого начала тоже нет необходимости.
Итак, особенности традиций мысли, обнаруживаемые в рамках неоплатонизма и в современной версии диалектики, раскрывают как расхождения в философско-методологическом отношении, так и пересечения в социальнофилософском плане. Можно заключить, что неоплатонизм, как минимум с точки зрения философии политики, поразительно актуален в современной культуре.
Не менее выигрышным является сравнение неоплатонических построений с феноменологическими разработками Э. Гуссерля. Так, может быть выявлено терминологическое родство, в особенности явное при соотнесении идей Э. Гуссерля и некоторых средневековых интерпретаций неоплатонизма (Хара-наули 1990). В этом отношении средневековый грузинский комментатор Прокла Иоанэ Петрици отмечает следующее:
Но сейчас уразумей, что силу и деятельность души [греки] называют дианойа, силу и деятельность разума – ноэма, а кроме того постигаемый разумом внешний объект – ноэтон (Петрици 1984, 29; пер. И. Ц. Панцхавы).
Различение данного рода может быть соотнесено с идеей различения акта сознания (в особенности направленности на некоторую предметную область) и условий выполнения таких актов (способов данности предметов сознанию), на разных этапах развития своей позиции последовательно проводившегося Э. Гуссерлем. Более того в «Идеях к чистой феноменологии» Э. Гуссерль практически полностью воспроизводит указанную выше терминологию, фиксируя в структуре сознательной деятельности («сознания чего-то») «ноэматическое наполнение», единицей которого выступает «ноэма» (Гуссерль 2009, 282). Важно, однако, заметить, что ноэматическое наполнение Э. Гуссерль не ограничивает сферой разума (мышления):
Восприятие, к примеру, обладает своей ноэмой, на нижней ступени – смыслом восприятия, т. е. воспринимаемым как таковым. Подобно этому всякое воспоминание обладает воспоминаемым как таковым, именно как своим, точно так же, как в нем есть «подразумеваемое» и «сознаваемое»; суждение, в свою очередь, обладает как таковым тем, о чем выносится суждение, удовольствие – тем, что доставляет удовольствие, и т. д. Ноэматический коррелят, который именуется здесь (в чрезвычайно расширительном значении) «смыслом», следует брать точно так, как «имманентно» заключен он в переживании восприятия, суждения, удовольствия и т. д., т. е. точно так, как он предлагается нам переживанием, когда мы вопрошаем об этом чисто само переживание (Гуссерль 2009, 282; пер. А. В. Михайлова).
Из этого ясно, что практически все сферы сознания (восприятие, мышление, память и др.) обладают своими «ноэмами», которые в этом (и только в этом!) смысле можно сблизить с понятием «априорной формы чувственности» И. Канта (1999, 75–76). В смысле же, вкладываемом в активность разума неоплатониками, ноэма Гуссерля занимает место «ноэтона»:
Понял ты, что есть ноэтон? Это – объект разума или познания. Слушай дальше: иное есть раз-мышление, как сказано выше, когда речь шла о душе, и иное – уразумение, акт разума, который мы упомянули, говоря о разуме, что мы также показали (Петрици 1984, 29; пер. И. Ц. Панцхавы).
Из этого ясно, что «ноэтон» есть предметное содержание познания, основанного на разуме.
Э. Гуссерль предлагает наряду с ноэмами различать также и процедуры но-эсиса (и единичные моменты таких процедур – ноэзы), которые являются «интенциональными коррелятами» ноэм (Гуссерль 2009, 299–309). Именно единство двух сторон сознания – нозиса и ноэмы – в сфере разумного познания может быть, по всей видимости, соотнесино с неоплатоническим понятием «дианойа».
Из чего становится ясно, что неоплатонические идеи могут быть использованы для изучения сознания и его роли в познавательной деятельности.
Не менее любопытными являются перспективы актуализации некоторых идей Прокла в рамках пересечения обсуждаемой нами проблематики в отношении постмодернистских разработок. Мы постараемся раскрыть такие пересечения, несмотря на то, что они могут показаться несколько надуманными и даже насильственными. Хорошо известно, что, например, Ж. Делез всерьез полагал, что на пути уточнения логики смысла его протагонистами были представители ранней Стои, в особенности Хрисипп. Главными же антагонистами выступают сторонники линии Платона-Аристотеля как линии репрессивной силы здравого смысла (Делез 1995, 11–12). Соответственно в число антагонистов по необходимости должны были бы попасть и неоплатоники.
В то же время можно привести такие слова А. Ф. Лосева, в свете которых отношения неоплатоников и постмодернистов могут быть осмыслены с иной стороны:
Платон в Тимее (37 c) пишет, что космос – это есть «изваяние вечных богов», которое «движется и живет». Космос, по Платону, есть не что иное, как живая статуя, в которой содержится не только ее интеллект, составляющий ее «адамантову структуру», но и живая, вечно подвижная жизнь с соответствующим ей телом. Этот текст платоновского Тимея Прокл (In R. P. II 212, 20–213, 11) с большим воодушевлением приводит и подвергает подробному анализу (Лосев 2000, 302–303).
Из этого ясно, что проблематика телесности играла существенную роль в неоплатонических построениях, хотя до сих пор распространено мнение о том, что материальное в рамках неоплатонизма – это не только низший, но и ничтожный, малозначимый уровень бытия.
Во многом те же вопросы интересовали и сторонников постмодернистской линии исследований. Так, Ж. Делез замечает:
В системе языка обнаруживается, таким образом, некая консистема сексуальности, которая подражает смыслу, нонсенсу и их организации: симулякр фантазма (Делез 1995, 292; пер. Я. И. Свирского).
Из этого ясно, что логика смысла связывается со структурами телесности, в особенности с сексуальностью (и механизмами подавления). Интерес постмодернистов в данном случае понятен и целиком и полностью закономерен. Но как быть с утверждением А. Ф. Лосева, позволяющим как будто переосмыслить господствующую комментаторскую традицию относительно неоплатонизма?
Как представляется, обращение к следующим замечаниям Прокла позволяет разрешить возникшее затруднение:
Итак, всякая смесь, образовавшаяся правильно, как говорит Сократ, должна обладать вот какими свойствами: красотой, истиной и соразмерностью. Действительно, правильность смеси предоставляет отнюдь не какое-либо привходящее безобразие, поскольку оно оказывается причиной ошибочности и беспорядочной обманчивости; и если истинность порой будет отделена от чистого, входящего в состав сущего, то смешение не сможет возникнуть, напротив, все тогда исполнится призрачностью и не-сущим; без соразмерности же не будет существовать общности и гармоничного сочетания стихий. Стало быть, необходимо, чтобы соразмерность обусловливала единство смешивающихся предметов и их подобающую общность, истина подразумевала бы их чистоту, а красота – упорядоченность; все перечисленное делает целое достойным любви (Платоновская теология, III, 43, 4–16; Прокл 2001, 185; пер. Л. Ю. Лукомского).
Не менее важно, что в другом месте Прокл формулирует такие положения:
Самая же первая и единичная красота отличается не только от видимых прекрасных тел, обладающих объемом, от присущей им соразмерности, душевной слаженности или умного света, но и от той, которая проявляется в самих вторых или третьих выходах богов за свои пределы. Она располагается как однородная в выси умопостигаемого и уже оттуда приходит ко всем божественным родам и освещает как их сверхсущностные генады, так равным образом и те, которые соотносятся с сущностью, вплоть до своих зримых вместилищ (Платоновская теология, I, 106, 10–18; Прокл 2001, 81; пер. Л. Ю. Лукомского).
Из всего этого ясно, что не всякое материальное тело готов ценить (и любить) Прокл, а только тело гармоничное, прекрасное в своей соразмерности. Идеалы прекрасного, тем самым, поднимаются над сферой телесного.
В то же время в постмодернизме телесное само выступает совокупностью критериев, позволяющих осмысливать человеческое бытие. Показательными в этом смысле выступают два высказывания, одно из которых принадлежит Ж. Делезу, а второе обнаруживается в работах Ж. Деррида:
Извращенное поведение тоже неотделимо от движения метафизической поверхности, которая вместо подавления сексуальности использует десексуализиро-ванную энергию для того, чтобы ввести сексуальный элемент как таковой и зафиксировать его с пристальным вниманием (Делез 1995, 294; пер. Я. И. Свирского).
Наша влюбленная бюрократия, наш эротический секретариат, мы им чересчур много вверили, чтобы потерять над ними контроль или память (Деррида 1999, 116; пер. Г. А. Михалкович).
Нетрудно увидеть, что в рамках постмодернизма сфера телесного наделяется особым смыслом. Тело (и его проявления) суть предельное понятие, замещающее ранее располагавшиеся на том же месте классические идеалы Истины, Красоты, Блага.
Неоплатоники в целом и Прокл в частности предлагают альтернативный путь. По этому пути пытались когда-то идти в эпоху Возрождения. В современной культуре тот же путь остается своего рода дорожной картой, движение по которой остается до конца не утраченной возможностью. Из всего этого ясно, что в отношении новейших направлений философской мысли, тесно связанных с тематикой человеческого бытия, идеи афинского неоплатонизма обладают своего рода отрицательной актуальностью. Другими словами, идеи афинских неоплатоников в целом и Прокла в частности оказываются актуальными «от противного».
Итак, нам представляется, что идеи Прокла Диадоха актуальны как минимум в трех сферах современной культуры (понимаемой в качестве совокупности идеалов и норм): в основах политики, в базисных характеристиках современной философии, а также в границах фундаментальных аспектов понимания человеческого бытия. В отношении основ политики актуальны идеи, позволяющие сформировать идеологию нетоталитарного общества. В плане современной философии (в частности феноменологической линии исследований) неоплатонические разработки могут быть проинтерпретированы как одна из основ (источников) осмысления рационального познания. В отношении понимания человеческого бытия актуализируются идеалы материальной соразмерности (истинной красоты).
В число перспектив исследования входит разработка отдельных аспектов выявленных параллелей и пересечений неоплатонических идей и философии Нового и Новейшего времени. В частности, темой отдельного исследования могли бы стать любопытные нюансы отношений феноменологии и неоплатонизма. Ведь, в отличие от идей сугубо научных, философские идеи не устаревают и не умирают, а только лишь меняют свои обличия и области применения, продолжая влиять на мир культурных связей и отношений с прежней силой.
Список литературы Актуальность идей Прокла Диадоха в современной культуре
- Афонасин, Е. В. (2003) «Гносис в зеркале его критиков: Античный гностицизм в контексте поздней античности», Историко-философский ежегодник, 2002. Москва: 176-212.
- Гуссерль, Э. (2009) Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая, пер. с нем. А.В. Михайлова; вступ. ст. В. А. Куренного. Москва.
- Делез, Ж. (1995) Логика смысла, пер. с фр. Я. И. Свирского. Москва.
- Деррида, Ж. (1999) О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только, пер. с фр. Г. А. Михалкович. Минск.
- Кант, И. (1999) Критика чистого разума, пер. с нем. Н. О. Лосского. Москва.
- Лосев, А. Ф. (2000) История античной эстетики. Последние века. Кн. 2. Харьков; Москва.
- Петрици, Иоанэ (1984) Рассмотрение платоновской философии и Прокла Диадоха, пер. И. Ц. Панцхавы. Москва.
- Поппер, К. (1992) Открытое общество и его враги. Том 2, пер. с англ. под общей ред. В. Н. Садовского. Москва.
- Прокл Диадох (1993) Первоосновы теологии; Гимны, пер. с древнегреч, сост. А. А. Тахо-Годи. Москва.
- Прокл Диадох (2001) Платоновская теология, изд. подгот. Л. Ю. Лукомский. Санкт-Петербург.
- Рорти, Р. (1997) Философия и зеркало природы, пер. В. В. Целищева. Новосибирск.
- Харанаули, А. В. (1990) Методология использования источников в философских трудах Прокла Диадоха и Иоанна Петрици. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тбилиси.