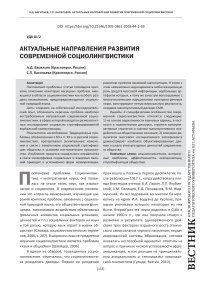Актуальные направления развития современной социолингвистики
Автор: Васильев Александр Дмитриевич, Васильева Светлана Петровна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филологические науки. Языкознание
Статья в выпуске: 2 (44), 2018 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Статья посвящена краткому описанию некоторых насущных проблем, имеющихся в области социолингвистики как особого раздела языкознания, предопределяющегося социальной природой языка. Цель: опираясь на собственный исследовательский опыт, обозначить перечень проблем наиболее востребованных направлений современной социолингвистики, в сфере которой находятся разноаспектные исследования социально стратифицированной вербальной коммуникации. Результаты исследования. Традиционные проблемы, обозначенные в 60-х гг. XX в. в русской социо-лингвистике, претерпевают значительные изменения в связи с изменением социальной стратификации общества в условиях постсоветского пространства. Углубление процесса социального неравенства в свете изоморфизма социальных и языковых явлений приводит к усложнению форм коммуникации, развитию приемов языковой манипуляции. В связи с этим невозможно недооценивать мобилизационную роль средств массовой информации, вербальные артефакты которых, к тому же зачастую воплощаемые с многочисленными нарушениями культурно-речевых норм, конструируют некую виртуальную реальность, создавая манипулятивный дискурс СМИ. Выводы. К специфическим особенностям современной социолингвистики относятся следующие: 1) на основе вариативности языковых единиц, в частности в политическом дискурсе, строятся коммуникативные стратегии и тактики манипулятивного воздействия на общественное сознание; 2) описание результатов массового ассоциативного эксперимента демонстрирует наиболее объективированные данные о шкале этнокультурных ценностей современно- го общества.
Социолингвистика, актуальные проблемы, эффективность коммуникации, стратификация общества
Короткий адрес: https://sciup.org/144161705
IDR: 144161705 | УДК: 81'2 | DOI: 10.25146/1995-0861-2018-44-2-69
Текст научной статьи Актуальные направления развития современной социолингвистики
DOI:
m
произошло в России в первое десятилетие после революции 1917 г., когда действовала плеяда блестящих ученых: Б.А. Ларин, Л.П. Якубин-ский, А.М. Селищев, Е.Д. Поливанов, В.М. Жирмунский. Их исследования во многом базировались на идеях И.А. Бодуэна де Куртене, прямыми учениками которого некоторые из них были. Второй раз эта наука родилась в США в начале 1960-х гг., где она получила стимул к
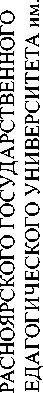
развитию в результате одновременного действия трех факторов: взрывного роста этнического самосознания черного населения; неудач американской системы образования, которая оказалась неспособной адекватно ответить на вопрос о причинах низкой успеваемости афроамериканцев, и как реакция на принципиальную асоциальность и «техницизм» хомскиан-ской лингвистики [Гулида, Вахтин, 2010].
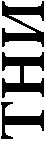

В статье «Актуальные проблемы социолингвистики» М.Д. Сеттарова отмечает быстрое развитие современной социолингвистики, связанной с такими дисциплинами, как психолингвистика, социология, социальная психология, демография, этнография, культурология. Автор отмечает проблемы социолингвистики, остающиеся актуальными и в наши дни: проблема социальной дифференциации языка, взаимодействие языка и культуры, проблема социальных аспектов билингвизма, проблема языковой политики [Сеттарова, 2016, с. 101–103].
По нашим наблюдениям, важнейшей в этой сфере продолжает оставаться проблема социальной дифференциации языка в аспекте эффективности коммуникации между представителями разных слоев общества, в плане взаимного понимания коммуникантов.
В связи со сказанным определяем цель данного исследования: опираясь на собственный исследовательский опыт, обозначить перечень проблем, наиболее востребованных направлений современной социолингвистики, в сфере которой находятся разноаспектные исследования социально стратифицированной вербальной коммуникации.
Результаты исследования. Еще из трудов филологов-классиков хорошо известно, что абсолютно адекватное восприятие адресатом вербально выраженных интенций адресанта практически невозможно и достижимо лишь на конвенциональном уровне. Эта ситуация несомненно углубляется иерархической стратификацией говорящих, особенно отчетливой в сегодняшней России. В случаях речевого контакта между представителями социальных групп, неконгруэнтных либо явно противопоставленных друг другу по ряду константных параметров, нередко возникает эффект «смысловых ножниц». Иначе говоря, нередки феномены неполноты либо вариативности восприятия аудиторией («простыми людьми») коммуникативных актов, по тем или иным причинам обращенных к ней ораторами («элитой») – конечно, с сугубо лингвистических позиций и те и другие функционально выступают как лица, ко- торых правомерно именуют рядовыми носителями языка.
Несомненно, следует принимать во внимание и резкие изменения в характере массовой русскоязычной речевой культуры, генерированные прежде всего радикальной ломкой ранее фундаментальной аксиологической парадигмы, что, в свою очередь, было порождено перестроечно-реформаторскими социальнополитическими процессами, изучаемыми в рамках социосемантики, «направления, возникшего на стыке социолингвистики и семантики, занимающегося изучением влияния социального на семантику слова, проявляющегося в структуре лексического значения и правилах семантической сочетаемости слов» (Словарь социолингвистических терминов, 2006, c. 214).
Социальная природа языка предопределяет многие особенности его функционирования в речевой коммуникации. Конечно, наиболее явно это наблюдается на уровне лексики, которая вследствие непосредственной связи с повседневной жизнедеятельностью членов этноса оказывается самым открытым и динамичным уровнем языковой системы.
Слова́ (за исключением некоторых частей речи) обладают лексическими значениями, что, собственно, и позволяет им называть реалии (от конкретных – до абстрактных включительно); эти значения кристаллизируются в толковых словарях.
Однако вовсе не редки случаи, когда лексикографические дефиниции заметно расходятся либо вступают в противоречие с обыденной практикой использования лексем. Иначе говоря, смыслы, которые вкладываются речедеятелями в слова, могут отличаться – и действительно отличаются – от их словарных толкований.
С точки зрения живого языка здесь нет ничего ни предосудительного, ни ошибочного: лексико-семантические эволюции вполне закономерны, тем более – с учетом естественных индивидуальных различий между носителями языка и в основном сугубо личностной окрашенности их высказываний (понятно, что здесь не учитываются неизбежные и многочисленные слу- чаи определенной стандартизованности, возникающей под влиянием ситуации и сферы общения, требований этикета и прочего).
Расхождения между лексикографически зафиксированными знаниями (впрочем, время от времени оказывающимися удобными мишенями для критиков), с одной стороны, и смыслами тех же слов в реальном общении – с другой, служат питательным материалом для одной из фундаментальных проблем речевого общения, а именно проблемы взаимного понимания в процессе коммуникации.
Одним из первых на эту проблему обратил внимание А.А. Потебня: «Слово, взятое в целом, как совокупность внутренней формы и звука, есть прежде всего средство понимать говорящего <…>. Что касается до самого субъективного содержания мысли говорящего и мысли понимающего, то эти содержания до такой степени различны, что хотя это различие обыкновенно замечается только при явных недоразумениях <…>, но легко может быть осознано при так называемом полном понимании. Мысли говорящего и понимающего сходятся между собою только в слове» [Потебня, 1976а, с. 179], т.е. формальная аутентичность звукобуквенного комплекса для обоих коммуникантов вовсе не является залогом абсолютно точного восприятия адресатом обращенной к нему адресантом семантики слова. Оказывается, что, как ни парадоксально звучит это суждение Потебни, «всякое даже самое полное понимание есть в то же время непонимание. Человек не может выйти из круга своей личной мысли» [Потебня 1976б, с. 256] («Silentium!» Ф.И. Тютчева, где не только общефилософски, но и лингвистически безукоризненно сформулировано: «Мысль изреченная есть ложь» [Тютчев, 1985, с.107]).
В определенном смысле развитием этих идей можно считать перечень параметров, предлагаемых Ю.М. Лотманом для оценки эффективности семиотических систем: «Для того чтобы достаточно сложное высказывание было воспринято с абсолютной идентичностью, нужны условия, в естественной ситуации практически недостижимые <…>: чтобы адресант и адре- сат <…> в семиотическом отношении представляли как бы удвоенную одну и ту же личность» [Лотман, 1998, с. 13]; то есть если бы партнеры, пользуясь одним и тем же языком, использовали бы его ресурсы совершенно одинаково, обладая при этом полностью совпадающими культурно-образовательными уровнями, мировоззрениями, особенностями невербального поведения и т.п. А такие двойники, или, скорее, клоны, в реальности пока невозможны.
Вариативность понимания высказывания, несомненно уместная, скажем, при усвоении литературно-художественного текста, вряд ли может приветствоваться при знакомстве с произведениями ряда других стилей и жанров – например, официально-делового или политических выступлений.
В последнем случае на передний план выступает еще одна значительная проблема, а именно социальная стратификация языка. При ее рассмотрении используются различные подходы.
Так, Е.Д. Поливанов полагал, что в бытовании т.н. стандартного языка имеет место некая стабильность, не подверженная социальным катаклизмам: «…Во всей истории литературных (или стандартных) языков мы видим примеры того, как класс, переживший эпоху своего господства, уступая свою руководящую позицию новому, идущему ему на смену классу, передает последнему, наравне с прочими внешними формами культуры, и языковую традицию» [Поливанов, 2001, с. 311]. При всей привлекательной изящности этой позиции, она все же довольно уязвима, даже если пытаться иллюстрировать ее культурноречевыми процессами хорошо знакомого Е.Д. Поливанову послеоктябрьского периода. Известно, насколько радикально по сравнению с предшествующим временем изменились формы общественного поведения, в том числе и на уровне ритуализованного этикета высшей (правящей) страты; затруднительно считать, и что в отборе и употреблении языковых единиц не было никаких изменений – напротив, особенно в лексикосемантическом отношении трансформации проявились незамедлительно (в 1919 г. об этом уже писал А.П. Баранников [Баранников, 1919]).
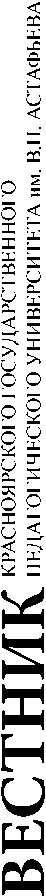
Конечно, в основе своей русский язык остался тем же самым, но вот наиболее частотные варианты применения, прежде всего лексем, в речевой коммуникации стали совсем иными. Довольно четко эти явления отразились, например, в текстах внимательнейшего бытописателя 1920–1930-х гг. М.М. Зощенко, который, между прочим, на критику, утверждавшую, что он искажает «прекрасный русский язык», резонно отвечал: «Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица» [Зощенко, 1986, с. 539].
Несомненно, актуальными сегодня являются исследования в области особенностей массового словоупотребления, в частности строящиеся по модели ассоциативного эксперимента. Результаты таких изысканий, в материалах которых ключевое место принадлежит вербальным формам воплощения концептов, ключевых для национальной ментальности, позволяют в должной мере объективно установить состояние и главные векторы общественного сознания (см. об этом, например: [Васильева, 2016; 2017; Васильев, Васильева, Тимченко, 2015в] и др.). Подобные подходы значительно способствуют диагностированию духовно-нравственного состояния социума.
Таким образом, революционный слом экономических и социально-политических формаций действительно может отразиться (и отражается, как свидетельствует хотя бы отечественный опыт) на культурно-речевой практике. Совсем иной вопрос – какие конкретные формы принимают подобные эволюции, какие общественные силы и какими каналами пользуются для трансляции своего влияния на речекоммуникативную ситуацию.
Несомненно, проще (и удобнее) всего декларировать в очередной раз стихийность языка, прихотливость языковой моды, «языкового вкуса» и т.п. Но ведь априорно понятно, что никакой модный вкус не возникает сам по себе: его разрабатывают и насаждают те, кому это выгодно. То же следует сказать и о «языковой моде», которая материализуется под воздействием разнородных и прежде всего экстралингвистиче-ских факторов.
Наиболее эффективным каналом внедрения и культивирования речекоммуникативных новаций, очевидно, являются средства массовой информации, чей вербальный поток по традиции советских времен либо попросту в силу недомыслия значительной частью аудитории воспринимается как эталонно-нормативный.
Таким образом, неминуемо встает вопрос о вдохновителях оборота слов в СМИ. Перестроечное словечко плюрализм давно ушло в пассивный запас, и сегодня наблюдается почти абсолютное единодушие всех информационных каналов (за исключением Интернета), безусловно во всем проводящих непрерывную пропагандистскую кампанию, отвечающую запросам их распорядителей.
Продуктивным в связи с этим считаем обращение к известному в социолингвистике методу социолингвистической интерпретации, т.е. «анализу устных и письменных текстов, а также статистической информации и другого экстралинг-вистического материала, с целью выявления корреляций между отобранными исследователем лингвистическими и экстралингвистически-ми данными» (Словарь социолингвистических терминов, 2006, c. 208).
Напомним, что предметом рассмотрения в социолингвистике является вариативность языковой структуры, именно переменные, а не постоянные величины становятся объектом самого пристального внимания. «Исследуя социально обусловленное варьирование языковых единиц, социолингвистика соотносит языковые факты с фактами социальными. Зависимость первых от вторых устанавливается путем выявления систематического параллельного варьирования (covariance) элементов языковой и социальной структуры. Отсюда следует, что метод корреляции языковых и социальных явлений является одним из важнейших методов социолингвистического исследования» [Швейцер, 2006].
Н.Г. Комлев логично ставил «вопрос о роли классов или социальных слоев в формировании стилистического образа языка или речевых эталонов. Является ли господствующий класс также господствующим в отношении языка?»
[Комлев, 2003, с. 121]. По всей вероятности, ответ может быть скорее положительным – хотя все же применительно не столько к языку как таковому, сколько к возможностям его речевой реализации.
Основной инструментальной единицей такой манипуляционной кампании необходимо считать слово: его семантику, имиджеобразующую, аксиологическую и культурную функции, основным объектом воздействия — общественное мнение [Васильев, Подсохин, 2016б, с. 33 ].
В результате чего коммуникативная функция языка превращается в манипулятивную. По- рождением такого подхода к использованию языка стало явление, называмое «информационная война», которое определяется как «совокупность массовых коммуникативных практик, целью которых является воздействие (или противодействие) посредством специфического употребления единиц языка на общность людей (географическую, этнографическую, конфессиональную, политическую, экономическую и т.д.) при одновременном обеспечении безопасности и защиты актора для достижения информационного превосходства в стратегических целях» [Васильев, Подсохин 2016а, с. 11].
Но вот здесь вновь вырисовывается вышеупомянутая проблема взаимного понимания участников общения, усугубляемая их социальной дифференциацией, и следует задаться еще одним важным вопросом: насколько адекватно воспринимает аудитория вербальные акты «элиты» (к тому же зачастую перенасыщенные заимствованиями, выступающими как социолингвистический маркер власть имущих)?
Действительно, ряд проведенных исследований подтверждает: публичные выступления высоких руководителей могут пониматься весьма вариативно – обычно вследствие неоднозначного выражения ими даже концептуально значимых понятий (см. об этом: [Васильев, 2010; Васильев, 2015а; 2015б]). От исследователя текстов публичных выступлений требуется в значительной степени опора на неединичные факты, убедительность и достоверность выводов.
Следует отметить, что при попытках публикации результатов подобных исследований ино- гда возникают затруднения совсем не лингвистического свойства, когда со стороны некоторых изданий отмечается социальное давление, проявляющееся путем отказа от «неудобных» публикаций, вопреки научной объективности.
Между тем, очевидно, что искусственное культивирование «белых пятен» в науке чревато в конечном счете ее ущербностью, а следовательно, разноаспектные исследования в указанной сфере должны быть продолжены, невзирая даже на низкую вероятность незамедлительной публикации их результатов: слишком велика в против- ном случае возможность незаметного возвращения к многократно заклейменному тоталитаризму (который вербально может быть довольно успешно декорирован под безбрежную демократию).
Выводы . Таким образом, актуальными направлениями развития современной социолингвистики становятся политическая лингвистика и психолингвистика: 1) задача современных социолингвистических исследований заключается в выявлении фактов эволюции языковых единиц, главным образом лексем, приводящих к вариативности понимания, на основе которой, в частности в политическом дискурсе, строятся коммуникативные стратегии и тактики манипулятивного воздействия на общественное сознание; 2) достоверными способами определения духовно-нравственного состояния этноса являются экспериментальные исследования и описание результатов массового ассоциативного эксперимента, демонстрирующего наиболее объективированные данные о шкале этнокультурных ценностей современного общества.
Заключение. Лишь с преимущественным вниманием к соблюдению высказанных в статье положений социолингвистика способна быть высокопродуктивной научно-гуманитарной областью знания и обладать соответствующим общественным статусом.
Список литературы Актуальные направления развития современной социолингвистики
- Баранников А. Из наблюдений над развитием русского языка в последние годы//Ученые записки Самарского университета. Самара, 1919. Вып. 2. С. 64-80.
- Васильев А.Д. Доминантные концепты одного политического диалога//Политическая лингвистика: проблематика, методология, аспекты исследования и перспективы развития. Екатеринбург, 2015а. С. 43-47.
- Васильев А.Д. Интерпретативные потенции текста политического выступления//Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2014а. С. 51-59. № 1 (47).
- Васильев А.Д., Подсохин Ф.Е. Информационная война: лингвистический аспект//Политическая лингвистика. 2016а. № 2 (56). С. 10-16.
- Васильев А.Д. Лексико-фразеологические представления своего и чужого в посланиях В.В. Путина Федеральному Собранию (2012-2014 гг.)//Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2015б. № 2 (52). С. 17-25.