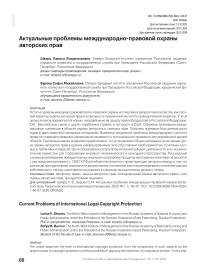Актуальные проблемы международно-правовой охраны авторских прав
Автор: Шварц Л.В., Бурова С.М.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (19), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье уровень международной авторско-правовой охраны исследован в ракурсе таких аспектов, как срочный характер охраны авторских прав и возможность применения института принудительной лицензии. С этой целью анализу подвергаются нормы, направленные на защиту правообладателей в Российской Федерации, СНГ, Европейском союзе и других зарубежных странах, в частности в США. О тражены важнейшие международные конвенции в области охраны авторских и смежных прав. Показана правовая база деятельности судов в трансграничных авторских отношениях. Выявлены актуальные проблемы международного частного права по совершенствованию материально-правового и коллизионного правового регулирования в данной области. Сделанный анализ позволяет предположить, что установление общих критериев к исчислению срока охраны авторских прав в едином унифицированном акте обусловлено необходимостью сочетания частных и публичных интересов при использовании результатов интеллектуальной деятельности и их исключительной важностью для глобализации мирового экономического и культурного пространства. Рассуждения о возможном введении принудительных лицензий на авторские продукты иностранных компаний по аналогии с уже предусмотренными ст. 1362 ГК РФ для объектов патентного права приводят авторов к выводу о том, что механизм принудительной лицензии не должен занять постоянное место в регулировании интеллектуальной собственности, так как существенно не поможет в снижении экономических рисков и потерь.
Авторское право, защита авторских прав, международная охрана авторского права, срок охраны авторских прав, принудительная лицензия
Короткий адрес: https://sciup.org/14130600
IDR: 14130600 | DOI: 10.22394/2686-7834-2024-1-60-67
Текст научной статьи Актуальные проблемы международно-правовой охраны авторских прав
Авторское право — динамическая отрасль права, постоянно развивающаяся и совершенствующаяся. Ее императивное регулирование осложнено двумя факторами. Во-первых, авторское право неотрывно связано с творчеством — оно регламентирует правоотношения касательно результатов творческой деятельности, что требует очень тонкого понимания всех особенностей объектов авторских прав, а также бережной защиты их первичных правообладателей. Во-вторых, регламентация данных правоотношений производится на международном уровне с детализацией в национальных законодательствах, что приводит к разночтениям, связанным с тем, что в разных государствах существуют различные модели охраны авторских прав, а где-то они отсутствуют вообще.
В статье будут подсвечены две проблемы. Первая — классический конфликт, связанный со сроками охраны объектов авторских прав, которые не определены на конвенциональном уровне и разнятся от государства к государству, что порождает неоднозначную судебную практику при трансграничных конфликтах. И вторая — новая проблема российского правопорядка, заключающаяся в применении института принудительных лицензий в авторском праве с целью использования произведений, которые на сегодняшний день недоступны ввиду санкций и политических решений «недружественных» государств.
Сроки охраны объектов авторских прав
К целям международных конвенций относится установление минимального срока охраны авторских прав. Так, Всемирная конвенция охраняет произведение на протяжении всей жизни автора, а также устанавливает 25-летний срок охраны авторских прав после его смерти1. Бернская конвенция устанавливает более длительный срок охраны авторских прав на произведение после смерти автора — по общему правилу 50 лет2. Однако в положении Бернской конвенции специально оговаривается, что страны-участницы могут установить срок охраны, превышающий 50 лет. Так, страны ЕС, Россия, Великобритания и другие установили 70-летний срок охраны авторских прав по общему правилу.
П. 8 ст. 7 Бернской конвенции устанавливает, что срок охраны авторских прав определяется законом страны, «в которой истребуется охрана», он не должен превышать срок охраны страны происхождения произведения. Например, произведение, впервые опубликованное в Республике Беларусь, подлежит охране в России не в течение 70 лет, а в течение 50, поскольку такой срок установлен национальным законодательством.
Однако на практике возникает вопрос о сроках охраны произведения, национальным законодательством которого установлен более длительный срок, чем 50 и даже 70 лет.
В 1998 г. медиакорпорация Disney лоббировала изменения в законодательство в части срока охраны объектов авторского права. Итогом многочисленных споров и обсуждений стало то, что Конгресс США принял закон, продляющий срок защиты авторских прав для работ, созданных по найму (служебных произведений). А сделано это было
СТАТ Ь И
потому, что срок охраны авторского права на изображение знаменитого персонажа Микки Мауса3 истекал в 2003 г. Таким образом, без решения о необходимости изменения законодательства персонаж Микки Маус, имеющий яркую принадлежность компании Disney, в 2024 г. превратится в объект общественного достояния.
Но стоит вернуться к п. 8 ст. 7 Бернской конвенции и обратить внимание на положение о применении национального права в стране, в которой истребуется охрана. В связи с этим возникает дискуссионный вопрос — является ли Микки Маус охраняемым объектом авторского права на территории государств, где предполагается более короткий срок охраны — например, 70 лет? А также — какое значение было заложено в понятие «страна, в которой истребуется охрана» применительно к определению сроков охраны объектов авторских прав?
Если обратиться к отечественному законодательству, а именно к актуальной редакции Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), то в ст. 1256 обнаружим два условия распространения сроков охраны на произведения в соответствии с международными договорами: произведение не перешло в общественное достояние в стране происхождения вследствие истечения установленного в такой стране срока охраны и произведение также не является общественным достоянием в России вследствие истечения предусмотренного ГК РФ срока действия исключительного права на него.
Применительно к данному кейсу нам видится, что персонаж Микки Маус в варианте 1928 г. как объект авторского права уже не подлежит охране на территории Российского государства и в ряде других стран, где истребуется охрана и срок охраны меньше, чем в США. Кроме того, в данном случае применим национальный принцип охраны авторских прав, что подтверждается содержащимся в ст. 5 Бернской конвенции положением о том, что объем охраны, равно как и средства защиты, представляемые автору для охраны его прав, регулируются исключительно законодательством страны, в которой истребуется охрана.
Так, разрешая спор между российским гражданином и юридическим лицом Великобритании, апелляционный арбитражный суд постановил, что в отношении исключительных прав на произведение юридического лица Великобритании на территории Российской Федерации будет применяться национальное законодательство4.
В то же время принцип lex loci protectionis (закон государства, где испрашивается охрана) относится к специальным коллизионно-правовым принципам, и его толкование как в доктринальных, так и в правовых текстах имеет несколько вариаций, которые в своей работе отразила О. В. Луткова5.
Во-первых, право государства, для которого (в отношении которого) истребуется охрана. Данное толкование подразумевает применение права того государства, на территории которого возник юридический эффект, из которого возникла потребность в защите авторских прав. В данном случае имеется в виду право государства, применительно к которому требуется восстановление нарушенного права, причем само нарушение может быть совершено в другой юрисдикции. Такое положение содержится в Регламенте Европейского союза о праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам от 2007 года6. Так, согласно п. 1 ст. 8 «правом, подлежащим применению к внедоговорному обязательству, возникающему вследствие нарушения права интеллектуальной собственности, является право страны, применительно к которой предъявляется требование о защите».
Аналогичным образом это положение отражено в § 48 главы VI о правах интеллектуальной собственности Закона Венгрии XXVIII от 2017 г. о международном частном праве (создание, содержание, прекращение и принудительное исполнение авторских прав регулируется законодательством государства, где требуется защита)7; в ч. 1 ст. 110 Закона Швейцарии о международном частном праве (к правам интеллектуальной собственности применяется право государства, на территории которого испрашивается охрана)8; в п. 1 ст. 38 Закона Лихтенштейна о международном частном праве (возникновение, содержание и погашение прав на нематериальное имущество определяются согласно праву государства, в котором осуществляется действие по их использованию или нарушению)9.
СТАТ Ь И
То есть в рамках данного толкования идет речь о праве государства, на территории которого правообладатель желает использовать объект авторского права и защитить свое право от посягательств.
Во-вторых, право страны, где истребуется защита. Такая позиция содержится в Модельном гражданском кодексе для стран СНГ в ст. 1232 — «к правам на интеллектуальную собственность применяется право страны, где испрашивается защита этих прав»10, а также в гражданских кодексах ряда стран СНГ, например, согласно ст. 1115 Гражданского кодекса Белоруссии к личным неимущественным правам применяется право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о защите таких прав11.
Однако такая позиция не представляется исчерпывающей, поскольку сужает применение национальных норм до разрешения споров относительно нарушения авторских прав, когда и возникает потребность в их защите.
В-третьих, закон места причинения вреда. Такое толкование характерно для японской правовой системы, что отражено в ее юридических актах и доктрине, однако оно не обеспечивает в достаточной степени защиту авторских прав в рамках международных частноправовых отношений, поскольку может послужить основанием для наступления ответственности за действия, которые не признаются противоправными в государствах, в которых авторские права получили юридический эффект. Так, ст. 17 Закона Японии об общих правилах применения законов гласит, что возникновение и действие требований, являющихся результатом деликта, регулируются правом места, где возникли результаты действий, повлекших ущерб. Однако в качестве субсидиарного правила установлено, что если появление результатов в таком месте обычно было бы непредвиденным, то они регулируются правом места, где произошли действия, причинившие ущерб.
Следует согласиться с мнением О. В. Лутковой, которая, резюмируя различия в толковании формулировки ч. 2 ст. 5 Бернской конвенции, пришла к выводу, что в большинстве национальных законодательств стран — участниц Бернского союза — формулировка «страна, в которой истребуется защита» закрепляется как принцип «закон государства, для которого истребуется защита».
Так, АО «Первый канал. Всемирная сеть», чьи авторские права были нарушены в США в результате несанкционированной трансляции видеоконтента, получило компенсацию в размере 1,1 млн долларов. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка в своем решении установил нарушение раздела 605 (а) Федерального закона о коммуникациях. Данный кейс также свидетельствует о применении права государства, в котором истребуется защита12.
В свою очередь Л. В. Терентьева отмечает, что анализ судебной практики показывает, что суды зарубежных стран избирают право страны, где истребуется охрана и которое зачастую неверно синонимизируют с правом страны суда13.
В рамках дискуссии о сроках охраны авторских прав в условиях трансграничных отношений представляется необходимым затронуть проблему обратной силы Бернской конвенции и возможность применения ее положений к произведениям, ставшим общественным достоянием. Как отмечает О. А. Городов, режим общественного достояния может применяться к имеющим информационную природу результатам интеллектуальной деятельности, в отношении которых не установлено исключительное имущественное право на их использование или истек срок его действия14.
Ч. 1 ст. 18 содержит положение о том, что нормы Бернской конвенции должны применяться ко всем произведениям, которые к моменту ее вступления в силу не стали еще общественным достоянием в стране происхождения вследствие истечения срока охраны. При этом ч. 2 Конвенции содержит специальную оговорку, согласно которой, если произведение вследствие истечения срока охраны стало общественным достоянием в стране, в которой истребуется охрана, то охрана этого произведения не возобновляется.
Первый прецедент непредставления охраны произведению, перешедшему в общественное достояние в стране охраны, то есть без обратной силы, был создан США. Вступление в Бернский союз произошло на следующих
СТАТ Ь И
условиях: «раздел 17 Свода Законов США в редакции настоящего Закона не предоставляет авторско-правовой охраны каким-либо произведениям, находящимся в общественном достоянии США»15. Таким образом, США не предоставляли охрану любым произведениям, перешедшим в общественное достояние, а не только вследствие истечения сроков. Позднее данная оговорка была снята16.
Опыт России как участницы Бернского союза также связан с проблемой применения обратной силы. Так, Россия стала участницей Конвенции, ограничив применение ее положений и распространение на произведения, которые на дату вступления Конвенции в силу для России уже являются на ее территории общественным достоянием. При этом до 2004 г. ст. 28 Закона «Об авторском праве и смежных правах» относила к произведениям, перешедшим в общественное достояние, произведения, которым на территории Российской Федерации никогда не предоставлялась охрана. Стоит отметить, что нынешняя редакция ч. 4 ГК РФ предусматривает по общему правилу охрану произведения в течение 70 лет после смерти автора. В связи с этим в декабре 2012 г. Россия отозвала заявление, сделанное во время присоединения к Бернской конвенции, ввиду его несоответствия законодательству Российской Федерации17.
Также актуальным на сегодняшний день является вопрос о возможности предоставления охраны произведению в других странах, при условии отсутствия такой охраны в стране происхождения, то есть с «нулевым» сроком охраны.
Подобный прецедент сложился в рамках судебного процесса в США, инициатором которого стала компания Hasbro Bradley, предъявившая иск к компании Sparkle ввиду того, что последняя копировала и распространяла модели игрушек, производство которых Hasbro Bradley поручило японской компании. Компания Sparkle оперировала тем, что японское законодательство не предоставляет охрану продукции массового производства. Однако суд пришел к выводу о возможности охраны произведения американским законодательством, поскольку Япония является участником Всемирной конвенции18.
Однако согласно ст. 4 Всемирной конвенции, государство-участник не обязано обеспечивать охрану произведения в течение срока более продолжительного, чем срок, установленный для произведений в стране происхождения. Аналогичное положение содержится и в ст. 5 Бернской конвенции — «если законодательством этой страны не предусмотрено иное, этот срок не может превышать срок, установленный в стране происхождения произведения». Как отметила Л. В. Тереньтева, комментируя данные нормы, ряд ученых пришел к выводу о том, что срок охраны произведения должен быть нулевым, если страна происхождения не предоставляет ему охрану, соответственно недопустимо превышение этого срока.
Однако нам представляется возможным различное толкования данных норм как Всемирной, так и Бернской конвенций, поскольку ни одна из них не содержит прямого запрета на увеличение срока охраны произведения в стране, где она истребуется.
Таким образом, в рамках научной дискуссии о сроках охраны авторских прав в трансграничных отношениях существует ряд актуальных проблем и вопросов, которые возникают в первую очередь ввиду различий в толковании коллизионных норм, содержащихся в Бернской и Всемирной конвенциях, а также неоднозначного подхода к охране авторского права в системе национального законодательства государств-участников. Это позволяет сделать вывод о том, что механизм установления минимального уровня охраны в рамках многосторонних соглашений не является совершенным и требует закрепления единого подхода в международных договорах без «развилок» для правоприменителя, в государстве которого предусмотрен иной порядок охраны объектов авторских прав, противоречащий конвенциональным нормам.
Следует отметить, что переход оригинального произведения в общественное достояние связан также с проблемой ограничения свободы творчества применительно к созданию «вторичных» произведений, так как истечение срока действия исключительного права позволяет свободно использовать это произведение, хотя и при условии обязательного соблюдения неимущественных прав автора первоначального произведения19.
Принудительная лицензия
Дискуссия о возможности применения института принудительной лицензии — разрешения, выданного органом государственной власти, на использование результата интеллектуальной деятельности вне зависимости от воли первичного правообладателя (автора), но с обязательной выплатой ему вознаграждения — в отношении автор- ских прав не нова20, однако особую актуальность ей придала геополитическая ситуация, развернувшаяся с февраля 2022 г.
СТАТ Ь И
Действительно, как в национальном законодательстве отдельных государств, так и в международных соглашениях можно обнаружить нормы, допускающие выдачу принудительной лицензии на объекты авторских прав. Например, Закон об авторском праве США предусматривает принудительное лицензирование в отношении фонограмм музыкальных произведений, при условии, что эти произведения распространялись ранее с согласия правообладателя.
Всемирная конвенция допускает выдачу принудительной лицензии на перевод письменных произведений по истечении 7 лет со дня его выпуска в свет, при условии, что это произведение не было переведено на национальный язык государства-участника, а гражданин, ходатайствующий о выдаче принудительной лицензии, принял все надлежащие меры, чтобы заключить лицензионный договор с правообладателем.
Бернская конвенция квалифицирует в качестве принудительной лицензии право государств устанавливать для себя оговорки и условия относительно осуществления исключительного права авторами литературных художественных и музыкальных произведений, специально оговаривая недопустимость применения этих положений в отношении кинематографической переделки. А также, как и Всемирная конвенция, допускает выдачу принудительной лицензии на перевод, но по истечении трехлетнего срока.
ГК РФ предусматривает возможность выдачи принудительной лицензии на объекты патентного права. При этом Кодекс не содержит прямого запрета на проведение такой процедуры в отношении объектов авторских права, поскольку ст. 1239 ГК РФ охватывает результаты интеллектуальной деятельности в целом.
В августе 2022 г. в Государственную Думу РФ был внесен законопроект № 184016-8 «О внесении изменения в Федеральный закон “О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации”» о расширении механизма принудительной лицензии, который предусматривал возможность выдачи принудительной лицензии на объекты авторских прав, если правообладатель необоснованно расторг лицензионный договор, а также если контент ранее не использовался на территории России. Также важно отметить, что действие такого механизма предполагалось только в отношении «недружественных» государств, список которых утвержден Правительством РФ21.
Этот законопроект дал почву для дискуссии о правомерности и целесообразности внесения подобных поправок в ГК РФ. В частности, против выступила ассоциация «Интернет-видео» (АИВ), которая объединяет крупные российские видеосервисы, такие как Okko, Start, Amediateka, Национальная федерация музыкальной индустрии (российские представительства Sony Music, Universal Music, Warner Music и другие компании), высказав опасение относительно падения качества услуг, а также снижения инвестиционной привлекательности российского рынка22.
С другой стороны, высказывается точка зрения о том, что принудительная лицензия призвана не допустить замедление культурного и общественного развития, восстановить права лицензиатов, нарушенные незаконным расторжением после 22 февраля 2022 г. лицензионного договора, а также не допустить распространения пиратства23.
В России с 2022 г. наиболее активно заработал механизм параллельного импорта, однако, по заявлению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, он не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности24. Ограничение доступа к объектам авторских прав неминуемо повлекло развитие пиратства. Принудительная лицензия, вопреки расхожему мнению, могла бы создать базу для легального преодоления подобных ограничений. Во-первых, для получения лицензии необходимо обращение в суд как в уполномоченный орган; во-вторых, принудительная лицензия, как и любая другая, предусматривает уплату вознаграждения правообладателю. Однако здесь важно отметить, что, хотя большинство личных неимущественных и исключительных прав универсальны и непременно в той или иной форме содержатся в разных иностранных право-порядках, право композитора на вознаграждение за использование музыкального произведения — исключительная особенность российского законодательства, не имеющая легитимации в правопорядках других государств. Большинство мировых правопорядков не признают право на последующее вознаграждение композитора как таковое25.
СТАТ Ь И
Опасения вызывают возможные ответные меры со стороны «недружественных» государств, например отключение ряда электронных ресурсов для российских пользователей. Применение механизма принудительной лицензии очень затруднительно в сфере IT, например, в отношении программного обеспечения, продуктов, требующих регулярного обновления. Так, Н. В. Щербак относит вопрос о трансформации информационных технологий в контексте переосмысления теоретической концепции интеллектуальных авторских и смежных прав к числу принципиальных, так и не получивших разрешения в российской цивилистике26.
Итак, принудительная лицензия и ее применение в отношении объектов авторских прав допустимы в отношении отдельных видов объектов авторских прав, что находит подтверждение как в национальных, так и транснациональных актах. Однако расширение сферы ее применения, в частности в России, в условиях санкционного режима может повлечь неоднозначные последствия. Для решения вопроса о внедрения такого механизма в правоприментельную практику необходимо рассмотрение не только чисто юридических, но и экономических аспектов27, а именно оценить экономический эффект ввода в действие института принудительных лицензий в качестве временной меры в отношении объектов авторских прав.
Таким образом, правовое регулирование авторских прав в международных отношениях порождает ряд актуальных проблем. В частности, проблема, ставшая классической дилеммой об определении сроков охраны авторских прав, которая возникает ввиду различного толкования коллизионных норм и требует единого решения на уровне международного сообщества. И совершенно новая проблема российского правопорядка, связанная с текущей геополитической обстановкой, о применении существующих норм о принудительных лицензиях в отношении объектов авторских прав, что позволит снизить уровень пиратства, удовлетворить в части интерес авторов через выплату вознаграждения, а главное — поддержать уровень культурного развития нации.
Список литературы Актуальные проблемы международно-правовой охраны авторских прав
- Городов О. А. Общественное достояние как правовой режим результатов интеллектуальной деятельности. Патенты и лицензии. Интеллектуальные права, 2017. № 4. С. 10-18. EDN: YLJXON
- Иванов Н. В. Правовая охрана части произведения. Вестник экономического правосудия Российской Федерации, 2021. № 1. С. 99-113. EDN: BIIXDO
- Исаева О. В. Пределы свободы автора производного произведения: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2023. 26 с. EDN: NQYQUW
- Копылов А. Ю. Персонаж произведения как объект авторских прав: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Томск, 2021. 29 с. https://doi.org/10.17223/15617793/449/29
- Луткова О. В. Системообразующие принципы в общей классификации принципов правового регулирования трансграничных авторских отношений. Актуальные проблемы российского права, 2018. № 4. С. 159-169. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2018.89.4.159-169
- Пантелеева З. Ю. Актуальные проблемы международной охраны авторских прав. Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. Тольятти: ВУиТ, 2008. Вып. 70. С. 24-36. EDN: JTINCX
- Пучинина М. М. Степень инкорпорации норм международного права о принудительных лицензиях в российское законодательство. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2022. № 3 (50). С. 365-373. https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2022/3/365-373
- Стус Е. А. К вопросу о предоставлении принудительной лицензии на рынке лекарственных средств. Журнал предпринимательского и корпоративного права, 2023. № 3. С. 13-16. EDN: UOACVS
- Терентьева Л. В. Коллизионное регулирование авторских отношений в условиях развития Интернета (на примере России, США и Я понии). Право. Журнал Высшей школы экономики, 2013. № 3. С. 151-176. EDN: RYGFED
- Шварц Л. В., Дерябина Е. С. Правовой режим охраны юридически значимых элементов литературного произведения. Теоретическая и прикладная юриспруденция, 2021. № 3. С. 36-41. https://doi.org/10.22394/2686-7834-2021-3-36-41. EDN: NXUGEX
- Щербак Н. В. Авторские и смежные права в системе интеллектуальных прав: автореф. дисс.... докт. юрид. наук. Москва. 2022. 60 с.
- Margono S. National sovereignty on international patent application: government’s use or compulsory licence policy. Russian Law Journal, 2023. Vol. XI. No. 5. Pp. 996-1008.
- Kreileand R., Becker J. The Legitimation, Practice and Future of Private Copying: a Paper Taking as an Example the System of Private Copying in Germany. Copyright Bulletin, 2003. Vol. XXXVII. No. 2. Pp. 1-19.