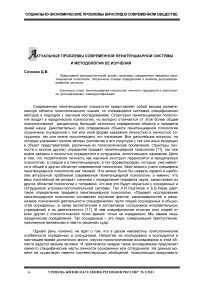Актуальные проблемы современной пенитенциарной системы и методологии ее изучения
Автор: Сочивко Д.В.
Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal
Рубрика: ВИЧ и общие проблемы пенитенциарной системы
Статья в выпуске: 1 (155), 2011 года.
Бесплатный доступ
Представлен методологический анализ проблемы определения предмета пенитенциарной психологии, обозначены основы определения и анализа десоциализированной личности
Пенитенциарная психология, личность террориста и преступника, самоидентификация, десоциализация
Короткий адрес: https://sciup.org/143181933
IDR: 143181933
Текст научной статьи Актуальные проблемы современной пенитенциарной системы и методологии ее изучения
Современная пенитенциарная психология представляет собой весьма разветвленную область психологического знания, со сложившейся системой специфических методов и подходов к научным исследованиям. Структурно пенитенциарная психология входит в юридическую психологию, но выгодно отличается от этой более общей психологической дисциплины большей четкостью определения объекта и предмета своей науки. Действительно, все определения объекта пенитенциарной психологии ограничены осужденной к той или иной форме наказания личностью и личностью сотрудника, так или иначе исполняющего это наказание. Все дальнейшие вопросы, на которые указывают многие авторы (коллектив и его структура у тех или иных входящих в объект представителей, различные их психологические проявления, структуры личности и многое другое), определяя предмет пенитенциарной психологии [11], так или иначе связаны с личностью осужденного и сотрудника, исполняющего наказание. Дело в том, что теоретически личность как научный конструкт переносится в юридическую психологию, а следом и в пенитенциарную, в тех формулировках, которые уже имеются в общей и других областях современной психологии, безо всякого учета специфики пенитенциарной психологии как таковой. Это можно было бы назвать первой и наиболее актуальной проблемой современной пенитенциарной психологии, а именно, что весь понятийный ее аппарат, начиная с определения предмета науки, заимствован из других областей психологии с поправкой, что все это будет изучаться у осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы. Так А.И.Ушатиков и Б.Б.Казак дают такое определение предмета пенитенциарной психологии: «Предмет исследования пенитенциарной психологии составляет изучение фактов, закономерностей и механизмов психической деятельности специфических групп людей (осужденных и общностей осужденных, а также воспитателей и коллективов сотрудников исправительных учреждений) и их деятельности» [11]. В чем специфические отличия этих людей от всех других с психологической точки зрения, точно не определено. Мы имеем лишь юридические определения. Так осужденные - это люди, совершившие преступление, признанные виновными в нем по решению суда.
Однако речь, конечно, не идет о том, что в целом неизвестны психологические особенности осужденных и сотрудников. Напротив, их исследовано и исследуется в настоящее время достаточно много, научно-психологические исследования в этой области ведутся весьма активно. И практически каждое такое исследование предлагает какие-то специфические черты личности осужденных или сотрудников. На данный момент не существует именно соответствующих обобщений, позволяющих представить личность человека как субъекта определенной деятельности (поведения) в специфическом поле субъект-объектного взаимодействия (как это имеет место быть в социальной, педагогической, инженерной, некоторых других областях психологии), и что позволило бы точно определить предмет собственно пенитенциарной психологии. Следует, однако, заметить, что в такой формулировке проблема предмета подходит (и даже лучше подходит) для юридической психологии в целом, ветвью которой является пенитенциарная психология.
В целом ситуация складывается парадоксальная. Проблема предмета в пенитенциарной психологии за счет точного указания на тех, кого, собственно, изучаем (осужденные и сотрудники), стоит гораздо менее остро, чем в более широкой области юридической психологии. Получается, что пенитенциарная психология получает эту проблему скорее «в наследство», чем сама остро страдает от ее нерешенности.
В юридической психологии (как относительно молодой отрасли психологического знания) проблема ее предмета (и объекта - в отличие от пенитенциарной) стоит достаточно остро. Признание за этой областью психологического знания статуса отдельной науки требует дальнейшего уточнения предмета научных изысканий, т.е. определения круга тех специфических закономерностей человеческого поведения и психики, которые ни в какой другой области психологии не изучаются или же изучаются под совершенно иным углом зрения. Определение предмета науки, таким образом, непосредственно связано с определением ее методологии. Сходство предмета родственных областей научного знания может компенсироваться различной методологией исследования, той глобальной точкой зрения, на которой стоит ученый исследователь. По методологической позиции происходит и определение места научного знания в системе наук. Так некоторые авторы рассматривают юридическую психологию как «научно-практическую дисциплину, которая изучает психологические закономерности системы «человек — право»» [1]. Здесь явно делается акцент на прикладном характере юридической психологии, почему и предмет ее определен достаточно широко. Еникеев М.И. и Кочетков О.Л. рассматривают юридическую психологию как область, близкую к социальной психологии и изучающую «проявление и использование психологических закономерностей, психологических знаний в сфере правового регулирования и юридической деятельности» [2].
Еникеев М.И. детально исследует, в том числе, и вопрос статуса юридической психологии, подчеркивая, что, «являясь пограничной наукой между психологией и правоведением, юридическая психология остается психологической дисциплиной - ее теоретическая основа состоит в закономерностях и особенностях психики человека; специфично лишь приложение , учет и использование этих закономерностей и особенностей человеческого поведения (выделено нами): юридическая психология рассматривает их применительно к сфере правовой регуляции» [3]. Такое определение предмета научных изысканий уже полностью закрепляет за юридической психологией статус прикладной дисциплины, что отражено и в окончательном определении ее предмета: «юридическая психология исследует и систематизирует психологические основы правотворческой, правовоспитательной, правоприменительной, правоохранительной и пенитенциарной деятельности».
Другая группа авторов считает, что юридическая психология имеет свой специфический предмет как сложившаяся или, по крайней мере, активно формирующаяся область научного знания. Так Костицкий М.В., тщательно проанализировав различные определения предмета юридической психологии, имеющиеся в литературе, приходит к выводу, что она изучает «психологию государственно-правовых явлений как целостность, в которой нельзя отделить юридическое от психологического». Здесь обоснованием специфичности предмета юридической психологии является указание на простое системное правило, что целое всегда больше простой суммы составляющих его частей, а, следовательно, является уже некой новой организацией (системой, с точки зрения системного подхода), существующей по своим законам и требующей отдельного изучения, в данном случае -специальной науки.
В юридической психологии примером системного подхода в определении ее предмета может являться определение Романова В.В.: «предметом юридической психологии являются различные явления психики, индивидуально-психологические особенности личности участников правоотношений, вовлеченных в сферу правоприменительной деятельности, социально-психологические закономерности этой деятельности, воздействующей на психику и поведение участвующих в ней людей» [7]. В более лаконичном варианте предмет юридической психологии часто определяют как поведение человека в правовом поле. Предполагается, что можно в общем случае говорить о поведении людей и вне правового поля, что составляет содержание предмета других областей психологии. Хотя, в общем плане, очевидно, никакая отрасль психологии не может исследовать поведение человека вне правового поля, вне правоприменительной деятельности, хотя на этом и не делается акцент кроме как в сфере собственно юридической психологии. Но одного указания на этот акцент, по нашему мнению, совершенно недостаточно для того, чтобы определить предмет самостоятельной теоретической области психологического знания. Чтобы обойти этот вопрос, более осторожное крыло исследователей и указывает на исключительно прикладной характер юридической психологии. Но, вероятно, возможен и другой путь. По нашему мнению, определению предмета юридической психологии не достает теоретико-психологического анализа специфики поведения человека в сфере правоприменительной деятельности, в правовом поле. Необходимо определить те устойчивые изменения поведения человека, которые возникают под действием применения к нему правовых норм. Таким образом, при определении предмета юридической психологии на первый план должно выступить некоторое измененное поведение человека в условиях применения к нему норм права.
По мысли М.И.Еникеева к юридической психологии относятся исследования «особенностей поведения человека в системе жесткой соционормативной регуляции - в системе права» [7]. Но далеко не всякую соционормативную регуляцию поведения человека в системе права следует называть жесткой. Жесткой правовая регуляция становится, очевидно, только в ситуациях запретов, содержащихся в нормах права. Жесткой ее можно было бы назвать именно в пенитенциарной психологии. В этом случае психологически возникает противоречие между внутриличностными морально-нравственными установками и положениями правовых норм. А, следовательно, возникшая психологическая ситуация, в которой развивается поведение, становится в той или иной степени экстремальной для ее участников. Эта экстремальность редко бывает ситуативной. В пенитенциарной психологии она превращается в экстремальность условий жизнедеятельности (ЭУЖД) [8], в которых и осужденные и сотрудники проводят существенную часть своей жизни. Эти условия ведут к изменению личности и поведения человека, Научно-психологическое изучение и систематизация этих условий как ЭУЖД - детерминант личностных изменений, иногда необратимых, что может выражаться в глубокой криминализации личности осужденного, или же в профессиональном выгорании и деформации личности сотрудника УИС, представляет еще одну чрезвычайно актуальную проблему современной пенитенциарной психологии. Исследования, направленные на ее решение, в свою очередь, вносят существенный вклад и в определение предмета пенитенциарной психологии. Специфика здесь заключается еще и в том, что условия жизнедеятельности осужденных и сотрудников существенно пересекаются. Как любят повторять осужденные с большим криминальным опытом в беседах с сотрудниками: «это вы - в тюрьме, а мы-то дома». Такая специфика службы ставит новые проблемы профессиональной деформации личности сотрудников, в том числе и их криминализации или же деструктивных изменений в рамках правопослушного поведения, утраты смысла жизни, деструкции мировоззрения, формирования циничных установок и т.д. О неразработанности этой проблемы может свидетельствовать такое до сих пор имеющее широкое хождение мнение некоторых специалистов, что сравнительный анализ личности сотрудников и осужденных непозволителен не только по моральным, но и по научным соображением, т.к. нет единого основания для сравнения. Эта квазинаучная установка уходит своими корнями в историю пенитенциарной науки 30-х – 50-х годов 20 века, когда осужденный негласно не считался полноценным человеком. Напротив, такие исследования совершенно необходимы и, прежде всего, для определения именно предмета пенитенциарной психологии, но в настоящее время проводятся крайне недостаточно. Это еще одна актуальнейшая проблема современной пенитенциарной психологии – исследование и классификация общих оснований сравнительного анализа личности сотрудника и осужденного. Одним из таких оснований может быть экстремальность УЖД. И те, и другие находятся в ЭУЖД, но по-разному. В другой работе нами была предложена психодинамическая классификация ЭУЖД для разных по закрытости социальных систем как объектов изучения в пенитенциарной психологии [10].
В основу классификации ЭУЖД положено совместное действие двух повышающих экстремальность факторов – интенсивности внешнего контроля поведения и интенсивности внутреннего ощущения социальной закрытости и также принятия наложенных ею запретов.
Классификация типов испытуемых по двум критериям
Таблица 1
|
Высокая степень внутри-личностной ответственности за нарушения установленных правил закрытости УЖД |
Низкая степень внутрилич-ностной ответственности за нарушения установленных правил закрытости УЖД |
|
|
Высокая степень внешнего контроля за нарушениями правил социальной закрытости учреждения |
Курсанты первого курса |
Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях УИС |
|
Низкая степень внешнего контроля за нарушениями правил социальной закрытости учреждения |
Сотрудники, несущие службу в исправительных учреждениях УИС |
Курсанты четвертого курса |
Можно привести пример формирования исследовательской выборки по предлагаемой схеме: курсанты первого курса в системе обучения в уголовно-исполнительной системе принимают внешние запреты, т.к. еще не умеют их обходить там, где это возможно, и не напрягаться при исполнении там, где это невозможно. Кроме того, они подвергаются более жесткому внешнему контролю.
Курсанты четвертого курса в меньшей степени подвержены внешнему контролю, и гораздо менее ответственны за соблюдения правил закрытости системы.
Осужденные по определению не отягощены внутренним чувством ответственности, всегда готовы нарушить любое правило, если могут надеяться, что не будут пойманы. Однако они находятся в ЭУЖД с самой высокой степенью внешнего контроля, установленного правилами режима.
Наконец сотрудники одинаково подвержены и внешнему и внутреннему контролю. Это уже не курсанты и понимают личную ответственность службы, хотя и исходя из возможных последствий любых нарушений закрытости системы. Кроме того, система законов и приказов, внутренних распоряжений существенно ограничивает их внешне.
Такая комплексная типология ЭУЖД позволяет, в частности, понять и такие парадоксальные с общепсихологической точки зрения факты, что по ряду психологических характеристик психических состояний личность сотрудника выглядит гораздо более деформированной, более проблемной, чем личность осужденного [8]. Это объясняется высокой вну-триличностной ответственностью, высоким уровнем личностного принятия и переживания ответственности.
Очевидно, что при таком (психодинамическом, по существу1) подходе можно строить разные классификации ЭУЖД, меняя входные критерии вертикального и горизонтального входа в таблицу. Эта еще малоисследованная проблема, которую можно сформулировать как проблему глубинного анализа и психодинамики личности и поведения в ЭУЖД, определенных пенитенциарной системой, является следующей важнейшей по своей актуальности. О психодинамике личности как следующей актуальной проблеме современной пенитенциарной психологии речь здесь идет как с современной, так и с классической точек зрения. Вообще психодинамический обозначает лишь частный случай глубинного подхода (наряду с экономическим и топографическим), описывающего психические феномены не в статическом, а в динамическом аспекте – как результат столкновения и сложения бессознательных влечений [5]. Эти бессознательные влечения могут порождаться внешними факторами, например, по типу таких, которые приведены выше в таблице, или интрапсихическими столкновениями противоборствующих побудителей к той или иной деятельности. Отличие современной психодинамики заключается в том, что она не сводит эти побудители к какой-либо одной узкой сфере, как это делали представители глубинной психологии (агрессивность и сексуальность у З.Фрейда, архетипы у К.Юнга, стремление к власти у А.Адлера). Мы в соответствующей работе предложили более широкое толкование психодинамики [8], когда всякое психическое проявление, состояние, свойство или процесс можно рассматривать как энергетически заряженное и запускающее то или иное поведение. Так психодинамически могут изучаться и когнитивные процессы, например в психоэнергетическом противостоянии анализа и синтеза, обобщения и конкретизации и т.д. Также и эмоции, и воля [8].
С другой стороны , наличие общности пространства и времени ЭУЖД у осужденных и сотрудников порождает и особенности сходства и различия психодинамики личности тех и других, что необходимо учитывать при решении такой наиболее актуальной современной проблемы пенитенциарной психологии как разработка научно-теоретических основ построения систем исправления осужденных, их ресоциализации, оказания им психологической помощи в процессе возвращения их к правопослушной жизни. Одной из попыток решения этой проблемы является предложенный В.М.Поздняковым субъектно-соучаст-вующий подход, суть которого состоит «в полноценном учете социокультурных оснований со-участной (даже в условиях мест лишения свободы) жизнедеятельности людей, а также развитии у отбывающих наказания просоциальной субъектной активности» [4].
В общем, проблема ресоциализации осужденных должна опираться на теоретические исследования тех основных деструктивных изменений личности осужденного, которые в первую очередь могут быть подвергнуты эффективной психокоррекции и психотерапии. Здесь становится понятным внимание современной пенитенциарной психологии к психодинамике и глубинному подходу, т.к. именно это общепсихологическое направление основано в первую очередь на теоретических исследованиях именно процессов психотерапии и психокоррекции личности, т.е. фактически имеет дело с деструкциями личности, в том числе и криминального плана.
Далее следует сказать о таких более частных, но не менее актуальных проблемах пенитенциарной психологии, которые определены как современной спецификой ее объекта, т.е. особенностями личности осужденного и сотрудника, так и социальным запросом к исследованию психологических механизмов преступного поведения осужденных. Это проблема исследования психологии и психодинамики личности осужденных за тяжкие преступ- ления, представляющих особую социальную опасность, в том числе террористического, экстремистского и экономически-коррупционного плана, психология насильников, убийц, других тяжких преступлений против личности и жизни человека. Чрезвычайно важной и актуальной является также проблема исследования социально-психологических причин омоложения современной преступности в России, а также роста женской преступности, которая за последние 10 лет резко возросла, в процентном отношении - в два раза. Все это можно сформулировать как такую весьма актуальную проблему пенитенциарной психологии как глобальное изменение психологического портрета современного осужденного в России. Эта проблема важна еще и потому, что многие подходы совсем, казалось бы, недавней пенитенциарной психологии устаревают только потому, что мы имеем дело уже с совершенно другими по своей психологии осужденными. Остановимся здесь кратко на трех основных направлениях исследований в современной пенитенциарной психологии: психологии (причин) молодежной преступности, психологии (причин роста) женской преступности и психологии вовлеченных в террористическую деятельность.
Как нами уже было показано в ряде других публикаций, важнейшими причинами роста современной молодежной преступности является развал образовательной системы и связанный с ним скачкообразный рост вовлечения молодежи в субкультурные движения. В настоящее время молодежные субкультуры различных слоев Российского общества, а также складывающиеся в различных учебных и иных учреждениях, обретают все большее влияние на развитие современного молодого человека. Это влияние может принимать опасные формы в случаях криминализации или криминоподобности складывающихся в тех или иных субкультурах молодежи отношений, на что, в настоящее время обращают внимание многие авторы [9].
С этой точки зрения изучение психологических механизмов формирования мировоззренческих установок и индивидуально-психологических особенностей молодых людей в современных условиях воспитания и развития в России является чрезвычайно важной исследовательской задачей, решение которой позволит дать ответы на вопрос о тех средовых (семейных, учебных, социальных... и др.) и об индивидуально-психоло-гически-личностных детерминантах, которые лежат в основе формирования психологии современного молодого человека в пространстве социокультурных и субкультурных влияний, в частности и той «субкультурной» психологии, которая приводит его в места лишения свободы.
Важными видовыми отличиями именно субкультурных форм поведения от всех других (социокультурных, религиозных, ритуальных, например) являются, на наш взгляд, следующие особенности этих (именно субкультурных) стереотипов:
-
• принципиальная протестность этих поведенческих проявлений, подчеркивающая отличительность представителя субкультуры. Эта протестность может носить более агрессивный (все несидевшие - лохи, их можно грабить, обманывать, даже убивать - тюремная субкультура, или скинхеды, то же самое говорящие об инородцах; менее агрессивны футбольные хулиганы, они призывают всего лишь бить чужих болельщиков, и т.д.) или менее агрессивный характер, когда неуважительное отношение к представителям других слоев общества или других субкультур сводится всего лишь к выразительному «фи», как у готов или «поэтов». Иногда эта протестность принимает аутоагрессивные формы - суицидальную направленность (ЭМО, реже - готы). Эта протестность, как мы покажем ниже, является «битвой» молодежи за личное пространство, естественно, битвой с ветряными мельницами, т.к. никто не ограничивает их личное пространство в области культурных проявлений (учебе, спорте, т.д.);
-
• обязательная обостренность ощущений, порождаемая в результате реализации субкультурных стереотипов в поведении. Субкультурное общение направлено именно на обострение ощущений и переживаний. С этой точки зрения можно также ввести простой критерий субкультуры в отличие от культуры. Субкультурные отноше-
- ния возникают там, где обычные ощущения и переживания гипертрофируются, доводятся до высокого уровня психического разогрева посредством многих социальных отражений в среде единомышленников.
В специальных исследованиях нами ранее было показано [9], что все основные признаки криминальной субкультуры имеют место быть и в неформальных субкультурных объединениях молодежи в обычной жизни, в сферу влияния которых попадает практически каждый молодой человек, но в разной степени. В чем же смысл этого сделанного молодым человеком шага? Что приобрел он, попав в сферу субкультурных влияний.
Еще раз обратимся к криминальной субкультуре как наиболее полной модели и посмотрим, какой социально-психологический климат там имеет место. Специалисты определяют такие его черты:
-
1. Жестокость (бесчеловечность, антигуманность, садизм, озлобленность, жестокосердие, безжалостность, беспощадность, бессердечие, изуверство) по отношению к слабым и беззащитным, отсутствие чувства сострадания к ним. Думаю, не нужно доказывать наличие всего этого в нынешних свободно развивающихся молодежных субкультурах.
-
2. Нечестность (лицемерие, двурушничество, обман, мошенничество) в отношении к посторонними для группы лицам, а также в отношении "верхов" к "низам". Это в криминале. А теперь в обычной жизни. Статья в «Комсомольской правде», где-то год назад: «Я - гот, еду в электричке, в черном и белом, читаю Байрона. А вокруг эти все, старики какие-то, кроссворды разгадывают. Это же не люди. Их не должно быть» и т.д. Про дальнейший переход к ликвидации... нас с Вами... я уже сказал.
-
3. Освященный традициями уголовной среды паразитизм , стремление жить за счет других (как чужих, так и членов своей группы, стоящих на низших ступенях иерархии, путем вымогательства и поборов). Это о криминале. Но именно это стало основным отличием молодежных субкультур. Вспомним их дефицитарные потребности. Ни денег, ни друзей, ни близких, ни книг. Только личного пространства и острых ощущений надо искать.
-
4. Вандализм - склонность к бессмысленным разрушениям материальных ценностей. Здесь, я думаю, комментарии излишни, что касается представителей молодежных субкультур в современном Российском обществе. Достаточно практически в любом вузе, в любой аудитории посмотреть, какими словами и какими рисунками расписаны парты.
Общий вывод таков. Любая молодежная субкультура является слепком криминальной (тюремной) субкультуры, но, справедливости ради, надо добавить: в той или иной степени. В контексте этой статьи для нас важен следующий вывод. В предмет пенитенциарной психологии должны входить и препенитенциарная профилактика, основанная на исследовании криминальной деструктивности личности, которая еще не привела к преступлению, но сравнительные (с осужденными) данные позволяют делать вывод о серьезной социальной опасности того или иного человека или группы лиц. Мы говорили о таких исследованиях молодых людей, теперь коснемся более взрослых, которые представляют собой благодатную почву для вовлечения в террористическую деятельность.
Для повзрослевшего молодого человека, испытавшего мощное воздействие в поле субкультурных влияний, характерны, если очень кратко, такие выявленные нами изменения личности, как деформации структуры самоотношения, гипертрофированное развитие защитной сферы личности, снижение толерантности. При этом общая черта социально-психологического портрета современной молодежи – характерный запрос к обществу – личного пространства и острых ощущений [9]. Существуют и другие, более специальные. Так, например, молодые люди, осужденные за бандитизм и организованную преступность, отмечают существенное лишение друзей и внимания близких. То, что не дало общество, они нашли в банде. Молодые осужденные женщины отмечают лишения сладкого и также внимания близких. Эти представители молодежи, минуя растление субкультурой, сразу стали на путь преступления, чтобы получить то, что им не дала семья и образовательная система. Но вернемся к общей массе молодых людей.
Итак, следующий шаг молодого человека, вступающего в зрелость. С чем он пришел. Как мы попытались показать, пришел он с крайней формой социального отчуждения, неприятия общечеловеческой, мировой, национальной культуры, с минимумом образования (по чьим-то подсчетам нынешняя молодежь читает в 30 раз меньше, чем в СССР). Что же есть это социальное отчуждение современного молодого человека?
Здесь уместно будет привести результаты эмпирических исследований особенностей личности и психодинамики осужденных за террористическую деятельность. В результате обобщения эмпирических результатов, нам удалось описать общие черты их личности. Когда мы же сравнили полученные результаты с исследованиями молодежи, то были поражены имеющимся сходством.
Первое, на что следует обратить внимание, это крайняя внутренняя противоречивость личности террориста, которая проявляется буквально во всем. Это человек, который внутренне никогда не находится в мире с самим собой и окружением. Если он гордится своей национальностью, то одновременно находится в войне с собственным народом. Пытаясь объяснить свое поведение религиозной догматикой, он самым грубым и греховным образом нарушает самые ее основы (наркотики, блуд, алкоголь – вспомним «Норд-Ост»). Если он считает себя борцом за социальную справедливость, то одновременно позиционирует себя против общества. Характерно, что средний возраст осужденного за террористическую деятельность это 29-30 лет. Они никак не вписываются в общую тенденцию омоложения современной преступности. Далее, террорист в среднем лучше образован, чем обычный преступник (гораздо чаще имеет среднее специальное, в четыре раза чаще, чем другие осужденные, имеет высшее образование), но при этом категорически не хочет повышать уровень своего образования. Точно так же, имея специальность и возможность трудиться, он категорически отказывается это делать. Явно чувствуется чья-то воля по отбору молодежи в террористическое движение. Зеленых, не слишком умных и плохо образованных не берут. Оглянувшись вокруг, легко видеть, что указанная выше глубокая внутренняя противоречивость личности характерна для многих окружающих нас молодых людей, вступающих в зрелый возраст, не желающих работать и повышать уровень образования. Вот она – социальная база терроризма.
Вторая обобщенная черта личности террориста - это внутренний запрет на социально ожидаемые формы общения и деятельности , который представляет как бы оборотную сторону внутренней противоречивости личности. Мы назвали эту личностную особенность «крайняя психосоциальная изоляция». А теперь можно и задуматься, а не к тому ли ведут нашу молодежь современные субкультуры. Некоторые примеры (самоизоляция гота или трассера и др.) я привел выше.
Третья обобщенная черта личности террориста - это его «принципиальная де-социализированность». Если обычный преступник десоциализирован в обществе, то террорист десоциализирован везде. В тюрьму он попадает сложившейся личностью, прекрасно понимая, что он совершил. Выходя на волю, террорист попадает в ту среду, где он и сложился как личность (так и хочется сравнить с милой сердцу молодого человека субкультурой). Одна десоциализация сменяется другой.
Итак, террористов отличает высокая вероятность сочетания всех трех перечисленных особенностей в их крайней выраженности. Для них это типичный комплекс черт (см. «Подсознание террориста» под ред. Д.В.Сочивко).
Однако, заметим, что для вовлечения в террористическую деятельность, как показали наши исследования, необходим еще и возраст и хоть какое-то образование. Молодых и глупых не берут. Кто не берет? Боюсь, мы этого никогда не узнаем. А кого берут? - Того, кто по психологическим характеристикам готов к участию в террористической деятельности. А базой для этого и является та социальная отчужденность, которая, как мы пытались продемонстрировать, формируется при неспособности современной образовательной системы дать ответ на внутренние запросы молодежи, которые сложились в результате неадекватных действий этой системы в более раннем возрасте.
Совпадение личностных профилей представителей субкультур и средних исполнителей, вовлеченных в террористическую деятельность, поражает даже при самом поверхностном анализе результатов. Первичная социальная отчужденность перерастает в глубокую внутриличностную противоречивость, психоизоляцию и десоциализацию. В конце концов, не возьмут в террористы, есть еще много криминальных возможностей.
Схожим, но несколько более специфичным является и механизм роста женской преступности. Здесь также различия структуры самоотношения у осужденных мужчин и женщин, его реальной психодинамики являются той стержневой составляющей, что определяет весь комплекс гендерных различий психологических свойств личности. Роль самоотношения в структуре личности осужденного актуализирована, т.к. совершенное преступление, последующее осуждение и наказание как юридическое (лишение свободы), так и психологическое (совестливые терзания) оказывают самое существенное влияние именно на самоотношение. В местах лишения свободы человек вынужден пересмотреть свою жизнь: оценить прошлое (раскаяться или утвердиться в нем), адаптироваться в настоящем и выстроить планы на будущее. Как подчеркивал А.Р. Ратинов, «осужденный - это уже не тот человек, который совершил преступление, ибо само преступление наложило отпечаток на его психику, он пережил процедуру судопроизводства, испытал массу противоречивых воздействий в исправительнотрудовой колонии» [6]. Это замечание очень важно для того, чтобы удерживаться в рамках предмета именно пенитенциарной психологии.
На фоне этих общих изменений в самоотношении осужденного существуют и специфические гендерные изменения. А.И. Ушатиков и Б.Б. Казак пишут: «Итак, личность осужденных женщин обладает целым рядом отличительных-демографических, нравственных, уголовно-правовых и психолого-педагогических признаков. Нарушение первичных социальных связей, положительного семейного эмоционального контакта способствует возникновению и развитию у них нервно-психических аномалий, в свою очередь обладающих немалым криминогенным потенциалом.
В большей части осужденные женщины перенесли те или иные жизненные катастрофы, связанные с высокой тревожностью, вызванной отчуждением в семье и в окружающих их» [11].
Согласно нашим предположениям, весь многосоставной и сложный комплекс изменений интегрируется в структуре личности в процессе самоидентификации осужденного в местах лишения свободы, которая носит прежде всего гендерный характер. С теоретической точки зрения это означает, что комплекс изменений, которые проходит личность в период адаптации к местам лишения свободы, затрагивает наиболее глубинные ее архетипические слои и, прежде всего, архетип «мужественности-женственности». Поэтому так велика в тюремной субкультуре значимость адекватного
(традиционного) сексуального поведения. Поэтому субкультурная стратификация мужского типа в качестве низшей касты определяет именно феминизированных личностей («девки», «рабочие девки», они же опущенные, обиженные). Женский гендерный стереотип в местах лишения свободы ориентирован в силу тюремной субкультуры на архетип мужественности в качестве высшей страты - имеющих неформальную власть осужденных женщин. «Высокие значения самопривязанности говорят о ригидности Я-концепции, нежелании меняться на фоне общего положительного отношения к себе. Данные переживания часто сопровождаются привязанностью к неадекватному Я-образу. В последнем случае тенденция к сохранению такого образа - один из защитных механизмов самосознания» [11]. Как нам представляется, именно этот последний случай характерен для осужденных женщин. Удивительным, однако, представляется факт, что эта привязанность к неадекватному Я-образу сопровождается наличием самообличающего фактора, что сопряжено с осознанием этой неадекватности. В этом заключается парадоксальность у осужденных женского самоотношения: более высокое самопринятие на фоне развитого самообличения (на уровне внутреннего диалога: «Такая вот я сволочь»).
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что детализированный анализ самоотношения осужденных с применением гендерного подхода открывает широкие возможности понимания глубинных процессов самоидентификации личности в местах лишения свободы, что в свою очередь является научно-обоснованной платформой построения программ воспитательной и психокоррекционной работы с осужденными.
В целом, с теоретических позиций следует предположить, что процесс гендерной самоидентификации осужденных в местах лишения свободы имеет двухкомпонентную структуру: общее изменение психологической структуры самоотношения и его внутри-личностных связей и влияний в целостной структуре личности осужденного. И характерное гендерное изменение самоотношения мужского и женского типа.
* *
-
1. Васильев В.Л. Юридическая психология. - СПб., 1997.
-
2. Еникеев М.И., Кочетков О.Л. Общая, социальная и юридическая психология. - М., 1997.
-
3. Еникеев М.И. Структура и система категорий юридической психологии. - Автореф. докт. дисс. -М.,1996.
-
4. Поздняков В.М. Психология просоциального со-участвования осужденных в местах лишения свободы // Прикладная юридическая психология. - № 1, 2007 .
-
5. Психоаналитические термины и понятия: Словарь /Под ред. Борнесса Э. Мура и Бернарда Д. Фаина /Перевод с англ. А. М. Боковикова, И. Б. Гриншпуна, А. Фильца. - М., 2000.
-
6. Ратинов А.Р. Психология личности преступника. Ценностно-нормативный подход // Личность пре-
- *
-
7. Романов В.В. Юридическая психология. - М.,1998.
-
8. Сочивко Д.В. Психодинамика. - М.: МПСИ, 2007.
-
9. Сочивко Д.В., Полянин Н.А. Молодежь России: образовательные системы, субкультуры, исправительные учреждения. Издание 2-е. - М.: МПСИ. 2010.
-
10. Сочивко Д.В., Савченко Т.Н., Головина Г.М. Субъективное качество жизни в различных по характеру социальной закрытости социумах // Прикладная юридическая психология. - № 4. 2010.
-
11. Ушатиков А.И., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология: Учебник.- 2-е изд., перераб. и доп. – Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2003. – С. 135
ступника как объект психологического исследования. - М., 1979
Список литературы Актуальные проблемы современной пенитенциарной системы и методологии ее изучения
- Васильев В.Л. Юридическая психология. - СПб., 1997.
- Еникеев М.И., Кочетков О.Л. Общая, социальная и юридическая психология. - М., 1997.
- Еникеев М.И. Структура и система категорий юридической психологии. - Автореф. докт. дисс. - М.,1996.
- Поздняков В.М. Психология просоциального соучаствования осужденных в местах лишения свободы // Прикладная юридическая психология. - № 1, 2007. EDN: KXQEAL
- Психоаналитические термины и понятия: Словарь /Под ред. Борнесса Э. Мура и Бернарда Д. Фаина /Перевод с англ. А. М. Боковикова, И. Б. Гриншпуна, А. Фильца. - М., 2000.