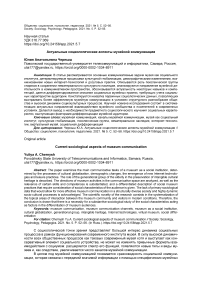Актуальные социологические аспекты музейной коммуникации
Автор: Черныш Юлия Анатольевна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные коммуникативные задачи музея как социального института, детерминируемые процессами культурной глобализации, демографическими изменениями, возникновением новых интернет-технологий и досуговых практик. Описывается роль поколенческой группы стариков в сохранении нематериального культурного наследия, анализируются направления музейной деятельности в коммуникативном пространстве, обосновывается актуальность некоторых навыков и компетенций, дается дифференцированное описание социальных музейных практик, требующих учета социальных характеристик аудитории. Констатируется нехватка первичных социологических данных, позволяющих выстраивать более эффективную музейную коммуникацию в условиях структурного разнообразия общества и высокой динамики социокультурных процессов. Научная новизна исследования состоит в систематизации актуальных направлений взаимодействия музейного сообщества и посетителей в современных условиях. Делается вывод о необходимости предметного социологического изучения социальных характеристик, выступающих факторами дифференциации музейной аудитории.
Музейная коммуникация, каналы музейной коммуникации, музей как социальный институт, культурная глобализация, поколенческая группа, нематериальное наследие, интернет-технологии, виртуальный музей, социальная дифференциация
Короткий адрес: https://sciup.org/149133628
IDR: 149133628 | УДК: 316.77:069 | DOI: 10.24158/spp.2021.5.7
Текст научной статьи Актуальные социологические аспекты музейной коммуникации
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара, Россия, ,
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics, Samara, Russia, ,
С социологической точки зрения представляет большой интерес динамика социальных процессов в рамках функционирования современного института музея. В силу высокой динамичности всех общественных процессов как таковых современный музей хотя и выступает как консервативный элемент социального устройства, не может не изменять привычные форматы взаимодействия с социумом: расширяется спектр его функций, появляются новые типы и виды музеев и, как следствие, увеличивается число каналов музейной коммуникации.
В целом под музейной коммуникацией понимается «разновидность социальной коммуникации, которая связана с передачей значимой информации с помощью специфических музейных форм и каналов (музейный предмет, музейное пространство, музейная экспозиция, выставка)» [1, с. 43]. Согласно традиционной схеме, предложенной канадским музеологом Д. Камероном, процесс музейной коммуникации включает три элемента: адресант (музейный работник) – музейные предметы – адресат (посетитель) [2, с. 82]. При этом сегодня многие авторы трактуют роль современного посетителя музея в активно-субъектном ключе – как полноправное действующее лицо, участвующее в создании новых смысловых формул восприятия музейной экспозиции [3].
Посетитель как субъект музейной деятельности может рассматриваться и в качестве отдельного индивида, и как устойчивая социальная группа, чьи характеристики и поведение подчиняются определенным социальным нормам. Рассмотрим несколько дифференцирующих факторов, детерминирующих вариативность целей, принципов и каналов музейной коммуникации в зависимости от того, на кого она направлена.
Одним из субъектов взаимодействия в рамках музейной коммуникации является поколенческая группа. В силу особенностей текущей демографической ситуации – увеличения удельного веса стариков –представляется целесообразным начать с этой возрастной группы. Е.Н. Масте-ница называет три формы музейной коммуникации, где люди пожилого возраста могут участвовать в ретрансляции культурного наследия [4]. Во-первых, это научно-экспозиционная интерпретация, предполагающая, что люди пожилого возраста, будучи живыми свидетелями исторически значимых событий и носителями соответствующих знаний (того, что в качественной методологии именуют «устной историей»), могут значительно повысить качество транслируемой музейной информации, выступая в роли консультантов. « Создавая музейные реконструкции бытовых интерьеров, мемориальных экспозиций, сотрудники также могут в качестве экспертов приглашать ветеранов и пенсионеров как свидетелей» [5, с. 37].
Вторая форма музейной коммуникации – культурно-образовательная деятельность, где старшее поколение задействуется как носитель культурных традиций. Иными словами, с помощью поколенческой группы стариков воспроизводится нематериальное музейное наследие (старинные песни и сказы, ритуалы, традиционные ремесла и т. п.). Этот аспект представляется очень важным именно в современных условиях, поскольку тенденции глобализации породили небезосновательные опасения утраты национальной специфики и, как следствие противодействия этим процессам, многие музеи активно внедряют в экспозиции элементы реконструкции социально-бытовых и культурных процессов прошлого (фольклорные ансамбли, действующие трактиры и ремесленные мастерские, демонстрация традиционных обрядов и др.). В целом здесь люди старшего возраста выступают в роли связующего звена между музейными сотрудниками и аудиторией.
Третья форма музейной коммуникации с участием представителей старшего поколения – это вербально-визуальная трансляция, куда входит работа с объектами и материального, и нематериального наследия. «Она включает в себя сбор и сохранение информации об объектах наследия, зафиксированных на разных носителях, а затем дальнейшую передачу, т. е. трансляцию, этой информации в вербально-визуальной форме» [6, с. 37]. Иными словами, пожилые люди могут передавать музеям имеющиеся у них предметы прошлых эпох, а также выступать в качестве свидетелей, т. е. источника информации, которая будет записана, тщательно задокументирована и, как вариант, представлена далее в музейной экспозиции в виде текстовых заметок. Учитывая, что тексты как таковые (например, таблички к экспонатам) служат традиционным каналом музейной коммуникации, подобный формат передачи знаний можно считать опосредованной формой взаимодействия поколений, обеспечивающей более эффективную историкокультурную и духовную социализацию молодых поколений.
В целом возрастные группы детей и молодежи являются сейчас для музейных работников одной из приоритетных аудиторий. Очевидно, что в условиях сегодняшнего мозаичного культурного пространства с преобладанием развлекательного контента увлечь детей академической музейной средой крайне проблематично. В работе Г.И. Воробьевой с соавторами говорится о том, что современные «музейные программы адаптируются к образовательной программе в школах, включая в себя нетрадиционные для музея виды: игры, мастер-классы, квесты» [7, с. 93]. Сюда же можно отнести интерактивные экскурсии, викторины, театрализованные формы общения, т. е. все те форматы взаимодействия с детско-молодежной аудиторией, которые объединяют в себе познавательные и досугово-развлекательные элементы.
Если рассматривать в контексте музейной коммуникации взрослую аудиторию, то обращает на себя внимание отсутствие у музейных работников четкого понимания ее специфики и предпочтительных форматов взаимодействия. Личный опыт автора за последние годы включает посещение нескольких десятков музеев (около 50) в разных регионах России, от Эрмитажа до сельских учреждений. В большинстве случаев визит сопровождался экскурсией, т. е. представляет собой самый привычный формат социальной коммуникации «посетитель – музейный работ- ник». По итогам включенного наблюдения и бесед с другими экскурсантами приходится констатировать, что, за редким исключением, сотрудники музея, выступающие в роли экскурсовода, используют монологичный вариант трансляции музейной информации, т. е. выбирают субъект-объектную форму взаимодействия с посетителями. Возможно, это объясняется большим количеством школьных организованных групп и, как следствие, необходимостью максимально реализовывать образовательно-воспитательную функцию с привлечением дидактических приемов, однако для людей других возрастных категорий такой формат малоприемлем и вызывает явное неудовольствие. Диалог как форму субъект-субъектного взаимодействия нужно рассматривать как стратегический ориентир в развитии музейной коммуникации.
Другой социальный признак, по которому можно структурировать музейную аудиторию для выстраивания дифференцированных каналов коммуникации, – мотивационные предпочтения при посещении музеев. В научной литературе можно найти перечень мотивов [8, с. 93], но фактически нигде нет социологических данных процентного распределения посетителей в зависимости от мотивации. До сих пор отсутствует аргументированное научное объяснение высочайшей посещаемости выставки В.А. Серова в Третьяковской галерее в конце 2015 – начале 2016 г. По словам директора этого музея З.И. Трегуловой, выставку посетили около 440 тысяч человек, что является абсолютным рекордом в истории выставок русского искусства за последние 50 лет [9]. Таким образом, с социологической точки зрения вопрос мотивации посещения музеев россиянами представляется очень актуальным. Можно только предположить, что одним из ведущих мотивов сегодня является статусное потребление, куда входит и культурный продукт. То, что в настоящее время музей как социальный институт сохраняет высокий статус в обществе, наглядно демонстрирует динамика показателей посещаемости музеев в последние годы: по данным ВЦИОМ за 2020 г., подавляющее большинство граждан (89 %) бывали в музее в последние годы [10]. Для сравнения, по результатам опроса ФОМ 2014 г., никогда не посещали музей 30 % населения [11].
Активное внедрение в жизнь цифровых технологий не могло не сказаться и на социокультурной сфере. С одной стороны, новые технические возможности априори предполагают, что их нужно активно применять на практике, в том числе в музейной академической среде. С другой стороны, посетители музеев как пользователи цифровых технологий и устройств сами транслируют новые потребности в рамках увеличения вариантов взаимодействия между ними и музеями. Все это предусматривает необходимость активизации музеев в виртуальном пространстве ин-тернет-коммуникации.
Нельзя не заметить, что развитие интернет-коммуникаций в музейной среде значительно увеличило число потенциальных посетителей, поскольку виртуальный формат коммуникации делает возможным знакомство с музейными экспонатами для тех, кто фактически был лишен этого прежде: маломобильных граждан, жителей территориально удаленных населенных пунктов, в которых нет музейных объектов, и т. д.
В опросе Фонда общественного мнения, проведенном в 2014 г. и посвященном музейным практикам россиян, респондентам, не посещающим музеи, задавался открытый вопрос: «Почему вы не любите посещать музеи?» [12]. Помимо вариантов «это скучно и бессмысленно», «пыльные экспонаты, сонные экскурсоводы» и других ответов, свидетельствующих об отсутствии мотивации как таковой, обращает на себя внимание ряд озвученных причин, которые легко устраняются при наличии музейной интернет-коммуникации: отсутствие в музеях чего-то нового и интересного («там нового мало, чего туда часто ходить? Уже все видел в Обнинске»); отсутствие времени на посещение в силу рабочих или семейных обязанностей; физические ограничения из-за возраста и/или здоровья; нелюбовь к скоплению людей, боязнь толпы; нехватка средств на поездку в музей. Очевидно, что все перечисленные факторы нивелируются, если у потенциального потребителя есть доступ в Интернет и существует разработанный виртуальный музейный контент с бесплатным доступом.
Отдельно нужно сказать о такой социальной группе, как инвалиды. Так, в работе Т.Е. Максимовой виртуальный музей рассматривается как новый инструмент их социокультурной социализации и реабилитации [13]. Помимо самой возможности посетить музей онлайн не выходя из дома и общения с единомышленниками на площадках музейных форумов, главной ценностью виртуальных музеев можно считать то, что в них «может применяться различное программное обеспечение, включая специально разработанное для людей с ограниченными возможностями здоровья: программы экранного увеличения, тифлотехнические средства, звуковые файлы и т. д.» [14, с. 124].
В целом, по данным ВЦИОМ на весну 2020 г. [15], 82 % россиян знали о возможности виртуального посещения музеев, а 32 % имели об этом подробную информацию. Даже в сельской местности почти три четверти населения (74 %) слышали о подобном формате знакомства с музейными экспозициями и самим музейным пространством. Возможно, такой высокий уровень ин- формированности граждан отчасти связан с существовавшим на тот момент режимом самоизоляции, в условиях которого продвижение различных онлайн-ресурсов, в том числе музейных, шло гораздо активнее. Косвенно это подтверждают другие данные того же опроса: на вопрос о примерном времени первого виртуального посещения музея 57 % ответили «апрель-май
2020 г.», а варианты «2019 г. и ранее» суммарно набрали 28 %.
Нужно отметить, что в современных условиях, т. е. при наличии интернет-технологий, процесс выстраивания коммуникации с посетителями может начинаться задолго до создания нового музея. Например, в 2022 г. в Самаре планируется открытие филиала Государственной Третьяковской галереи. Однако сразу же, с момента его официального учреждения в августе 2019 г., руководство самарского филиала начало организовывать серии образовательных программ для детей и взрослых, включающих прежде всего лекции по искусствоведению. Данные мероприятия проводятся и вживую (но с предварительной рекламой в социальных сетях), и в интернет-про-странстве на площадках наиболее популярных социальных сетей.
Попутно можно отметить, что филиал ГТГ будет размещаться в здании фабрики-кухни 1932 г. постройки, представляющем собой единственный в мире архитектурный объект в форме серпа и молота. Фабрика-кухня – шедевр конструктивизма, который сам по себе является объектом культурного наследия, поэтому превращение его в музейное пространство многократно расширяет возможности для знакомства с этим памятником архитектуры. Кроме того, под выставочные залы изначально планируется отвести только четверть всей площади здания; все остальное займут резиденции для художников, лекторий, образовательный центр с медиатекой, кинозал, детские площадки и кофейня. Иными словами, инструменты музейной коммуникации будут представлены здесь в большом объеме.
По словам М.Е. Каулен, «для передовых российских музеев всегда было характерно не столько следование за потребностями общества, сколько активное формирование этих потребностей» [16, с. 390]. В связи с этим активную научно-просветительскую деятельность музеев нужно рассматривать как способ не только удовлетворить запросы культурной аудитории на новые актуальные знания, но и привлечь в музейное пространство новых посетителей, возможно, еще ни разу там не бывавших.
Таким образом, анализ музейных практик последних лет демонстрирует тенденцию превращения музеев в сложносоставные культурные объекты, включающие принципиально новые направления деятельности. Увеличение числа функций музея как социального института и расширение количества субъектов музейных практик требуют содержательных изменений в планировании и организации стратегий музейной коммуникации, поскольку теперь они должны учитывать гораздо больший объем социальных признаков и особенностей, характерных для разных социальных групп, выступающих в роли посетителей или участников музейной деятельности. Вследствие этого социальная дифференциация музейной аудитории нуждается в дальнейшем социологическом изучении и может считаться приоритетной задачей в рамках музейной социологии.
Список литературы Актуальные социологические аспекты музейной коммуникации
- Гуриева С.Д., Харитонова Т.Ю. Особенности музейной коммуникации: оправданность ожиданий и удовлетворение эстетической потребности (на примере посетителей музея) // Современные исследования социальных проблем. 2017. Т. 8, № 8-1. С. 41-57. DOI: 10.12731/2218-7405-2017-8-41-58
- Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. М., 2012. 432 с.
- Воротникова Е.Ю. Социокультурные аспекты музейного сервиса // Сервис в России и за рубежом. 2017. Т. 11, вып. 4. С. 35-43. DOI: 10.22412/1995-042X-11-4-3
- Максимова А.С. Развитие подходов к изучению музеев в социальных и гуманитарных науках // Журнал социологии и социальной антропологии. 2019. Т. 22, № 2. С. 118-146. DOI: 10.31119/jssa.2019.22.2.5
- Мастеница Е.Н. Межпоколенная коммуникация в музее как фактор сохранения и трансляции культурного наследия // Ученые записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). 2020. № 2 (24). С. 35-40. 10.32340/2414-9101 -2020-2-35-40. DOI: 10.32340/2414-9101-2020-2-35-40
- Воробьева Г.И., Орфаниди Н.И., Акоева Н.Б. Организация деятельности регионального музея с использованием интерактивных технологий // Культурная жизнь Юга России. 2020. № 4 (79). С. 91-100. Х-2020-4-91 -100. DOI: 10.24412/2070-075
- Ересова В.В. Модернизация музейной коммуникации в условиях общества потребления // Вестник СПбГИК. 2019. № 2 (39). С. 92-96. DOI: 10.30725/2619-0303-2019-2-92-96
- Новикова А. Выставку Серова назвали самой посещаемой русской экспозицией за 50 лет [Электронный ресурс] // РБК. Стиль. 2016. 25 янв. URL: https://style.rbc.ru/impressions/571638349a79472acdb347d4 (дата обращения: 26.05.2021).
- День музеев онлайн [Электронный ресурс]: аналитический обзор // Официальный сайт ВЦИОМ. 2020. 18 мая. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/den-muzeev-onlajn (дата обращения: 26.05.2021).
- Музеи - практики и предпочтения россиян [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФОМ. 2014. 16 мая. URL: https://fom.ru/Kultura-i-dosug/11500 (дата обращения: 26.05.2021).
- Максимова Т.Е. Виртуальные музеи как средство социализации людей с ограниченными возможностями здоровья // Вестник СПбГУКИ. 2015. № 4 (25). С. 123-128.