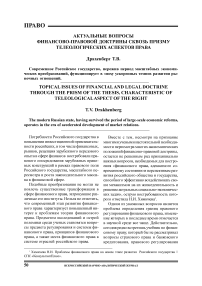Актуальные вопросы финансово-правовой доктрины сквозь призму телеологических аспектов права
Автор: Драхенберг Т.В.
Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3 (24), 2013 года.
Бесплатный доступ
Современное Российское государство, пережив период масштабных экономических преобразований, функционирует в эпоху ускоренных темпов развития рыночных отношений.
Короткий адрес: https://sciup.org/14214562
IDR: 14214562
Текст научной статьи Актуальные вопросы финансово-правовой доктрины сквозь призму телеологических аспектов права
Драхенберг Т.В.
Современное Российское государство, пережив период масштабных экономических преобразований, функционирует в эпоху ускоренных темпов развития рыночных отношений.
TOPICAL ISSUES OF FINANCIAL AND LEGAL DOCTRINETHROUGH THE PRISM OF THE THESIS, CHARACTERISTIC OF TELEOLOGICAL ASPECT OF THE RIGHT
T.V. Drakhenberg
The modern Russian state, having survived the period of large-scale economic reforms, operates in the era of accelerated development of market relations.
Потребности Российского государства в повышении инвестиционной привлекательности российских, в том числе финансовых, рынков, рецепция зарубежного передового опыта в сфере финансов востребовали правового опосредования зарубежных правовых конструкций в рамках правового поля Российского государства, масштабного пересмотра и роста законодательного массива в финансовой сфере.
Подобные преобразования не могли не повлечь существенные трансформации в сфере финансового права, затронувшие различные его институты. Нельзя не отметить, что современный этап развития финансового права характеризует повышенный интерес к проблемам теории финансового права. Предметом исследований и острой полемики среди ученых становятся вопросы предмета регулирования и системы финансового права, принципов финансового права, а также места финансового права в системе отраслей российского права.
Вместе с тем, несмотря на признание многими учеными настоятельной необходимости пересмотра многих аксиоматических положений финансово-правовой доктрины, остается не решенным ряд принципиально важных вопросов, необходимых для построения «финансового права, адекватного современному состоянию и перспективам развития российского общества и государства, способного эффективно воздействовать своим механизмом на их жизнедеятельность и решение актуальных социально-экономических задач», острую востребованность которого отметила Н.И. Химичева1.
Одним из указанных вопросов является проблема определения границ правового регулирования финансового права, изменение которых в последнее время отмечается в научной среде все чаще. Действительно, сегодня редко встретишь учебник по финансовому праву, который бы не рассматривал вопросы страхового права и банковского кредитования, правового регулирования рынка ценных бумаг и инвестиционной деятельности, правовых основ аудита и расчетных отношений.
Однако включение указанных институтов в предмет финансового права вызывает одобрение далеко не всех авторов. Так, с резкой критикой отнесения к предмету финансового права таких институтов, как страхование, банковское кредитование, расчетные отношения, аудит, выступал А.И. Худяков, считая, что «…перечисленные выше отношения (страховые, банковские, расчетные, лизинговые, инвестиционные и пр.) предметом финансового права выступать не могут по следующим основаниям. Во-первых, эти отношения не опосредуют процессов формирования, распределения и использования государственного денежного фонда. Если они и выражают такие процессы, то это касается негосударственных денежных фондов, охватываемых категорией «частные финансы». Во-вторых, субъектом этих правоотношений не выступает государство или государственный орган, что выступает атрибутом финансовых правоотношений. В-третьих, эти правоотношения являются отношениями юридического равноправия сторон, что финансовым правоотношениям не присуще. В-четвертых, все указанные виды отношений регулируются Гражданским кодексом, чью принадлежность к источникам финансового права никто из финансистов не пытается доказать. В-пятых, все указанные виды отношений реализуются в форме гражданско-правового договора»2.
Вместе с тем нельзя не отметить следующие факты: во-первых, современное право знает немало примеров использования методов, основанных на диспозитивности, отраслями публичного права и методов, в основе которых лежит императивное начало в отраслях частного права. Примером тому может служить использование дого- ворно-правового способа регулирования финансовых отношений и институт публичного договора в гражданском праве. Характеризуя договорно-правовой способ регулирования финансовых отношений, И.В. Рукавишникова осуществляет сравнительный анализ договорно-правовых финансовых и гражданских правоотношений, отмечая, что «степень диспозитивности в финансовоправовых договорных отношениях значительно выше, чем в гражданско-правовых отношениях, вытекающих из публичного обязательства заключить договор, но, безусловно, ниже, чем в обыкновенных гражданских договорах»3.
Во-вторых, в настоящее время, на наш взгляд, вполне оправданно говорить о формировании принципиально новых, новаторских подходов к исследованию механизма правового воздействия на общественные отношения, примером которых может служить теория косвенных (опосредованных) правовых отношений, предусматривающая повышение эффективности государственного администрирования посредством включения в управленческий процесс институтов гражданского общества. Подобная инновационная модель «горизонтальноинтегрированных нелинейных связей» предполагает косвенное (опосредованное) правовое регулирование государством общественных отношений. Например, проведенное автором указанной концепции А.М. Асадовым исследование изменений законодательства в сфере аудиторской деятельности показывает не только правомерность рассмотрения аудиторской деятельности как неотъемлемого элемента финансового контроля, но и позволяет выявить потенциал использования механизмов, обеспечивающих вовлечение институтов гражданского общества в процессы государственного управления (в сфере аудиторской деятельности подобным примером
Драхенберг Т.В.
может служить Совет по аудиторской дея-тельности)4.
Более того, на современном этапе развития финансового права многие ученые не только задаются вопросом о правомерности постановки вопроса в отношении распространения сферы правового регулирования финансового права на частные финансы, но и отвечают утвердительно на указанный вопрос.
Так, Н.М. Казанцев при исследовании институтов финансового права отмечает следующее: «Другой немаловажный вопрос отечественного финансового права: входят ли в состав его предмета личные финансы и правомерен ли такой институт, как личные финансы, то есть финансы физических лиц, финансы граждан? Поскольку финансовое право является отраслью публичного права, то этот вопрос, казалось бы, изначально представляется неуместным: мол, финансы граждан - это институт гражданского права, и защищаемы они могут быть исключительно его законодательством. Такая постановка вопроса изначально полагает, что у гражданина вообще не может быть никаких правомочий в сфере публичного права. Это представление ошибочно… »5.
А.Т. Ковальчук придерживается гораздо более «радикальных», с точки зрения «традиционной» доктрины финансового права, взглядов в отношении выше обозначенного вопроса: «Нынешняя система рыночных отношений объективно требует, чтобы к предмету финансового права относились не только движение публичных денежных ресурсов, но и весь широкий спектр корпоративных финансовых ресурсов (частных в превалирующей доле)»6.
На наш взгляд, представляется необходимым согласиться с Ю.А. Крохиной, справедливо отметившей реалии настоящей финансово-правовой действительности: «современные тенденции развития финансового права в качестве закономерности выявляют проникновение объектов публичноправового регулирования в частноправовое и наоборот. Сочетание публичных и частных интересов в правовом регулировании финансовых отношений выражается в двух взаимосвязанных аспектах: сохранении публичного приоритета, но с учетом частных интересов; взаимопроникновении и взаимодействии публично-правовых и частноправовых юридических средств, в частности категорий, принципов, дефиниций, методов»7.
Таким образом, вопрос о предмете финансового права остается нерешенным. Подобная неопределенность в отношении границ правового регулирования финансового права не только негативным образом влияет на правовую теорию, но и приводит к тому, что эта теория не в состоянии исполнять функцию фундамента для юридической практики. Думается, отчасти поэтому у многих ученых «порой возникает ощущение, что финансово-правовая наука и законодательство развиваются параллельно и независимо друг от друга»8.
Между тем проблема отраслевой дифференциации системы права актуальна не только для отрасли финансового права, она является общеправовой. Детальный анализ указанной проблематики позволяет нам утверждать правомерность выделения наряду с традиционным предметно методологическим критерием градации системы права телеологического критерия, использование которо- го предполагает ответ на вопрос о «целевой направленности» норм отрасли права9.
Исследование телеологических аспектов в праве не является чем-то новым для юридической науки. Те или иные грани рассматриваемого явления неоднократно привлекали к себе внимание ученых. Телеологическим можно назвать подход к раскрытию содержания права Рудольфа Иеринга, по сути сводящего вопрос о содержании права к вопросу о его цели10. Наиболее активно вопрос исследования целей в праве разрабатывался отечественными учеными в советский период (Л.Д. Чулюкин, А.И. Эки-мов, Ю.А. Тихомиров, В.П. Шахматов, В.В. Лаптев и др.). В настоящее время телеологический подход в праве наиболее востребован уголовно-правовой наукой, тогда как цели правового регулирования и смежные с ними правовые категории в рамках иных отраслевых наук часто не удостаиваются внимания исследователей. В свете изложенного представляется актуальным исследование указанных категорий применительно к отрасли финансового права.
Кроме того, как справедливо заметил Д.В. Винницкий, «предмет регулирования все в большей степени утрачивает свое значение как критерий систематизации, особенно в «пограничных» областях. Напротив, возрастает значение иных (собственно юридических) факторов, обеспечивающих логичность и предсказуемость права: это конституционно установленные функции определенных структурных элементов (отраслей, институтов), базовые юридические конструкции, принципы, понятия»11.
Действительно, правовое регулирование, будучи по своей форме деятельностью, призванной посредством юридического воздействия на общественные отношения, урегулировать последние, предполагает изучение вопросов целеполагания в рассматриваемой деятельности: во-первых, цели правового регулирования определяются законодателем как продукт государственной воли (субъективный аспект); во-вторых, цели правового регулирования обусловлены закономерностями развития регулируемых общественных отношений (объективный аспект); в-третьих, используемые законодателем правовые конструкции как средства достижения результата содержат в себе телеологический аспект, поскольку избираются законодателем с учетом целей законодателя и регулируемых отношений, что обеспечивает эффективность правового регулирования.
Исследование телеологического аспекта финансового права предполагает ответ на вопрос о целях правового регулирования указанной отрасли права, а также определение смежных правовых категорий.
В свете рассматриваемого вопроса представляется необходимым отметить, что цели государства в той или иной сфере, на наш взгляд, являются неотъемлемой составляющей соответствующей государственной политики. Соответственно, цели финансовоправового регулирования достигаются государством в рамках реализации финансовой политики государства. Несмотря на тот факт, что категория финансовой политики активно используется экономической наукой, отметить наличие единообразного подхода к определению указанного явления в настоящее время мы не можем. Ряд авторов определяют указанную дефиницию как «систему определенных законодательно организационно-экономических мероприятий (действий) государства (государственных органов) по мобилизации финансовых ресурсов, их рациональному распределению и использованию (В.М. Родионова, П.И. Вахрин, А.С. Нешитой, Т.Ф. Романо-
Драхенберг Т.В.
ва, О.Б. Иванова, С.Н. Рукина, Л.В. Богослав-цева, А.А. Емельяненко, Т.З. Любицкая), другие понимают под финансовой политикой «совокупность финансовых инструментов и институтов государственной финансовой власти, обладающих в соответствии с законодательством полномочиями по формированию и использованию финансовых ресурсов государства в соответствии со стратегическими и тактическими целями государственной экономической политики» (В.К. Сенчагов)12. Более того, несмотря на использование законодателем термина «финансовой политики», законодательное определение указанной дефиниции отсутствует.
В своем исследовании традиций и инноваций финансового права в современных условиях Д.В. Винницкий13 обращается к анализу категории финансовой политики в трактовке Конституционного Суда Российской Федерации. Рассматриваемое исследование содержит ссылку на Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.06. 2004 №12-П. В свете рассматриваемых вопросов позиция Конституционного Суда Российской Федерации, приведенная в указанном Постановлении, представляется достаточно интересной: «Конституционно-правовое содержание полномочий Российской Федерации по финансовому регулированию (статья 71, пункт «ж», Конституции Российской Федерации) не сводится лишь к нормативно-правовому регулированию финансовых отношений и закреплению на этой основе финансово-правового статуса субъектов соответствующих отношений. Финансовое регулирование коррелирует с отнесенным также к ведению Российской Федерации установлением основ федеральной политики в области экономического развития Российской Федерации (статья 71, пункт «е», Конституции Российской Федерации) и проведением единой финансовой политики (статья 114, пункт «б» части 1, Конституции Российской Федерации).
Федеральный законодатель, осуществляя финансовое регулирование на основе Конституции Российской Федерации, имеет дискреционные полномочия в выборе правовых средств, что позволяет ему учитывать всю совокупность социально-экономических, иных факторов развития Российской Федерации. Отсюда следует, что нормы права, в том числе финансового, проявляют свое регулятивное воздействие на бюджетные отношения не сами по себе, а в связи с целями государственной экономической политики, включая финансовую политику и финансовое регулирование в их конституционно-правовом смысле».
Действительно, правовое регулирование общественных отношений призвано упорядочить последние, но вряд ли справедливо утверждать, что государство, осуществляя государственное администрирование в той или иной сфере, задается единственной целью -чтобы общественные отношения были просто «урегулированными». На наш взгляд, справедливо говорить, что целью государства в процессе правового регулирования общественных отношений является не просто их упорядочение, но приведение регулируемых общественных отношений к определенному образцу, эталону, модель которого заложена в создаваемых законодателем нормах права, и, как следствие, достижение определенного качественного состояния регулируемых общественных отношений, уровня развития общества и государства, соответствующего целям проводимой государством политики. Следовательно, правовое регулирование определенной сферы общественных отношений соотносится и с проводимой государством в указанной области политикой, и указанный тезис, на наш взгляд, справедлив в отношении финансового права.
Более того, исследование вопросов целей в праве приводит нас к выводу об их иерархическом характере14. Причем иерархия целей в праве может быть отмечена не только на отраслевом уровне. Так, Л.Д. Чу-люкин, рассматривая природу и значение цели в советском праве, отмечает, что «…цель законодателя в первом приближении может быть обозначена как идеальный образ модели возможного, должного либо возможно-должного поведения участников регулируемого общественного отношения. Но достижение этой цели, создание соответствующей нормы права есть, в свою очередь, не более чем средство достижения цели иного порядка, однако средство такого рода, которое до овладения им само служит целью. Эта последующая цель (цель-идеал) законодателя выступает как идеальный образ состояния того предмета, который должен быть упорядочен, отрегулирован в ходе деятельности по общему правовому регулированию. В качестве же такового, как известно, выступают соответствующие общественные отношения … Причём в более широком контексте осуществлённая (в той или иной степени, ибо полного совпадения цели и результата ждать не приходится) цель-идеал законодателя, в свою очередь, становится средством достижения глобальных целей …общества в целом»15.
Таким образом, цели финансового регулирования и цели финансовой политики мы можем рассматривать как цели государства в соответствующей - финансовой сфере, цели различного порядка, но не характера. А следовательно, чтобы ответить на вопрос о целях финансового регулирования, необходимо уяснить цели проводимой государством финансовой политики.
Г.Р. Гафарова отмечает, что «финансовая политика формируется в зависимости как от приоритетных направлений развития экономики страны, так и исходя из общенациональных интересов, определяющих развитие отраслей, имеющих структурообразующее значение. Таким образом, главной ее целью является создание финансовых условий для социально-экономического развития страны»16.
По мнению С.В. Мирошника, «анализ ряда основополагающих нормативно-правовых актов позволяет сделать вывод, что общей целью финансовой политики Российского государства на современном этапе его развития является обеспечение финансовой стабильности и безопасности, качественного уровня жизни российских граждан»17.
И.В. Рукавишникова определяет государственную финансовую политику как «составную часть социально-экономической политики, которая определяет цели, задачи, принципы, направления, способы правового регулирования, а также формы деятельности органов государственной власти РФ, иных уполномоченных органов и организаций в области формирования, распределения, управления и контроля за использованием публичных денежных фондов в целях эффективного воздействия на развитие экономики страны, повышения благосостояния государства и личности»18.
В свете приведенных определений совсем иначе, на наш взгляд, звучит тезис Н.М. Казанцева о том, что «финансовое право соотносит право с ценностями национального богатства, а также, через их посредство, с ценностями корпоративных и част-
Драхенберг Т.В.
ных капиталов и национальными результатами их употребления. Финансовое право создает конкретное право на национальное богатство, сохранение и приумножение его ценности как на государственном, так и корпоративном и индивидуальном уровнях»19.
Более того, вряд ли оспорим тот факт, что финансовая стабильность и безопасность, уровень развития экономики страны, адекватный потребностям государства и общества, соответствуют и публичным интересам государства, и частным интересам отдельного лица, ибо являются неотъемлемым условием обеспечения благосостояния и государства, и индивида.
Признавая целями финансовой политики «эффективное воздействие на развитие экономики страны, повышение благосостояния государства и личности»20, можем ли мы в определении цели финансового регулирования ограничиться целью «удовлетворения денежных потребностей государства»21? Представляется, что нет, соответственно, способы, средства, институты и механизмы в арсенале финансового права должны быть сообразными современным темпам развития экономики страны и учитывать ее рыночный характер.
Список литературы Актуальные вопросы финансово-правовой доктрины сквозь призму телеологических аспектов права
- Асадов А.М. Теория косвенных (опосредованных) правовых отношений: вопросы методологии. Косвенные (опосредованные) правовые отношения в сфере финансовой деятельности государственных органов. Екатеринбург, 2012 г.
- Асадов А.М., Драхенберг Т.В. К вопросу о телеологическом критерии дифференциации системы российского права//Проблемы права. 2012. № 2. С. 176-181.
- Винницкий Д.В. Финансовое право в современных условиях: традиции и инновации//СПС «КонсультантПлюс».
- Гафарова Г.Р. Правовые аспекты ценовой политики в системе финансовой политики государства//СПС «КонсультантПлюс».
- Иеринг Р. Цель в праве. СПб., 1881.
- Казанцев Н.М. Институты финансового права//СПС «КонсультантПлюс».
- Ковальчук А.Т. Истоки и перспективы развития финансового права.//Государство и право, 2008, № 5, С. 5-10.
- Крохина Ю.А. Принцип сочетания частных и публичных интересов в финансовом праве//СПС «КонсультантПлюс».
- Мирошник С.В. Финансовая политика и финансовая система//СПС «КонсультантПлюс».
- Рукавишникова И.В. Договорно-правовой способ регулирования финансовых отношений//Хозяйство и право. 2005. № 12(347). С. 20 -27.
- Рукавишникова И.В. Финансовая политика государства как категория финансового права//СПС «КонсультантПлюс».
- Химичева Н.И. Проблемы финансового права на новом этапе развития российского государства//СПС «КонсультантПлюс».
- Худяков А.И. Дискуссионные вопросы предмета финансового права//СПС «КонсультантПлюс».
- Чулюкин Л.Д. Природа и значение цели в советском праве. Казань: Издательство Казанского университета, 1984.