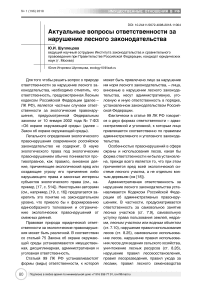Актуальные вопросы ответственности за нарушение лесного законодательства
Автор: Шуплецова Юлия Игоревна
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Экологическое право - вопросы имущественной политики
Статья в выпуске: 1 (196), 2018 года.
Бесплатный доступ
Анализируются нормы федеральных законов, подзаконных нормативных правовых актов и судебных решений с целью выявления правовых неопределенностей и пробелов в лесном законодательстве. Рассматриваются основные виды ответственности, предусмотренные лесным законодательством Российской Федерации, и правовые проблемы, возникающие в процессе рассмотрения споров, связанных с возмещением ущерба лесам. Автор делает вывод о том, что от решения вопроса о правовой природе ответственности за нарушение лесного законодательства зависит, какое именно право, гражданское или экологическое, будет иметь приоритет при регулировании таких отношений.
Ответственность за экологические правонарушения, проект освоения лесов, отграничение преступления от административного правонарушения, нарушение лесохозяйственных требований, институт деликтных обязательств
Короткий адрес: https://sciup.org/170172924
IDR: 170172924 | DOI: 10.24411/2072-4098-2018-11004
Текст научной статьи Актуальные вопросы ответственности за нарушение лесного законодательства
Для того чтобы решить вопрос о природе ответственности за нарушение лесного законодательства, необходимо отметить, что ответственность, предусмотренная Лесным кодексом Российской Федерации (далее – ЛК РФ), является частным случаем ответственности за экологические правонарушения, предусмотренной Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон об охране окружающей среды).
Легального определения экологического правонарушения современное российское законодательство не содержит. В науке экологического права под экологическим правонарушением обычно понимается противоправное, как правило, виновное деяние, причиняющее экологический вред или создающее угрозу его причинения либо нарушающего права и законные интересы субъектов экологического права (см., например, [17, с. 514]). Некоторыми авторами (см., например, [19, с. 16]) предлагается закрепить это понятие на законодательном уровне, что привело бы к формированию единообразного толкования и отграничению экологических правонарушений от смежных деяний.
Правовая природа юридической ответственности за экологические правонарушения может быть различной. В соответствии со статьей 75 Закона об охране окружающей среды устанавливаются имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.
Статьей 99 ЛК РФ устанавливаютсят формы (виды) ответственности, к которой может быть привлечено лицо за нарушение им норм лесного законодательства, – лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Фактически в статье 99 ЛК РФ говорится о двух формах ответственности – административной и уголовной, к которым лицо привлекается соответственно по правилам административного и уголовного законодательства.
Особенностью правонарушений в сфере охраны и использования лесов, какая бы форма ответственности ни была установлена, прежде всего является то, что при этом причиняется вред всей экологической системе лесного участка, а не отдельно взятым деревьям (см [18]).
Административная ответственность за нарушение лесного законодательства устанавливается Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, предусматривается ответственность за самовольное занятие лесных участков (ст. 7.9), самовольную уступку права пользования землей, недрами, лесным участком или водным объектом (ст. 7.10), нарушение правил использования лесов (ст. 8.25), самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов (ст. 8.26), нарушение правил лесовосстановления, правил лесоразведения, правил ухода за лесами, правил лесного семеноводства
(ст. 8.27), незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан (ст. 8.28).
Что касается уголовной ответственности, то она устанавливается Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) за правонарушения лесного законодательства, которые имеют наиболее высокую степень общественной опасности. Это, например, незаконная рубка лесных насаждений в случаях, когда ущерб был причинен в значительном, крупном или особо крупном размере, совершен группой лиц или должностным лицом с использованием своего служебного положения (ст. 260), уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога или неосторожного обращения с огнем (ст. 261).
Основным критерием разграничения уголовно наказуемой незаконной рубки лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ) и незаконной рубки лесных насаждений, за которую ответственность предусмотрена статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), является значительный размер ущерба, причиненного посягательством, который должен превышать пять тысяч рублей (примечание к статье 260 УК РФ).
Рубка лесных насаждений арендаторами лесных участков, имеющими проект освоения лесов, получивший положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы, с нарушением технологии заготовки древесины, в том числе рубки, без подачи отчета об использовании лесов подлежит квалификации по статье 8.25 КоАП РФ. Что касается ответственности, установленной частью 4 названной статьи за использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, договора безвозмездного пользова- ния лесным участком, иных документов, на основании которых предоставляются лесные участки, то эту норму можно считать избыточной, поскольку обязательства, возникающие в связи с исполнением названных договоров, регулируются гражданским законодательством. Ответственность за неисполнение договорных норм также устанавливается гражданским законодательством. В связи с этим следует полагать, что указанная норма подлежит отмене, что является особенно актуальным поскольку, как отмечается в научной литературе, в последнее время ее применение становится «стандартным» (см. например, [25, с. 36]) во всех случаях, когда возникает проблема с квалификацией деяния.
Критерием отграничения преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ, от административного правонарушения (ст. 8.28 КоАП РФ) является степень повреждения лесных насаждений. Если повреждение указанных насаждений не привело к прекращению их роста, то содеянное влечет административную ответственность по статье 8.28 КоАП РФ 1.
Основным видом наказания за правонарушения как административного, так и уголовного характера является штраф. При этом взимание штрафа зачастую не соответствует общественной опасности деяния и не служит целям предупреждения совершения новых лесонарушений (см. [19, с. 17]). Например, такой вид нарушения лесного законодательства, как нелегальная заготовка и контрабандный вывоз древесины из России, приняли угрожающие масштабы и приобретают черты транснациональной преступности (см. [14, с. 24]).
Правовая природа иной, кроме административной и уголовной, ответственности за нарушение лесного законодательства неоднократно становилась как темой оживленных научных дискуссий, так и предметом рассмотрения судов, в том числе судов высших инстанций. И именно неверная позиция арбитражных судов при применении норм об ответственности за нарушения лесного законодательства стала основанием для разбирательства в Конституционном Суде Российской Федерации.
Выход постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2015 года № 12-П «По делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и положений постановления Правительства Российской Федерации «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» был обусловлен жалобой общества с ограниченной ответственностью «Заполярнефть» в связи с решениями Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 мая 2013 года и от 13 мая 2013 года, оставленными без изменения постановлениями арбитражных судов вышестоящих инстанций 2.
Закрепляя в статье 99 ЛК РФ административную и уголовную ответственность, законодатель иную форму ответственности прямо не поименовал. Тем не менее сущность и правовую природу такой ответственности можно определить исходя из анализа правовых категорий, используемых законодателем при установлении юридической ответственности такого рода, ее цели и характера. Фактически это та же ответственность в форме возложения на лицо обязанности «устранить правонарушение и возместить причиненный вред», предусмотренная до принятия Федерального закона от 23 июня 2016 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений» частью 2 статьи 99 ЛК РФ. Она имеет существенное отличие от ответственности, возникающей на основании норм административного и уголовного законодательства, поскольку в рассматриваемом случае речь идет об ответственности, возникающей, как правило, вследствие причинения вреда.
Регулирование отношений, возникающих вследствие причинения вреда, обычно осуществляется в рамках гражданско-правового института деликтных обязательств. Целью возложения такой ответственности на виновное лицо является возмещение причиненного вреда, и, соответственно, возмещение вреда может рассматриваться в качестве одной из мер гражданско-правовой ответственности, что подтверждается и позицией Конституционного Суда Российской Федерации 3.
Однако следует отметить, что «использование положений деликтной ответственности в других отраслях права подчеркивает глубокую генетическую связь гражданско-правовой ответственности с другими видами материальной (имущественной) ответственности и при этом не умаляет отраслевой специфики последних» (см. [12]).
Аналоги терминов, используемых законодателем в анализируемой статье 99 ЛК РФ, можно найти в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ), поскольку основной целью такой ответственности является, как уже отмечалось, возмещение вреда, причиненного лесным правонарушением. Такая ответственность имеет имущественный характер, поскольку причинитель вреда претерпевает имущественные потери за совершенное им правонарушение.
Указанное также свидетельствует о том, что это именно имущественная ответственность (см. [11, с. 98–101; 26, с. 296–302]), названная в Законе об охране окружающей среды, и хотя она наиболее близка по своей природе гражданско-правовой ответственности, однако имеет свою специфику (см. [27, с. 212; 16, с. 313–314]).
В частности, в научной литературе существует мнение, что понятие имущественной ответственности не соответствует сформировавшемуся подходу в отношении гражданско-правовой ответственности и в этом случае экологическое законодательство предусматривает специальные основания имущественной ответственности за причинение вреда окружающей среде (см. [17, с. 514, 525]).
Специфика ответственности обусловлена особым регулируемым и охраняемым экологическим законодательством интересом к сохранению благоприятной окружающей среды и экологическому благополучию, подлежащим приоритетной правовой защите 4.
При этом, как отмечает Н.В. Витрук, «присущие институту гражданско-правовой ответственности свойства и черты корректируются (специализируются) применительно к материальной (имущественной) ответственности при нарушении норм трудового, земельного, водного и других отраслей права. Все эти отрасли в своих исходных позициях предопределяются гражданско-правовой ответственностью и в то же время в чем-то от нее отличаются. Специализация их настолько высока, что дает основания признать их самостоятельными видами юридической ответственности» [12].
Однако необходимо отметить, что как правоприменители, так и ученые зача- стую занимают противоречивые позиции. С одной стороны, является ошибочным использование норм только отраслевых природоохранных законов без обращения к гражданскому законодательству при привлечении к имущественной ответственности за экологические правонарушения (см. [23, с. 5–7]). С другой стороны, широкое использование деликтной ответственности в тех отраслях права, в которых не были развиты свои виды материальной (имущественной) ответственности, служит основанием для утверждения о гражданско-правовом характере любого вида имущественной ответственности (см. [12]).
Из изложенного следует, что имеющиеся в лесном законодательстве нормы об ответственности не позволяют сделать однозначный вывод о ее природе и четко отграничить от иных видов юридической ответственности.
Еще одним важным аспектом правовой природы имущественной ответственности является определение составляющих ее элементов. В Законе об охране окружающей среды в качестве имущественной ответственности прежде всего рассматривается обязанность возмещения вреда окружающей среде. При этом, по мнению некоторых авторов (см., например, [24]), следует различать:
-
• обязанность по выполнению природоохранных требований (как составную часть природоохранного требования);
-
• обязанность по устранению выявленных нарушений в области охраны окружающей среды (как мера государственного воздействия на нарушителей, направленная на обеспечение принудительного исполнения ими неисполненных и возложенных законом обязанностей и природоохранных требований);
-
• юридическую ответственность (как санкцию – меру государственного
принуждения, предполагающую претерпевание неблагоприятных последствий за совершенное правонарушение, выраженное в назначении соответствующего наказания).
Также можно сказать, что устранение нарушения (восстановление нарушенных прав) следует отграничивать от привлечения к иным видам юридической ответственности посредством возложения соответствующих санкций (назначения соответствующего наказания) (см. [24]).
Таким образом, ответственность, закрепленная в статье 99 ЛК РФ, представляет собой частный случай имущественной ответственности, предусмотренной Законом об охране окружающей среды.
Как следствие, порядок привлечения к такой ответственности, то есть механизм ее реализации, основываясь на нормах Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотренных для ответственности из причинения вреда (деликтной ответственности), должен исходить из общих положений Закона об охране окружающей среды и детально раскрываться в соответствующих (рассматриваемых) положениях ЛК РФ и иных нормативных правовых актов.
Таким образом, возмещение вреда, причиненного лесным правонарушением, производится на основании соответствующих норм ГК РФ и норм лесного законодательства. В ГК РФ указаны принципы, основания и условия имущественной ответственности юридических лиц и граждан, а в лесном законодательстве – соответствующие правила и методика исчисления имущественного вреда, причиненного лесонарушением (понятие и перечень лесных правонарушений, таксы для подсчета ущерба, размеры неустоек за нарушение лесохозяйственных требований и т. п.).
Вопрос о приоритете норм гражданского или экологического (лесного) законодательства неоднократно поднимался в юридической литературе. Одни авторы считают, что в этом случае нормы ГК РФ занимают ведущее положение, а лесного законодательства играют вспомогательную роль (см., например, [22, с. 45–47]), другие полагают, что в случае разночтений между законом, устанавливающим общие правила имущественных отношений (ГК РФ), и законом, устанавливающим специальные правила (Земельный, Водный, Лесной кодексы Российской Федерации, Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»), применительно к конкретным природоресурсным отношениям действует правило специального закона, а к имущественным отношениям – требования ГК РФ, если в Земельном, Водном, Лесном кодексах Российской Федерации и других нормативных актах не установлено иное (см. [13] 5).
В настоящее время статьей 3 ЛК РФ в регулировании имущественных отношений устанавливается приоритет гражданского и земельного законодательства только в тех случаях, если иное не установлено ЛК РФ и другими федеральными законами.
В любом случае регулирование имущественной ответственности отраслевым законодательством должно быть ясным, определенным, исчерпывающим и основанным на общеправовых принципах привлечения к имущественной ответственности, закрепленных в законодательстве и подтвержденных позицией Конституционного Суда Российской Федерации 6.
Что касается вопросов защиты прав лесопользователей при применении норм об ответственности за нарушение лесного за- конодательства, то следует отметить, что с момента вступления в силу ЛК РФ высшими судебными инстанциями было вынесено более 700 определений по проблемам применения лесного законодательства (по состоянию на май 2016 года). Рассмотренные дела можно условно разделить на две группы:
-
1) дела, вытекающие из договорных правоотношений (примерно 60 процентов от общего числа дел);
-
2) дела, вытекающие из публичных правоотношений (примерно 40 процентов от общего числа дел).
В первой категории дел наиболее типичными являются дела, связанные с взысканием задолженности по уплате арендной платы и неустойки по договору аренды лесного участка.
Например, определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 октября 2013 № ВАС-11779/13 по делу № А33-20496/2012 «О пересмотре в порядке надзора судебных актов по делу о взыскании задолженности по уплате арендной платы по договору аренды лесного участка» в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отказано, поскольку, по мнению этого судебного органа, суды нижестоящей инстанции сделали правильные выводы о том, что, подписав дополнительное соглашение к договору аренды, общество согласилось вносить текущие арендные платежи, возникшие после указанного срока, в том числе неустойку за несвоевременное внесение арендных платежей.
При рассмотрении материалов судебной практики по делам о нарушении лесного законодательства необходимо отметить последовательную позицию судов высших инстанций в отношении публично-правового характера лесных отношений.
Так, например, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 февраля 2014 года № 11059/13 по делу № А26-9592/2012 прямо указывается, что при передаче лес- ных участков в аренду имеет место совокупность публичного интереса, публичного субъекта и публичных (бюджетных) средств. Следовательно, участники отношений не могут действовать по собственному усмотрению исходя из гражданско-правового принципа «можно все, что прямо не запрещено». Указанные аргументы применимы и в случае рассмотрения вопроса о возможности передачи дел, вытекающих из лесных правоотношений, в третейский суд. В этом постановлении отмечается, что принципы третейского разбирательства (конфиденциальность, закрытость процесса, неформальный характер разбирательства, упрощенный порядок сбора и представления доказательств, отсутствие информации о принятых решениях, а также невозможность их проверки и пересмотра по существу) не позволяют обеспечить соблюдение принципов лесного законодательства. Особенно это касается принципов, которые основаны на обеспечении права каждого на благоприятную окружающую среду и удовлетворение потребностей общества в лесах и лесных ресурсах. В связи с этим к компетенции третейских судов не может относиться рассмотрение споров ни по вопросам заключения договоров аренды лесных участков, ни по вопросам их недействительности, определяемой по действующему на момент их подписания законодательству.
Аналогичная позиция была выражена и в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 12157/13 по делу № А28-5083/2012, в котором указано, что механизм изменения договора по требованию одной стороны или на основании соглашения сторон не может быть применен для изменения условий договора аренды лесного участка, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.
Дела второй категории, которые, как правило, связаны с обжалованием решений государственных органов в области охраны лесов, рассматриваются в рамках арбитражного судопроизводства.
Типичным примером этой категории дел может служить постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 9 сентября 2015 года № Ф07-6541/2015 по делу № А66-9344/2014 о признании незаконным постановления о привлечении общества к ответственности по части 1 статьи 8.25 КоАП РФ за нарушение правил использования лесов и части 3 статьи 8.32 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима. В этом случае заявленное требование удовлетворено полностью в части привлечения общества к ответственности по части 1 статьи 8.25 КоАП РФ, поскольку в действиях общества отсутствует состав вменяемого ему правонарушения. В оставшейся части требование удовлетворено частично, размер штрафа снижен.
Аналогичным примером может служить постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 1 декабря 2015 года № 10АП-11651/2015 по делу № А41-47836/15 о признании незаконным постановления о привлечении к ответственности по части 4 статьи 8.25 КоАП РФ за нарушение правил использования лесов, которое было удовлетворено в части назначения наказания в виде административного штрафа, поскольку размер штрафа не соответствует тяжести совершенного правонарушения и не обеспечивает достижение целей административного наказания, предусмотренных частью 1 статьи 3.1 КоАП РФ.
Возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, осуществляется добровольно или в судебном порядке. Размер возмещения имущественного вреда, причиненного лесным участкам и имущественным правам, возникающим при использовании лесов, определяется на основе оценки лесов, осуществляемой в соответствии со статьей 95 ЛК РФ.
Размер возмещения вреда, причиненного лесам как экологической системе, определяется исходя из присущих лесам природных свойств (уникальность, способность к возобновлению, местоположение и другие свойства) в порядке, предусмотренном Законом об охране окружающей среды.
Особенности возмещения вреда, включая таксы и методики определения размера возмещения такого вреда, утверждаются Правительством Российской Федерации.
Названные нормы являются новеллами лесного законодательства, разделившего вред, причиненный лесам, на экономический и экологический. При этом отдельные авторы считают это тенденцией развития всего природоресурсного законодательства (см., например, [15, с. 54–61]).
В настоящее время порядок исчисления вреда, причиненного лесам, закреплен в постановлении Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 года № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» (далее – Постановление № 273), принятого во исполнение положений части 2 статьи 100 ЛК РФ. Указанным постановлением утверждены:
-
• таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, заготовка древесины которых допускается;
-
• таксы для исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и кустарникам, заготовка древесины которых не допускается;
-
• методика исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства;
-
• таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, за исключением ущерба, причиненного лесным насаждениям или не
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам.
В результате анализа указанного в Постановлении № 273 порядка исчисления и расчета размера вреда посредством такс и методик, можно отметить, что такой порядок обеспечивает лишь условную, но не реальную (объективную) оценку вреда, причиненного лесу.
Так, согласно разделяемому большинством экспертов мнению, «такса – это условная единица исчисления причиненного вреда, она представляет собой заранее исчисленный и зафиксированный в твердой сумме размер вреда» (см. [20, с. 91]). При этом «невозможность установления соответствия размера вреда по таксам реальному объему причиненных убытков свидетельствует об их достаточно произвольном характере, что в свою очередь говорит об отступлении от принципов возмещения вреда, в частности, принципа полного возмещения вреда» [20, с. 103].
В результате вред, рассчитываемый по таксам и методикам, всегда выражается в абсолютной величине, размер которой не может быть изменен (уменьшен или увеличен) ни при каких обстоятельствах. При этом таксы, выражающиеся в кратном увеличении размера санкции в зависимости от природного объекта и предполагаемого экологического вреда, содержат карательный (штрафной) элемент.
По мнению профессора В.В. Петрова, «таксу предположительно можно разделить на две части … первая часть отражает в денежной форме долю затрат, вложенных государством на охрану, воспроизводство данного природного объекта; вторая – включает сумму, превышающую размер этих затрат, взыскиваемых в качестве наказания за несение экологического вреда, в той его доле, которая не восстанавливается компенсацией действительного вреда » [21, с. 154].
Таким образом, порядок расчета вреда с использованием такс и методик, имеющих кратный характер, не обеспечивает объек- тивную оценку причиненного лесу вреда. При этом само по себе использование такс и методик при расчете размера причиненного вреда не является недопустимым. Однако, используя их для расчета вреда из деликта, нужно исходить из цели возмещения причиненного окружающей среде вреда, а не наказания лица, причинившего вред, поскольку для достижения таких целей (наказания) законодатель предусмотрел иные виды ответственности (административную и уголовную ответственность по статье 99 ЛК РФ).
Все это с учетом правоприменительной практики приводит не только к фактическому удваиванию имущественной ответственности, но и посредством использования такс и методик (несущих штрафной элемент) к смешиванию этого вида ответственности (направленного на восстановление нарушенного состояния) с иными видами ответственности, направленными на достижение иных целей (в частности, наказание виновного лица).
Также следует отметить, что подобная неопределенность приводит и к смешению объектов, которым причиняется вред. Принципиальным отличием гражданско-правовой (в том числе деликтной) ответственности и рассматриваемой имущественной ответственности за нарушение лесного законодательства является то, что вред причиняется не конкретному лицу и (или) его имуществу, а окружающей среде. Окружающая среда при этом является общим достоянием, и права на нее закреплены в статье 42 Конституции Российской Федерации. Таким образом, в этом случае вред причиняется публичным, а не частным интересам.
Частично разрешить такое противоречие призван проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, включая таксы и методики определения разме- ра возмещения такого вреда». Проектом предлагается признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 года № 273, регулирующее в настоящее время указанные правоотношения.
Также в проекте вред, причиненный лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства как экологической системе, а также лесным насаждениям и не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, предлагается исчислять в стоимостной форме, основываясь на компенсационном принципе оценки.
Предполагается принять новую методику исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, вследствие нарушения лесного законодательства. Также предполагается принять следующие таксы:
-
• для исчисления размера вреда, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, заготовка древесины которых допускается;
-
• для исчисления размера вреда, причиненного деревьям и кустарникам, заготовка древесины которых не допускается;
-
• для исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, за исключением вреда, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам.
Помимо этого, проектом предусматривается, что по решению суда размер вреда может быть уменьшен на величину фактических затрат на восстановление нарушенного состояния лесов, понесенных лицом, причинившим соответствующий вред, в процессе устранения им такого вреда и приведения лесов и находящимся в них природных объектов, а также лесных насаждений и не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан в состояние, пригодное для дальнейшего использования в соответствии с целевым назначением земель, на которых они располагаются. Если размер фактических затрат на восстановление нарушенного состояния лесов, понесенных лицом, причинившим соответствующий вред, в процессе устранения им такого вреда и приведения лесов и находящихся в них природных объектов, а также лесных насаждений и не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан в состояние, пригодное для дальнейшего использования, превышает размер причиненного вреда, то разница между исчисленным размером вреда и понесенными фактическими затратами не будет компенсироваться.
По результатам анализа применения арбитражными судами исследуемых норм ЛК РФ и действующего в настоящее время Постановления № 273 можно отметить, что суды, рассчитывая вред по таксам и методикам, в большинстве случаев не учитывают принципы и положения имущественной ответственности, предусмотренные гражданским законодательством.
Отсутствие в лесном законодательстве ясного порядка привлечения к имущественной ответственности по статье 99 ЛК РФ зачастую приводит к нарушению принципа соразмерности ответственности причиненному вреду.
Именно указанные соображения и послужили основанием для признания Конституционным Судом Российской Федерации положений ранее действовавшей части 2 статьи 99 ЛК РФ и Постановления № 273 не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статье 9 (часть 1) во взаимосвязи со статьями 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (часть 1), 42 и 55 (часть 3) в той мере, в какой (в силу неопределенности нормативного содержания, порож-
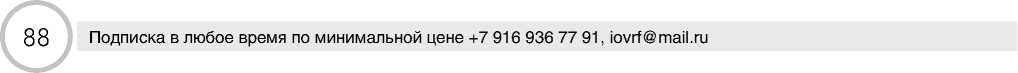
дающей их неоднозначное истолкование и, следовательно, произвольное применение) при установлении на их основании размера возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, в частности, при разрешении вопроса о возможности учета фактических затрат, понесенных причинителем вреда в процессе устранения им загрязнения лесов, образовавшегося в результате разлива нефти и нефтепродуктов, указанные положения не обеспечивают надлежащий баланс между законными интересами лица, добросовестно реализующего соответствующие меры, и публичным интересом, состоящим в максимальной компенсации вреда, причиненного лесам.
В связи с принятием постановления Конституционного Суда от 2 июня 2015 года № 12-П «По делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и положений постановления Правительства Российской Федерации «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Запо-лярнефть» суды вправе учитывать в размере вреда, исчисленного по установленным Правительством Российской Федерации таксам и методикам, необходимые и разумные расходы, понесенные причинителем вреда при устранении последствий вызванного его деятельностью загрязнения окружающей среды в результате разлива нефти и нефтепродуктов, если при этом достигается допустимый уровень остаточного содержания нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в почвах и грунтах, а также донных отложениях водных объектов, при котором, в частности, исключается возможность поступления нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в сопредельные среды и на сопредельные территории; допускается использование земельных участков по их основному целевому назначению
(с возможными ограничениями) или вводится режим консервации, обеспечивающий достижение санитарно-гигиенических нормативов содержания в почве нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) или иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативов в процессе самовосстановления почвы (без проведения дополнительных специальных ресурсоемких мероприятий). Приведенное дело с участием общества с ограниченной ответственностью «Заполярнефть» подлежит пересмотру, если в результате осуществления им мероприятий по устранению последствий нарушения лесного законодательства состояние загрязненного лесного участка будет отвечать указанным условиям.
Однако следует отметить, что не устраненная Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений» неопределенность в отношении правовой природы «иной» ответственности за нарушение лесного законодательства приводит к смешению объектов, которым причиняется вред. При этом указанное положение применимо в обоих случаях – и в случае причинения имущественного вреда, и в случае причинения экологического вреда.
Необходимо отметить, что противоречивая судебная практика послужила основанием для принятия Конституционным Судом Российской Федерации в 2015 году постановления № 12-П, признавшего неконституционным ряд положений ЛК РФ. Однако избранный законодателем путь разрешения юридических коллизий о правовой природе ответственности за нарушение лесного законодательства посредством разделения имущественного и экологического ущерба представляется сомнительным и способным породить еще более жаркие как научные, так и судебные споры.
Список литературы Актуальные вопросы ответственности за нарушение лесного законодательства
- Лесной кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ.
- Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.
- Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.