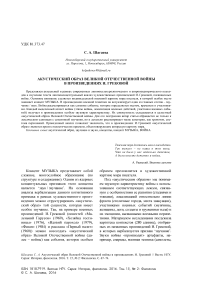Акустический образ великой отечественной войны в произведениях И. Грековой
Автор: Шагаева Светлана Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Представлен актуальный в рамках современных лингвокультурологического и антропоцентрического подходов к изучению текста лингвоконцептуальный анализ художественных произведений И. Грековой, посвященных войне. Основное внимание уделяется индивидуальной языковой картине мира писателя, в которой особое место занимает концепт МУЗЫКА. В произведениях военной тематики он актуализирует один из главных слотов - звучание / звук. Война рассматривается как сложное событие, которое определяется местом, временем и участниками. Каждый выделенный аспект войны (этапы войны, локализация военных действий, участники военных событий) получает в произведениях особую звуковую характеристику. Их совокупность складывается в целостный «акустический образ» Великой Отечественной войны. Для его построения автор статьи обращается не только к лексическим единицам с семантикой звучания, но и детально рассматривает такие категории, как хронотоп, система персонажей. Проведенный анализ позволяет заключить, что в произведениях И. Грековой «акустический образ» является ярким стилистическим приемом, объективирующим авторскую картину мира.
Акустическийобраз, звучание и звуки, концепты, концепт музыка, война
Короткий адрес: https://sciup.org/147220355
IDR: 147220355 | УДК: 81.373.47
Текст научной статьи Акустический образ великой отечественной войны в произведениях И. Грековой
Тяжелая пора досталась нам в наследство . Так выпало – не наша в том вина , Что не было у нас отдельно детства , А были вместе детство и война .
А. Раевский. Военное детство
Концепт МУЗЫКА представляет собой сложное, многослойное образование (по структуре и содержанию). Одним из ядерных концептуальных признаков этого концепта является ‘звук / звучание’. На основании анализа вербализации данного когнитивного признака в рамках художественного произведения можно структурировать «акустический образ» той сущности, которая имеет особое звучание. Так, на примере военных произведений И. Грековой (повестей «Маленький Гарусов» (1969), «Хозяйка гостиницы» (1976), «Вдовий пароход» (1979), «Фазан» (1984) и рассказа «Первый налет» (1960)) можно воссоздать «акустический образ» Великой Отечественной войны (далее – войны) как события, которое особым образом преломляется в художественной картине мира писателя.
Под «акустическим образом» мы понимаем звуковую характеристику войны с использованием соответствующих лексем, связанную с особенностями ее развития (стадиями и этапами), локализацией относительно линии фронта (столичные города, места эвакуации), участниками военных событий (мужчины, женщины, дети, солдаты и труженики тыла) и их эмоциями, вызванными военными перипетиями. Материалом исследования послужила картотека контекстов (280 единиц), отобранных из названных произведений И. Грековой, в которых вербализуется признак ‘звучание’. Звуки войны «производят» артефакты, например, снаряды, военная техника (самолеты,
Шагаева С. А. Акустический образ Великой Отечественной войны в произведениях И. Грековой // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 2: Филология. С. 67–74.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 2: Филология © С. А. Шагаева, 2016
пушки), сирена (сигналы тревоги), репродукторы ( щебетать , шелестеть , реветь , греметь и т. п.), люди ( орать , кричать , плакать ; рев , крик , вопль и т. п.). Особое место в системе репрезентаций «акустического образа» войны занимает военная песня: в повествовательной ткани произведений И. Грековой встречаются всем известные названия - «Катюша », «Землянка», « Священная Война», «Если завтра война».
Концепт ВОЙНА широко представлен в паремиях, афоризмах, художественных произведениях, песнях, в советском и российском кинематографе, что свидетельствует о высокой значимости этого события для русской лингвокультуры. Оно стало не просто страницей отечественной истории, но и самым страшным испытанием, выпавшим на долю русского народа в XX в. Неслучайно война – это один из главных лейтмотивов отечественной прозы XX в. Большинство авторов были ее очевидцами, многие – участниками, фронтовиками. В списке авторов, затронувших тему войны 1941–1945 гг., значится и малоизвестное имя советской писательницы И. Грековой (1907–2002 гг.), которая видела ужасы войны своими глазами. Писатель называет военные годы порогом , особым местом в истории нашей страны, потому что война коснулась всех: Кажется , нет никого из живших в то время , кого бы война обошла стороной ... Великая Отечественная . Началась и все себе подчинила . Целых четыре года . Они и длинные , они и короткие . Особые ... Проба человека . Проба характера («Фазан»).
В «Большом толковом словаре русского языка» под ред. С. А. Кузнецова (далее – БТС) лексема война описывается как «вооруженная борьба между государствами, народами», что позволяет интерпретировать войну как слово с событийной семантикой. Война – событие, имеющее этапы (фазы) развития, характеризуемые И. Грековой с помощью языковых единиц из тематического поля ‘звук / звучание’.
Акустическая характеристика этапов Великой Отечественной войны
В художественной концепции И. Грековой, с помощью «звуковой оси» можно разделить войну на три этапа. Акустическими характеристиками 1-го этапа следует считать громкие негармонические звуки, контрасти- рующие с обыденным звучанием мирной жизни (рев немецких самолетов, взрывы бомб, вой сирен, дикие крики женщин). В описании 2-го преобладают «дорожные» звуки, которые создают образ повсеместной эвакуации (стук поездов, вагонный гул детских и женских голосов). Лейтмотивом 3-го этапа становятся бравурная музыка, победные песни, сопровождаемые залпами салютов, громким плачем и радостными возгласами (веселые песни, марши, гармоника на каждом углу и пляска, слезы, крики, салюты).
Начало войны отличается по звуковому формату от последующих этапов тем, что оно замкнуто в акустическом образе самой лексемы война - страшного слова , витавшего в воздухе , а также в тематически связанных с ним слов: фронт , мобилизация , эвакуация , эшелон , которые зазвучали отовсюду – непривычно, враждебно, устрашающе. О войне говорят все, ее обсуждают как что-то неминуемое и страшное, но пока еще далекое, незнакомое.
С этим этапом войны в произведениях И. Грековой связана акустическая дихотомия «звуки обыденной жизни» – «звуки войны». Мирная жизнь описывается через повседневные звуки: соседи перекликались , посмеивались , двигали стулья , играло радио , рабочие тюкали молотками . На этом звуковом фоне продолжается мирное существование людей, живущих в предчувствии войны, которая еще не успела нарушить привычный быт. Кроме того, зыбкая, но пока еще гармония создается звучанием природы, естественного мира, который живет по своим законам, вопреки надвигающейся трагедии ( ликовали взбесившиеся ласточки , носились с сумасшедшим визгом , стояли вызывающе-яркие летние дни ).
На этой стадии у героев И. Грековой рождается двойственное представление о войне. С одной стороны, предчувствие близкой войны представляется им маскарадом, балаганом, к которому все готовятся, сооружая «декорации» (маскировочные деревни), «разучивают роли», прячутся в убежища от еще беззвучных налетов. С другой стороны, естественный страх перед неизвестностью заставляет их представлять войну в архетипическом образе врага – дикого зверя, притаившегося за дверью и скрежещущего зубами. Такой образ провоцируется, например, звуками воздушной тревоги: Каждый вечер поднимали голоса сирены и разноголосый вой вкрадчиво и гнусно взмывал вверх, тревога глодала сердце настоящими зубами. Казалось , невидимый, таинственный враг подкрадывается , подходит к дому на мягких лапах.. («Первый налет»). Контраст звуковых эффектов создает длительное психологическое напряжение, которое снимается лишь сменой звукового фона. Первый воздушный налет «материализует» противника: Ударил звук, какого еще не было... После пришло осознание - бомба («Первый налет»).
С помощью компонентного анализа лексем, воплощающих «акустический образ бомбежки» ( грохот , скрежет ), можно вывести «зрительное» представление о противнике, о том , кто до сих пор только стучался и уходил , а теперь вошел наконец в дом . Так, на основе ЛЗ слова грохот , а также ЛСВ-1 мотивирующего глагола грохнуть 1 (эти лексемы являются ключевыми при описании первого налета) воссоздается воплощенный автором образ врага - через набор акустических и ассоциативных визуальных признаков: ‘сильный’, ‘громкий’, ‘шумный’, ‘большой’ (‘раскатистый’ ^ ‘широкий’ ^ ‘большой’). На контрасте с мирной, спокойной, размеренной жизнью он ломает привычную акустику - производит скрежет 2 ( скрежещущий грохот , грохот с оттенком скрежета ), потому что рушатся каменные и металлические конструкции. То, что казалось надежным тылом и защитой, превращается в хрупкое и недолговечное: дома откликаются тоненькими перезвонами , дилинькают стекла. Все уничтожается мгновенно, повергая людей в шок, который имеет свое звучание, преимущественно беззвучное -гробовая тишина или застывшее молчание: люди не издавали ни звука ; не плакали дети , лишь невозмутимо вздрагивали .
Первая реакция, беззвучная, связана с осознанием собственного бессилия и абсолютной незащищенности. На смену приходит отчаяние, которое имеет другой голос: крики, вопли, вой (в голос зарыдала, запричитала женщина, заплакал мальчик). Этот громкий, надрывный, безутешный коллективный плач приводит к катарсису через слезы и означает, что люди поняли неизбежность беды, которая переступила условный порог и пришла в родной дом. В соответствии с античным каноном катарсис продолжается в перерождении героев. В повестях И. Грековой, как будто по античному канону, перерождение маркирует совершенно неуместный в условиях военного времени звук - смех. И тут в подвале грохнул хохот. Смеялись все («Первый налет»). Заметим, что и в этом случае автор использует лексему грохнуть. Возможно, для того чтобы показать: коллективный смех по своей силе равен мощи ревущих в небе самолетов, разрывающихся вражеских бомб. Смех, безусловно, не оружие, но здоровая альтернатива всеобщей панике и страху, подавляющему и парализующему волю. Совершено чужеродные «акустике войны» звуки смеха в произведениях И. Грековой знаменуют психологическое перерождение мирных людей, которые перед лицом конкретного врага, в условиях видимой, осязаемой и хорошо «слышимой» угрозы стали другими. Можно сказать, что в рассказе «Первый налет» очень ярко изображен переломный момент в сознании людей (у И. Грековой - простых обывателей), с помощью изменения «акустики» зафиксирован переход от первого этапа - пугающей неизвестности и бездействия в начале войны - ко второму - к активной борьбе за выживание, сплоченному сопротивлению.
Действующими лицами «второго акта» войны, самого продолжительного этапа, в произведениях И. Грековой являются женщины-матери, дети, старики. При этом действие чаще всего перенесено в глубокий тыл (в Сибирь, на Урал), куда эвакуируют мирное население. Несмотря на отсутствие ярких звуковых характеристик, на текстовом материале можно построить оппозицию акустических образов войны и эвакуации. Персонажи И. Грековой не участвуют в боевых действиях, поэтому звуки настоящей войны смещены на периферию. Сюжетная ось в произведениях И. Грековой проходит вдали от линии фронта, потому что автор пишет об обычных людях, которые живут во время войны, бегут от войны, спасая детей и близких. Акустический образ создается звуками поездов, идущих на Восток ( гудки , грохот состава , стук колес ), и пассажиров, в нестройном «хоре» которых слышнее всех детские голоса: плач грудных детей , гудение детских голосов .
Стук колес автор называет разрывающим 3 и разлучающим 4. Эти «тревожные» эпитеты, характеризующие звук вынужденного дальнего странствия, неслучайны. Для автора война - стихийная, неуправляемая сила, разъединяющая семьи, отнимающая дом, отнимающая у матерей их детей, разрывающая все привычные связи. Эта сила, жестокая, немилосердная к людям и судьбам отдельных людей, способна разделить на части целую страну, притом внезапно, неожиданно (‘рывком’). Потенциальная сема ‘причинять боль’ в ЛЗ глагола разрывать / разорвать обусловливает большую эмоциональность эпитета разрывающий , который передает людскую боль и предчувствие утрат. Люди очень эмоционально переживают эвакуацию: криками , рыданиями , воплями... Эта боль и мука передается даже бездушным машинам, которым неведомо сочувствие: Предчувствуя эту разлуку , каждый раз , рыдая , кричит паровоз («Хозяйка гостиницы»).
Звуки войны ( взрывы бомб , низкий дрожащий гул и рев самолетов ), даже на периферии текста и сюжета, создают необходимый звуковой фон, на котором разворачиваются основные сюжетные линии. Этот фон как будто преследует персонажей и мотивирует их поступки и действия.
В какофонии страшных звуков различимы «свои и чужие»: чужие орудия ревут , гудят басом , издают низкий дрожащий гул , а свои, напротив, описаны словами с положительной коннотацией: азартный , дружелюбный , которые отражают общий эмоциональный подъем (возбуждение, задор 5). Залпы своих орудий вселяют уверенность и сулят надежды на скорое окончание войны: Теплушка просто подскакивала на стыках рельсов . А по крыше барабанил дружелюбный град осколков («Первый налет»). Звуки родной артиллерии привносят гармонию в разрозненный, разорванный мир, они кажутся успокаивающей музыкой, заглушающей страх: Осколки были свои , наши . Как хорошо было мчаться под их музыку , ничего не боясь на свете ! («Первый налет»).
Появление в повествовании слова музыка и сопутствующего ему «эмоционального шлейфа» является маркером перехода к следующему этапу войны, приближающему героев к долгожданной победе. Снова «оживают» в произведениях И. Грековой репродукторы, радиоточки, приемники, сообщая красивым голосом Левитана об освобождении новых городов , передавая что-то бодрое о положении на фронтах . Эти сообщения слышит вся страна. В голосе диктора люди улавливают еще что-то, помимо сухих военных сводок. Они слышат другую - духоподъемную - интонацию, которая только силой звучания способна «склеить», соединить разорванный войной мир. Звуки репродукторов в произведениях И. Грековой будто запускают обратный отсчет месяцев, недель, дней, оставшихся до сокрушительной и окончательной победы. Не случайно, каждую новость с фронта люди переживают исключительно эмоционально: они плачут, кричат, поют песни.
В повестях И. Грековой песни сопровождают героев на протяжении всей войны: их играют на стареньком глубоко расстроенном и на прекрасном белом с золотом рояле , на разбитом пианино, стонущем по ночам . Известные всем мелодии и слова поддерживают людей, окрыляют и одухотворяют. Однако герои не только поют прекрасные , незабвенные военные песни в разных частях нашей страны, но и сочиняют шуточные марши для поддержки самых близких. Например, один из героев (ребенок) сочинил в эвакуации для своих родных « Обезьяний марш ». Такая «рукотворная» музыка для И. Грековой, по-видимому, имеет сакральное значение, неслучайно в ее произведениях музыкальный инструмент нередко равен человеку, он как член семьи, способный сопереживать всем неприятностям, которые выпали на долю его хозяев. Так в доме появился еще один жилец (пианино. - С. Ш. ). Звали его Найденыш... Он смирно стоял в углу , есть не просил .., но имел дурную привычку стонать по ночам («Хозяйка гостиницы»).
О завершении войны люди узнают из приемников - уличных глашатаев в военное время: Всю ночь с 8-го на 9-е .. не отходили от радио. А оно-то наяривало! Целую ночь - веселые песни, марши и танцы («Вдовий пароход»). Музыка конца войны описывается И. Грековой с помощью мета- фор воды: она лилась из репродукторов, она захлестнула людей. Подобное сравнение (вода → люди) используется и для описания людской толпы: ...на Красной площади людей - как воды в половодье. Целуются, обнимаются («Вдовий пароход»). В этом контексте намеренно сталкиваются две сильные стихии – народная и водная, и далее, повествуя о результатах такого столкновения, автор продолжает серию «водных» метафор – море слез и море радости: У кого погибли мужья - ревом ревут, море разливанное («Вдовий пароход»).
Отметим, что «акустический образ» заключительного этапа войны практически идентичен по звуковым характеристикам начальному этапу 6 ( рев , плач , крики , взрывы ). Подобие есть и в наборе артефактов, производящих те или иные звуки. Однако цели звукопорождения уже другие. Так, пушки стреляют не снарядами, а производят победные салюты ( за окнами пушками бахали салюты ). Люди тоже ревут, но уже от восторга и радости ( большая радость , а страшная ). Прагматический потенциал лексем кричать , реветь , грянуть и других единиц с семантикой ‘(громкое) звучание’ позволяет варьировать эмоциональную оценку. Такие слова легко актуализируют полярные эмоции: печаль / горе – радость / ликование 7. Следовательно, громкие звуки коррелируют с сильными эмоциями по степени интенсивности их проявления, а не по содержанию эмоции или ее оценке. Акустический цикл войны замыкается, имеет структуру кольца: победа в войне отзывается теми же звуками, что и ее начало. Но эти звуки имеют совсем другую эмоциональную природу.
Акустическая характеристика пространства художественных событий в период Великой Отечественной войны
Другой составляющей частью хронотопа войны является пространственная характеристика – место художественного действия. Основные локации войны: это эпицентр, сосредоточенный в столичных городах (в Москве и Ленинграде), и города / направления, в которые были устремлены эвакуационные потоки (Урал, Сибирь, Восток, южная приморская деревня), которые в произведениях И. Грековой описаны как островки более или менее спокойной жизни. На передовой звуки войны страшны и интенсивны (разрыв бомб, громкий удар, залп; рушиться, греметь, взвывать, бахать, бухать), а вдали от войны громкий и агрессивный звуковой фон военных событий заглушается звуками природы (звук ветра, стук листьев, буханье волн), нормальной человеческой речи или естественного детского плача.
Акустические характеристики столичных событий представлены различным набором языковых единиц, что указывает на очевидное различие в судьбах военной Москвы и блокадного Ленинграда. Москва подвергалась бесчисленным налетам, целые районы были разрушены бомбежками в течение одного дня или даже нескольких часов. Воздушные атаки сопровождаются звуками тревог и предупреждений, которые за годы войны стали для людей привычными. Многие люди скоро привыкли к этим сигналам, перестали их бояться, потому что устали все время прятаться: Голос из репродуктора привычно скандировал знакомые слова: «Граждане, воздушная тревога», уже не пугал («Вдовий пароход»), несмотря на то, что каждая бомбежка уносила жизни горожан, о чем сообщалось в известиях. И каждое такое сообщение заканчивалось тягостным и страшным звуком (в концепции И. Грековой это тоже звук, причем многозначительный и очень выразительный) – молчанием. Существование рэперных молчаливых точек делает все другие звуки, даже самые страшные, символом и знаком жизни. Логика в этом простая: пока человек способен слышать или производить звуки (шуметь, говорить, петь, кричать…), он жив. Смерть же забирает людей в звенящую холодную тишину. «Мама? Наташа?» – спросила я ... Моя подруга ничего не ответила, но по ее лицу я поняла, что они погибли («Вдовий пароход»). Именно поэтому Ленинград, переживший блокаду, «отмечен» тишиной, осипшими голосами, отсутствием слов - молчанием: Гарусов осип и почти перестал разговаривать, и мать тоже больше молчала («Маленький Гарусов»). Безмолвием передается ужас повсеместных голодных смертей. Однако, пока город оставался жив, в этом тотальном молчании время от времени возникали еле слышные звуки, издаваемые бытовыми предметами: щебетал бородатый чайник, потрескивала буржуйка . Ленинградцы кричали тихо и изредка екали селезенкой, как усталые лошади. Даже вражеские налеты в Ленинграде были не такими громкими, как в Москве. Послышался низкий, дрожащий гул. Словно комар зудел, но зудел басом («Маленький Гарусов»). К моменту эвакуации город почти опустел, даже вороны перестали каркать (их съели), он погрузился в молчание; голод и холод убили все живые звуки: Еще хуже голода был холод. Голод был только внутри, а холод - и внутри, и снаружи ... Холод был огромен и занимал весь мир («Маленький Гарусов»).
По сравнению с центрами, места новой дислокации эвакуированных жителей столиц наполнены звуками спокойной жизни (разговорами, плачем грудничков, гудящими школьными классами). Звуки войны превращаются в отзвуки. Самые громкие и выразительные звуки войны в эвакуации - это грохотание эшелонов , крики раненых и голос диктора по радио. Однако для эвакуированных новый ландшафт и место обитания непривычны и чужды. Они в более или менее устроенном быте, в относительной сытости и размеренности жизни испытывают острую тоску по родным местам, по неспешным европейским листопадам . Здесь звучат незнакомые слова (например, пимы вместо валенки ), здесь даже смерть встречают по-другому, с оркестром, как в мирное время: Марья Федоровна умерла . Хоронили ее всем детдомом . Впереди шел оркестр и дудел в полторы трубы... На кладбище пели птицы («Маленький Гарусов»).
«Акустический образ» военной Москвы также музыкален. Кроме военных песен, в Москве звучит и классическая музыка, и частушки, и патриотические марши (Бетховен , Чайковский, пьески, хор Пятницкого), мелодии передают по радиоточке, но чаще их исполняют вживую: тренькают на гитаре , подбирают на пианино / рояле, исполняют на гармонике или просто мурлычут без слов. Музыка выполняет «профилактическую функцию», она лечит и реабилитирует искалеченные войной души и тела. И. Грекова как будто уверена в «целебных» свойствах музыки, поэтому настойчиво предлагает самое гуманное и правильное средство - от одиночества и горя, от тоски и увечий, от войны: Никогда я не думала, что маленьким детям так нужна музыка! Они впитывали ее, как сухая земля пьет воду. Грудные плакали, жалуясь на судьбу. Но как только я начинала играть, они замолкали и слушали («Вдовий пароход»).
И. Грекова часто использует единицы лексико-семантического поля МУЗЫКА для метафорической характеристики звучания того или иного явления ( самолет гудел басом , осколки барабанят по крышам , церковный звон звучит перекличкой басовых и дискантовых нот ). Можно говорить о своеобразной стилистической авторской манере - наполнять текст музыкой: в прямом и переносном смысле. Особенностью военных произведений является то, что музыка не только создает исторический и реалистичный фон, но и помогает выразить эмоции. Это способ эмоциональной разрядки - для персонажа и для читателя (в текстах цитируются частушки , песенки ). Простота таких текстов обеспечивает их легкое и быстрое запоминание, неслучайно они, не имея письменной формы, передаются изустно - от человека к человеку. Феномен военной песни заключается в объединяющей силе: поющие чувствуют свою причастность к большому делу и большому народу ( военные песни , патриотические марши ). Песни помогают аккумулировать жизненный опыт целого коллектива (поколения) и транслировать его. В общем, любые тематические песни (военные, похоронные, свадебные и др.) представляют собой «живые свидетельства» истории о том или ином событии, традиции или явлении. При этом они аккумулируют не только содержание, но и настроение. Военные песни не являются исключением.
Именно поэтому песенные репрезентаты концепта МУЗЫКА в произведениях о войне позволяют создать в художественном тексте «естественную среду», передать ее настроение и характер.
Акустическая характеристика участников Великой Отечественной войны
Как неоднократно отмечалось выше, героями произведений И. Грековой являются женщины (матери и вдовы), маленькие дети, интеллигентные старики, т. е. не-участники военных битв и сражений. С точки зрения
«акустического образа» интересна, прежде всего, оппозиция «ребенок» – «взрослый». Второстепенным является противопоставление «военные» – «гражданское население».
Во всех рассмотренных повестях И. Грековой обязательно «действуют» дети. В отдельных произведениях («Маленький Гарусов», «Фазан» 8) война представлена «глазами ребенка». Такой художественный прием понятен и оправдан: дети реагируют на войну иначе, чем взрослые. Кроме того, малолетние дети, не имея устойчивых привычек, быстрее адаптировались к войне: Каждую перемену он (Гарусов. – С. Ш .) воспринимал как должное и сразу в нее врастал . Скоро он до того укрепился в блокаде , будто ничего другого никогда не было («Маленький Гарусов»). У И. Грековой в качестве персонажей выступают дети двух категорий: малыши и груднички.
Начало войны малыши приняли за игру – с новыми участниками: во время Первой мировой мальчишки играли в войну с немцами , с австрияками , а потом стали играть не в Испанию и Халхин-Гол , а в войну с фашистами . Одного мальчика с соседнего двора так и прозвали « Гитлер » – очень на него был похож , и сильно ему за это доставалось («Маленький Гарусов»). В картине мира детей, не умеющих читать, а следовательно, не имеющих зрительного представления об облике многих слов, в том числе вербализующих войну, слух является «окном» во взрослый мир. Поэтому в произведениях И. Грековой дети так часто занимаются толкованиями: реформа – нота « ре » перед формой , овраг – враг и проч.
Грудные (часто сироты) не имеют никакого представления о войне, они на громкие звуки войны откликаются громким же плачем, ревом или – невозмутимо вздрагивают . Для этих детей, которые впоследствии оказались в эвакуации, война так и осталась страшным словом, несмотря на то, что они столкнулись лишь с ее последствиями.
Конечно, их бессознательная жизнь в военное время протекает естественно: у них режутся зубы, они учатся есть из ложечки, говорить «мама», смеяться. Вдруг раздался совсем особый смех - тоненький, захлебы -вающийся, словно лопались пузырьки, наполненные визгом. Это смеялся Грудной. Он лежал на своей сетке и ликовал. Сегодня он научился смеяться («Первый налет»). Они сами производят мощный и жизнелюбивый акустический фон нормальной человеческой жизни, повизгивая, вопя, всхныкивая.
Большое количество персонажей-детей в текстах И. Грековой не случайно: она пишет о мире во время войны, а мир «формируют» женщины и дети, вернее так: женщины, которые отдают себя детям, живут для и ради детей. Для женщины ребенок – это «преобразователь» акустики и оптики жизни. Женский слух самой природой приспособлен к тому, чтобы слышать ребенка, детский голос. При этом женщина первая, кого слышит ребенок. Героини И. Грековой не делают различий между своими и чужими детьми, воспитывают всех. А воспитание музыкой – уникальный метод, отсюда детские песенки, пьески ( Детский альбом Чайковского , « Болезнь куклы », « Похороны куклы »), домашние игры (« Обезьяний марш », « Ария воблы » 9).
Звуки войны создают не только образ грозного и сильного врага, но и дают представление о том, как меняется ситуация в военном противостоянии. Действия нашей армии, невидимой глазу, в произведениях И. Грековой проходят звуковым фоном и всегда имеют в тексте положительную коннотацию: Одна зенитка кричала : «Я здесь !» А другая - в ответ ей : « И я здесь , и я !» « И мы здесь , и мы !» – целым хором подхватывали остальные («Первый налет»). Эти обнадеживающие звуки закончились победным аккордом.
Итак, анализ акустического образа войны на материале повестей И. Грековой показал, что через использование лексических единиц с семантикой ‘звук / звучание’ создается целостный, многослойный и разноплановый образ Великой Отечественной войны, который удается реконструировать и систематизировать с помощью литературоведческих понятий «хронотоп» и «система персонажей». В авторской картине мира И. Грековой время, место и субъекты одного сюжетного (и реального) события обладают специфическим качеством звучания. Акустический образ – один из ярких стилистических приемов, которым мастерски владеет и пользуется автор.
Материал поступил в редколлегию 25.02.2016
Novosibirsk State University
1 Pirogov Str. , 630090 , Novosibirsk , Russian Federation
THE ACOUSTIC IMAGE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN I. GREKOVA'S STORIES