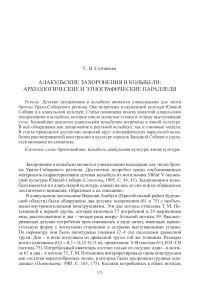Алакульские захоронения в колыбели: археологические и этнографические параллели
Автор: Сотникова С.В.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Проблемы и материалы
Статья в выпуске: 244, 2016 года.
Бесплатный доступ
Детские захоронения в колыбели являются уникальными для эпохи бронзы Урало-Сибирского региона. Они встречены в окуневской культуре ЮжнойСибири и в алакульской культуре. Статья посвящена поиску аналогий алакульским захоронениям в колыбели, которые имели вогнутые стенки и острые выступающие углы. Ближайшие аналогии алакульским колыбелям встречены в ямной культуре.В ней обнаружены как захоронение в реальной колыбели, так и глиняные модели.В статье приводится достаточно широкий круг этнографических параллелей колыбелям рассматриваемой конструкции в культуре народов Западной Сибири и уделяется внимание их семантике.
Бронзовый век, колыбель, алакульская культура, ямная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14328331
IDR: 14328331
Текст научной статьи Алакульские захоронения в колыбели: археологические и этнографические параллели
В алакульском могильнике Верхняя Алабуга (Притобольный район Курганской области) были обнаружены два детских захоронения (61 и 75) c необычными внутримогильными конструкциями. Эти две могилы отнесены Т. М. Потемкиной к первой группе, которая включала 57 погребений и 24 жертвенные ямы, расположенные в два – четыре ряда вокруг большой могилы 59. Рассматриваемые детские погребения прослеживались в виде пятен, имеющих прямоугольную форму с вогнутыми сторонами и острыми выступающими углами. По периметру они были оконтурены тонкими (2–4 см) полосками древесной трухи. Дно – в виде полуовала из древесной трухи той же толщины. Размеры могил одинаковы (0,5 х 0,3 х 0,12-0,15 м), ориентация: З-В (могила 61), ЮЗ-СВ (могила 75). Погребальный инвентарь состоял только из сосудов: один – в могиле 61 и два – в могиле 75. Т. М. Потемкина интерпретировала такие конструкции как «остатки корытообразных люлек, в которых были захоронены грудные младенцы» (Потемкина, 1985. С. 163, 175). Костяки погребенных в обеих могилах отсутствовали, но это не означает, что их не было в момент захоронения. Как отмечает Т. М. Потемкина, в большинстве захоронений этого могильника костяки не сохранились, ориентация погребенных определялась по положению сосудов и сохранившихся зубов (Потемкина, 1985. С. 163). Так как зубов в описываемых могилах также не обнаружено, можно предположить, что в них захоронены младенцы, умершие до появления зубов.
Автором был исследован алакульский могильник Ермак-IV в Нововаршавском районе Омской области, где обнаружены два подобных детских захоронения – № 24 и 25, которые входили в группу детских погребений, локализованных вокруг двух взрослых могил. Устройство внутримогильной камеры в этих детских погребениях имеет прямые аналогии с захоронениями из могильника Верхняя Алабуга.
Могила 24 прослеживалась на материке в виде пятна серого цвета, имеющего форму прямоугольника с вогнутыми сторонами и острыми углами. Пятно оконтурено тонким слоем древесного тлена, толщиной 2–3 см. Яма (размером 0,6 х 0,2 м и глубиной 0,1 м от уровня материка) ориентирована по линии СЗЗ-ЮВВ. Ребенок младенческого возраста захоронен в скорченном положении, на левом боку, головой на СЗЗ. В головах – сосуд.
Могила 25 прослеживалась на материке в виде пятна серого цвета, имеющего форму прямоугольника с вогнутыми сторонами и выступающими углами. Пятно оконтурено тонким слоем древесного тлена, толщиной 2-3 см. Яма (0,6 х 0,4 м, глубина 0,07 м от уровня материка) ориентирована по линии ЮЗ–СВ. В могиле находились кости младенца плохой сохранности: несколько фрагментов черепа, кости рук и ног. Судя по их расположению, умерший лежал скорченно, на левом боку, головой на ЮЗ. В головах – сосуд ( Сотникова , 1987. С. 6).
Таким образом, можно сделать вывод, что у населения алакульской культуры существовал особый ритуал захоронения определенной группы младенцев (возможно, до появления зубов) – в колыбелях.
Аналогии в памятниках ямной КИО. Участие ямного населения в сложении памятников синташтинского типа в последнее время оспаривается многими исследователями. Вместе с тем именно в ямной культуре имеются достаточно близкие параллели рассматриваемым алакульским захоронениям. Это единственное пока для ямной культуры погребение в колыбели открыто в кургане 6 у с. Новоалександровка (в 22 км к югу от Днепропетровска). Основным в кургане было постмариупольское погребение, для которого и была возведена первичная насыпь. Детское погребение 5 являлось вторым по времени впуска ямным погребением кургана, его могила вырыта с поверхности насыпи II, относящейся к ямному захоронению 2. На уровне впуска размеры входной ямы составили 1,65 х 1,15 м. При углублении до 1,48 м с уровня впуска вдоль стен был прослежен уступ, ниже которого размеры ямы уменьшились до 0,8 х 0,45 м. Ее перекрывала гранитная плита, взятая из кромлеха, заходящая на 10–15 см за края ямы, что обеспечивало плотное прилегание. Поэтому к моменту раскопок могила оставалась незаполненной грунтом. Это позволило проследить устройство внутримогильного сооружения. Оно представляло собой конструкцию из ошкуренных жердей и тонких, расщепленных вдоль прутьев, образующих плетенку, соединявшуюся с жердями посредством свитого в две пряди из лыка (ивовой коры?) шнура. Фрагменты жердей оконтуривали яму изнутри и имели слабую дуговидную изогнутость. Куски плетенки встречались под стенками по всей глубине ямы и на дне. Жерди на дне могилы отсутствовали. Скелет ребенка (до полутора лет) лежал на плотной органической (возможно, кожаной) подстилке. Костяк, ориентированный головой на ЮЗ, располагался на спине, кости рук параллельны туловищу, ноги согнуты коленями вправо и в стопах подтянуты к тазу, что позволяет реконструировать первоначальное положение «коленями вверх». Череп и подстилку под ним окрашивала охра. В головах – сосуд. И. Ф. Ковалева считает, что колыбель имела вид прямоугольного плетенного из жердей и прутьев короба с вставным дном из кожи или плотной ткани (Ковалева, 1998. С. 40–42).
С алакульскими эту ямную конструкцию сближает, прежде всего, вогнутая форма жердей верхнего каркаса колыбели, что отчетливо заметно на плане погребения. И. Ф. Ковалева объясняет это тем, что длина колыбели несколько превышала длину ямы и ее потребовалось слегка согнуть при помещении в могилу (Там же. С. 41. Рис. 1, 2 ).
Сходство алакульской и ямной колыбелей нельзя считать случайным. Некоторые исследователи, в частности Н. Л. Моргунова, отстаивают гипотезу об участии населения ямной культуры Приуралья вместе с другими группами как приуральского, так и зауральского населения в формировании аркаимо-син-таштинского комплекса ( Моргунова , 2002. С. 114), который, в свою очередь, связан с памятниками петровского типа и алакульскими. Выводы Н. Л. Моргуновой находят достаточно убедительное подтверждение в антропологическом материале. А. Г. Козинцев отмечает, что алакульцы могильника Ермак-IV не имеют ни одной близкой параллели, а наименее удалены от них поздние ямники Калмыкии ( Козинцев , 2009. С. 129).
В погребальном обряде ямного населения степного правобережья Днепра и Надпорожья также выявлены следы «культа колыбели», который проявлялся в акте помещения в детские могилы глиняных моделей. По форме они полностью соответствуют реальной колыбели новоалександровского типа. Одна из моделей была найдена в детском погребении 1 кургана у с. Павловка. Модель имела мелкие насечки на внешней поверхности стенок. По мнению И. Ф. Ковалевой, они передают характер материала и технику плетения из прутьев, а слабовыпуклое дно соответствует провисающему дну колыбели, изготовленному из ткани или кожи, что подтверждается также отсутствием имитирующих плетенку насечек на дне модели. Глиняная колыбель имела отверстие для подвешивания в одной из стенок. Модель колыбели найдена вместе с тремя костяными амулетами-фетишами и шариком алой охры диаметром 2,5 см. В состав инвентаря входили также два типичных ямных сосуда (Ковалева, 1998. С. 42. Рис. 1, 4). Аналогичная модель колыбели происходит из кургана «Луговая могила» у с. Веселое вблизи Мелитополя (раскопки Д. И. Яворницкого). Ребенок 1–1,5 лет захоронен скорченно, на спине, головой на В. При нем найдено «черноглиняное корытце» со сквозной дырочкой в каждом углу (для подвешивания), орнаментированное косыми и прямыми глубокими бороздками, также имитировавшими плетение из прутьев. Рядом найдены подвески из волчьих клыков, служившие, по мнению И. Ф. Ковалевой, оберегами. Таким образом, в погребальном обряде ямного населения данного региона «колыбельный» культ проявлялся не только в виде помещения в детские могилы глиняных моделей колыбели, но и антропозоо-морфных фетишей, «флейты Пана» (трубчатые птичьи кости различной длины), комочков охры (Ковалева, 1998. С. 42, 43).
Аналогии в памятниках катакомбной КИО. При характеристике погребений с вогнутыми стенками можно принять во внимание следующий момент. В памятниках катакомбного времени Предкавказья зафиксированы ямы необычной формы, для которых характерны вогнутые посередине стенки, оттянутые углы и иногда овальные углубления ниже уровня дна по углам ямы (речь идет скорее о погребениях взрослых. – С. С. ). Существуют три интерпретации данной конструкции: 1 – дно ямы оформлялось в виде курильницы на четырех отдельно стоящих ножках, посередине которой лежал погребенный; 2 – форма ямы имитировала разобранную повозку; 3 – формы ям повторяют форму растянутой шкуры животного. Е. В. Избицер считает, что первые две версии не могут быть приняты по следующим причинам. Первую версию, несмотря на красоту идеи, подтвердить невозможно. Помещение умершего как бы на жертвенном месте предполагает наличие определенного мировоззрения, о котором у нас нет соответствующих данных. Кроме того, четыре овальных углубления, интерпретируемые как ножки курильницы, присущи не всем ямам, а только их части. Относительно второй версии она отмечает, что идея помещения в погребение разобранной повозки характерна, прежде всего, для погребений ямной культуры, когда повозку разбирали, кузов клали на перекрытие, а колеса – по углам кузова, практически возле углов ямы. Традиция разбирать их исчезает в Предкавказье с развитием обряда погребения с целой повозкой. И в связи с этим Е. В. Избицер обращает внимание на те катакомбные погребения, где в ямах рассматриваемой формы обнаружены целые повозки, установленные частично на перекрытии ямы, частично – на площадке или непосредственно в яме. Причем, замечает она, наличие повозки непосредственно в могиле не влияло ни на форму ямы, ни на форму камеры или шахты катакомбного погребения.
Отвергнув эти две версии, Е. В. Избицер обращается к третьей интепрета-ции, когда исследователи при описании ям с вогнутыми стенками называют их «шкурообразными». По ее мнению, именно это определение наиболее правильно отражает форму и суть данного явления. В различных пропорциях формы ям с вогнутыми стенками повторяют форму растянутой шкуры животного. Если учесть, что внутреннее устройство могилы оформлялось в виде дома, то логичнее предположить, что дно ямы оформлялось в виде кровати, постели. Постелью служили шкуры, они-то и придавали форму могильным ямам. Е. В. Избицер считает, что данную традицию не следует связывать исключительно с катакомбной культурой. Изогнутость стенок могильных ям является устойчивой чертой значительной части погребений северокавказских и предкатакомбной культурной группы Прикубанья. При интерпретации формы ям исследователи не связывают эти группы погребений между собой, так как они имеют различные хронологические позиции и центры распространения. Появление такой формы ямы у ка-такомбников может указывать на ассимиляцию местного населения пришлой культурой ( Избицер , 1996. С. 76–78; 2004).
С детскими погребениями алакульской культуры рассматриваемые катакомбные погребения сопоставить достаточно сложно. Но если принять во внимание возможное участие катакомбного населения в сложении синташтинской культуры, что признается многими исследователями ( Ткачев , 2007. С. 261–269; и др.), то представляет несомненный интерес бытование в катакомбной среде традиции сооружения ям с вогнутыми стенками, уходящей в еще более далекое прошлое. Не исключено, что наиболее древние традиции могли сохраняться именно в детской погребальной обрядности, как наиболее консервативной.
Этнографические параллели ямно-алакульской традиции конструкции колыбели. Наиболее близкую этнографическую параллель данной конструкции колыбели И. Ф. Ковалева находит в украинской этнографии. По ее мнению, наиболее близка ямной колыбели по форме, материалу и способу изготовления полесская «колыска». В подтверждение своих выводов она приводит этнографические свидетельства Ф. К. Волкова о колыбелях типа «колыски», который писал, что эта мебель на Украине никогда не бывает стоящей (на ножках или дуговых подставках), а всегда висящая. Иногда это была просто деревянная рама с подвешенным к ней прямоугольным полотняным мешком, иногда – лубяная корзина с полотняным дном или деревянная коробка, порой очень красивой формы (по: Ковалева , 1998. С. 41, 42).
Достаточно широкий круг этнографических параллелей для археологических захоронений в колыбели, представленных в ямных и алакульских могильниках, можно найти в культуре народов Западной Сибири. Поэтому представляется вполне обоснованным обратиться к сибирской этнографии.
Население ямной КИО рассматривается как индоевропейское. Алакульское, петровское и синташтинское население большинство исследователей связывают с индоиранцами. Контакты индоиранского и угорского населения уходят в глубокую древность. При поиске аналогий важно учитывать не только сам факт захоронений в колыбели, но и принимать во внимание весьма простую форму ямной и алакульских колыбелей.
У обских угров, селькупов, кетов новорожденного ребенка помещали в специальную неорнаментированную берестяную колыбель, имеющую прямоугольную или овальную форму, в которой ребенок находился до 3–8-месячного возраста, до появления первых зубов. У манси первый вид колыбели назывался няврам сан (букв. ‘ребенка сосуд’). Он представлял собой неорнаментированное берестяное вместилище прямоугольной формы, стенки которого скреплялись так же, как стенки одного из видов берестяной утвари – чумана. В таких колыбелях дети находились до 3–4 месяцев. Затем их перемещали в орнаментированные берестяные колыбели, которые подразделялись на дневные и ночные. У селькупов первая колыбель (питы, тей-питы) для новорожденного изготовлялась из цельного куска берестяного полотнища. С углов делали прорези по диагонали, края загибали, прошивали, получались борта. Вдоль верхнего края бортов колыбели для прочности прокладывали обруч – черемуховый прут, пришитый к бортам черемуховой саргой через край. С помощью ремней, пришитых к бортам колыбели, она подвешивалась в жилище. Колыбель служила детям до 3–4-месячного возраста и была одинаковой для мальчиков и девочек. У кетов берестяную колыбель изготовляли женщины. Она считалась временной и использовалась до 6–8-месячного возраста ребенка (до появления у него первых зубов). Люлька представляла собой удлиненный овальный или прямоугольный короб, сшитый из одного листа бересты. Первые 3–5 дней колыбель стояла на полу, подвешивать ее сразу запрещалось. Такую колыбель делали для каждого ребенка заново, однако старую не выбрасывали, так как с ней связывали благополучие ребенка (Хомич, 1988. С. 28, 30, 33).
На основании западносибирских параллелей можно предположить, что ям-ные и алакульские конструкции представляют собой первую колыбель ребенка, где он находился, возможно, до появления первых зубов. Если ребенок умирал в этот период, то его в ней и хоронили. К тому же у рассматриваемых западносибирских народов существовала традиция, согласно которой в случае смерти ребенка его колыбель портилась и оставлялась у захоронения (кеты) или у колыбели портили дно и вешали на дерево (селькупы) (Там же. С. 29, 32). Тогда изогнутость сторон у колыбелей эпохи бронзы можно объяснить тем, что у них портили дно, в результате чего вместилище переставало держать форму и, будучи помещенным в землю, быстро деформировалось. Возможен и другой вариант объяснения дугообразной формы стенок у археологически зафиксированных колыбелей: дно их изготавливалось из кожи, которая истлевала в земле раньше, чем деревянные стенки, и поэтому происходила их деформация. Впрочем, одно предположение не исключает другого. Возможно, имели место сразу обе причины, которые и привели к изгибу стенок.
Ритуал захоронения ребенка в колыбели был широко распространен среди угро-самодийских народов. Как правило, так хоронили грудных детей до года. Считалось, что младенец – природное существо, которое находилось на границе двух миров: природного и культурного. Показателями перехода в новое, человеческое состояние считались первая улыбка, появление зубов, зарастание пуповины, наречение именем и т. д. Беззубый младенец находился между двух миров, поэтому его стремились помещать внутрь тех объектов, которые эти миры соединяли. Ханты и манси хоронили детей (в частности, выкидышей, мертворожденных, а также не имеющих зубов) под корнями и в дуплах деревьев, завертывая их в бересту, или погребали в берестяных коробках, люльках. Ненцы привязывали умерших детей в люльках к деревьям (Семейная обрядность…, 1980. С. 130, 145).
Сибирский этнографический материал позволяет объяснить некоторые особенности захоронений в колыбели из алакульского могильника Верхняя Алабуга, где костяков детей не обнаружено, а сосуды занимают практически все свободное пространство могилы.
По представлениям хантов, детей посылает богиня Калтащ-Анки (Обдор-ско-Казымский, Нижнеобской ареалы) или Анки-Пугос (Аганско-Васюганский, Юганско-Пимский ареалы) ( Дрянкова , 2001. С. 16). Согласно алтайским (хакасским) верованиям, хранительница душ Ымай идже живет на горе Ымай-тасхыл. К этой горе и направлялся шаман за душами будущих младенцев ( Бутанаев , 1984. С. 96, 97).
Материальным воплощением связи родившегося младенца с природной богиней-матерью являлась пуповина (послед), которая носила имена этих богинь – калтащ, пугос, анки, сян, умай – и связывала ребенка с его покровителя- ми. Ханты верили, что неправильное обращение с пуповиной могло принести вред ребенку. Во избежание этого пуповину после отпадения, завернув в тряпку, привязывали к дереву или прятали в укромное место. Пуповины родившихся детей мать носила на поясе зашитыми в треугольные мешочки. Ваховские ханты отпавшую пуповину зашивали в мешочек и подвешивали к колыбели, васюган-ские помещали в берестяной туесок и вешали на елку или сосну (Дрянкова, 2001. С. 24).
Большое значение придавалось также действиям с последом. По представлениям хантов, послед был первым обиталищем ребенка и принадлежал богине Калтащ-Анки. Поскольку Калтащ ведала деторождением, послед обязательно «возвращали» ей. Послед мыли, заворачивали в чистую тряпку или тальниковую стружку и помещали в специальную берестяную емкость вончап. Тромъеганские ханты заворачивали послед в две тряпки, помещали в берестяной туесок, который зашивали корнем кедра, и подвешивали к дереву. Юганские ханты обряжали послед «как куклу» – в платок и халат-сах, перевязанный поясом. Возвращение последа сопровождалось угощением, которое устраивали женщины селения в лесу (Там же. С. 24). М. В. Кулемзин и И. В. Лукина отмечали, что в некоторых случаях васюганско-ваховские ханты закапывали послед в землю, предварительно завернув его в чистую тряпку ( Кулемзин, Лукина , 1977. С. 210). Хакасы захоранивали послед в юрте с соблюдением целого ряда церемоний. Как отмечает А. М. Сагалаев, «эти ритуалы объединяет единая цель: послед возвращается миру природы, как бы в обмен на ребенка, получаемого обществом» ( Сагалаев , 1991. С. 74).
Возможно, верхнеалабугские алакульские погребения могли использоваться для захоронения пуповины или последа, учитывая, что костяки в них отсутствовали, основное пространство могилы было занято сосудами, и практически не оставлено места для захоронения ребенка.
Таким образом, погребальные конструкции с вогнутыми стенками, вероятно, имели двоякое значение. Во-первых, они использовались как колыбели для захоронения младенцев до года. Достоверные захоронения младенцев в колыбели имеются только в алакульском могильнике Ермак-IV (два погребения) и в ям-ном погребении у с. Новоалександровка возле Днепропетровска. Во-вторых, они могли использоваться как берестяные емкости для захоронения пуповины или последа, как, возможно, в алакульском могильнике Верхняя Алабуга, где следов костяков не обнаружено, но зафиксированы сосуды. Кроме того, глиняные модели «колыбелей» из ямных захоронений также могли применяться как емкости для захоронения последа или пуповины. В таком случае этнографический материал позволяет по-иному взглянуть на находки глиняных моделей колыбелей в ямных детских погребениях.
Представляется, что образ колыбели имел достаточно сложную семантику. В нем одновременно заключены и начало и завершение жизненного цикла. Согласно традиционным представлениям обско-угорского населения, смерть человека рассматривалась не как завершение пути, а всего лишь как этап в круговороте жизни. По представлениям васюганских хантов, человек после смерти, благодаря обратному течению времени, «доживал» до дня рождения и возвращался к живым в виде младенца ( Кулемзин , 1984. С. 104, 105). Образ колыбели был тем звеном, которое не позволяло человеку выпасть из круговорота жизни.
А. М. Сагалаев отмечает, что «при всех попытках традиционного мироощущения “поселить” богиню-мать на небесах мы видим постоянное ее соскальзывание к земным, хтоническим образам и символам, через которые удается раскрыть идею плодоносящего чрева. Обращает на себя внимание явный параллелизм образов, через которые удается раскрыть идею плодоносящего чрева. Это гора, пещера, дупло, колыбель, т. е. образы, изоморфность которых не вызывает сомнений. Так или иначе, это метафоры рождающего лона природы, исторгающего жизнь и становящегося пристанищем после завершения земного пути» ( Сагалаев , 1991. С. 71).
Список литературы Алакульские захоронения в колыбели: археологические и этнографические параллели
- Бутанаев В. Я., 1984. Культ богини Умай у хакасов//Этнография народов Сибири/Отв. ред.: И. Н. Гемуев, Ю. С. Худяков. Новосибирск: Наука. С. 93-105.
- Дрянкова О. О., 2001. Обычаи и обряды, связанные с рождением ребенка у хантов//Проблемы истории и филологии/Отв. ред.: Т. Е. Казакова, С. В. Хабарова. Тобольск: ТГПИ. С. 18-33.
- Избицер Е. В., 1996. К вопросу о форме погребальных ям в культурах эпохи средней бронзы Предкавказья//Древности Волго-Донских степей в системе восточноевропейского бронзового века: материалы междунар. науч. конф. (Волгоград, 15-17 апр. 1996 г.)/Ред. А. В. Кияшко. Волгоград: Перемена. С. 76-78.
- Избицер Е. В., 2004. Модели «повозок», «флейты Пана» и северокавказская культура//Археолог: детектив и мыслитель. Сб. статей, посвящ. 77-летию Л. С. Клейна/Отв. ред.: Л. Б. Вишняцкий, А. А. Ковалев, О. А. Щеглова. СПб.: СПбГУ. С. 409-421.
- Ковалева И. Ф., 1998. Мир детства ямных племен Предстепья//Проблемы археологiї Поднiпров'я/Вiдп. ред. I. Ф. Ковальова. Днiпропетровськ: ДДУ Вип. 1. С. 37-47.
- Козинцев А. Г., 2009. О ранних миграциях европеоидов в Сибирь и Центральную Азию (в связи с индоевропейской проблемой)//АЭАЕ. № 4 (40). С. 125-136.
- Кулемзин В. М., 1984. Человек и природа в верованиях хантов. Томск: Томский ун-т. 189 с.
- Кулемзин В. М., Лукина Н. В., 1977. Васюганско-ваховские ханты в конце XIX -начале XX в. Томск: Томский ун-т. 226 с.
- Моргунова Н. Л., 2002. Проблемы изучения ямной культуры Южного Приуралья//Проблемы археологии Евразии: К 80-летию Н. Я. Мерперта/Отв. ред. Р. М. Мунчаев. М.: ИА РАН. С. 104-116.
- Потемкина Т. М., 1995. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М.: Наука. 376 с.
- Сагалаев А. М., 1991. Урало-алтайская мифология. Символ и архетип. Новосибирск: Наука. 156 с.
- Семейная обрядность народов Сибири (опыт сравнительного изучения)/Отв. ред. И. С. Гурвич. М.: Наука, 1980. 240 с.
- Соколова Л. А., 1995. Погребение в колыбели окуневского могильника Уйбат V//АВ. № 4. С. 44-51.
- Сотникова С. В., 1987. Отчет о раскопках могильника Ермак-IV в Нововаршавском районе Омской области в 1986 г.//Архив ИА РАН. Ф. Р-1.
- Ткачев В. В., 2007. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. Актобе: Актюбинский областной центр истории, этнографии, археологии. 384 с.
- Хомич Л. В., 1988. Колыбель у народов Сибири//Сборник МАЭ. Л.: Наука. Вып. XLII. C. 24-49.