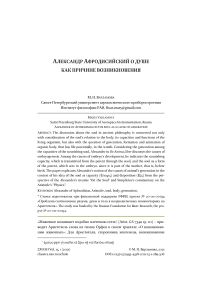Александр Афродисийский о душе как причине возникновения
Автор: Варламова Мария Николаевна
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.15, 2021 года.
Бесплатный доступ
Разговор о душе в античной философии связан не только с обсуждением соотношения души и тела и способностей души или функций одушевленного организма, но и с вопросом о том, каким именно образом душа составляется с телом при рождении и как формируется органическая структура, которая может быть подлежащим души. В связи с обсуждением порождения как одной из функций питающей души Александр в De anima liber обсуждает причины возникновения животных в утробе. Среди причин возникновения он указывает питающую способность, которая передается от родителя через семя, и душу как форму родителя, которая действует в эмбрионе, поскольку он является частью матери, то есть до рождения. В статье эксплицируется представление Александра о причинах развития плода в контексте его представления о душе как способности (δύναμις) и состоянии (ἕξις) на материале трактата Александр «О душе» и комментария Симпликия на «Физику» Аристотеля.
Александр афродисийский, аристотель, душа, тело, возникновение
Короткий адрес: https://sciup.org/147215906
IDR: 147215906
Текст научной статьи Александр Афродисийский о душе как причине возникновения
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-011-00094 «Проблема соотношения разума, души и тела в позднеантичных комментариях на Аристотеля». The study was funded by the Russian Foundation for Basic Research, the project № 20-011-00094.
«Животное возникает подобно плетению сети»1 (Arist. GA 734a 19–20) – приводит Аристотель слова из гимна Орфея в своем трактате «О возникновении животных». Для Аристотеля, сторонника эпигенеза, возникновение
животного является сложным процессом, в рамках которого из семени, содержащего в себе некую возможность души и движущую силу2, переданную от родителя, последовательно возникают все новые части живого, а значит – одушевленного – тела. Эти части будущего животного не содержатся в семени, но возникают в утробе матери.3 Последовательное возникновение сложного организма из малого количества материи Аристотель сравнивает с движением чудесных автоматов (τὰ αὐτόµατα τῶν θαυµάτων), при котором мастер приводит в движение первую часть, эта часть, в свою очередь, приводит в движение следующую, и так последовательно приходят в движение все части целого4 ( GA 734b 6-17). Но также он приводит и другой пример, сравнивая возникновение с плетением сети – поскольку в процессе возникновения происходит не только передача движения от одной возникающей части к другой, но и последовательное усложнение органической структуры: возникшие органы не просто следуют друг за другом, но образуют единое целое, в котором действуют все части в совокупности, причем каждая из частей имеет свою действенность только в рамках этого целого. Совокупное действие органических частей возникающего животного происходит, поскольку животное, хотя его возникновение еще не завершилось, уже является одушевленным и живым – изначально в нем действует растительная душа, но, с формированием соответствующих органов, оно получает животную душу ( GA 736a 22 – 736b 15).
Впоследствии взгляд Аристотеля на развитие эмбриона обсуждался как в отдельных трактатах, так и в комментариях на «Физику» и «О душе», и в первую очередь комментаторы обсуждали причины возникновения и порядок одушевления животного. В данной статье я рассмотрю взгляды Александра Афродисийского на развитие и одушевление эмбриона. В дошедших до нас текстах Александр лишь изредка касается вопросов эмбриогенеза, поэтому задача данной статьи состоит в том, чтобы собрать и изложить эти места и проинтерпретировать их, исходя из общего контекста учения Алек- сандра о душе и живом организме. Для понимания того, как Александр трактовал причины эмбриогенеза и процесс одушевления эмбриона, я буду опираться на два места из его трактата «О душе»5 и также на аргументы Александра, которые Симпликий приводит в своем комментарии на «Физику» Аристотеля.6
Жизнь плода в утробе
Однако прежде, чем приступить к Александру, я предлагаю обратить внимание на место из комментария Филопона на «О душе», где он приводит различные аргументы в отношении одушевления и жизни эмбриона и тем самым обозначает спектр мнений античных философов о том, чем является эмбрион.7
Итак, аргументы, приведенные Филопоном, условно можно разделить на три позиции8:
-
1) Эмбрион не является живым, поскольку жизнью называется питание и рост, которые тело осуществляет через самого себя, то есть посредством собственных органов. Животное, которое само находит пищу и питается через рот, является живым, но эмбрион, который получает питание от матери через пуповину, нельзя назвать ни животным, ни обладающим жизнью (Philop. In De An. 213.8–11).
-
2) Плод является живым, но не является животным. Питание эмбриона все же происходит через его собственные органы, поскольку питание – это не только поглощение, но и усвоение пищи. Пища, которую эмбрион получает от матери через пуповину, усваивается его собственными органами и с кровью поступает в каждую часть тела также, как и у завершенных животных ( In De An. 213.19-23). Мать лишь подготавливает пищу для плода, который пока неспособен получить ее через рот. Поскольку плод питается, ис-
- пользуя собственные органы, то это питание становится причиной роста – рост его происходит из него самого, благодаря работе его собственных органов, а также согласно стадиям и мере, как у живого существа, а не без меры, как у огня. Однако плод, хотя он и является живым, не способен жить животной жизнью именно потому, что он не способен к самостоятельному питанию через рот и к движению по месту в поисках пищи. Плод соединен с матерью и зависит от нее, как растение соединено с землей и получает из земли питание, поэтому эмбрион ведет не животную, но растительную жизнь (In De An. 213.26-31).
-
3) Плод в утробе является живым и живет не как растение, но как животное. Эмбрион в утробе питается и растет посредством собственных органов, а кроме того, осуществляет движения по месту, то есть произвольно движет частями тела, на что растение неспособно, поэтому он и в утробе действует не как растение, но как животное ( In De An. 213.22-25). Он содержится в утробе и получает питание от матери, поскольку ему нужна помощь, защита и время для формирования тела, также как и уже родившимся животным нужна защита и помощь родителей, однако и по его органической структуре, и по движению частей тела он живет как животное, а не как растение.
В дальнейшем Филопон приводит собственные доводы и доказывает, что эмбрион проходит все стадии природного порождения: сначала он не является живым, затем, при формировании органов, в нем действует растительная душа9, затем, обретая способность двигать частями тела, он живет как зоофит – средняя ступень между растением и животным – но только после рождения он получает животную душу ( In De An. 214.2-33).10
Обозначив возможные позиции в отношении жизни плода в утробе мы можем более отчетливо понять позицию Александра и аргументы, которые могут за ней стоять. Здесь для нас наиболее важно то, что именно питание через собственные органы является первым формальным признаком жизни, а питание через рот и передвижение оказывается формальным призна- ком животной жизни.11
Питающая душа как движущая причина возникновения
Обсуждая способности питающей души, а именно – питание, рост и порождение, Александр называет способность порождения наиболее совершенной из указанных. Процесс порождения подобен процессу питания и включает в себя три части: «То, что питается, питаемое и то, чем питается; то, что питается есть питающая и первая душа, питаемое – тело, чьей формой является упомянутая [питающая] способность, то, чем питается – пища»12 (Alex. De An. 36.10-12).
Душа причиняет движение питания, тело осуществляет это движение, а пища, будучи подлежащим питания, превращается из неподобного в подобное: пища, поступающая через рот, становится кровью, которая питает все члены тела. По аналогии с питанием Александр указывает на три части процесса порождения: есть то, что является причиной порождения, то, чем движет эта причина и с помощью чего происходит возникновение – тело родителя и семя, и то, что порождается – живое существо, подобное родителям по виду. Если питание и рост осуществляются благодаря теплу и крови, которая и есть последняя пища животного, то порождение осуществляется благодаря семени. Семя возникает из последней пищи (ἡ ἐσχάτη τροφή), то есть из крови13, при воздействии способности к питанию, и является наиболее совершенным продуктом питающей души; именно с помощью семени душа производит возникновение 14 ( De An. 35.26–36.5).
Питающая душа не только служит для возникновения семени, но и при- сутствует в семени как возможность (δύναµις), которая, получая пригодную материю, становится причиной формирования эмбриона после зачатия. Именно эта душа становится причиной составления тела животного: «Питающая душа и способность является причиной составления и началом тела животного, также как причиной его бытия, развития и роста»15 (De An. 36.19– 21, см. также 32.1–5; 36.21–37.3; Simpl. In Phys. 311.12–14). Питающая душа формирует материю зародыша таким образом, что через питание и рост эта материя усложняется и приобретает органическую структуру и вид, подобный родителю. Так питающая душа, которая производит семя и содержится в нем, становится действующей причиной питания, роста и формирования эмбриона.16
В комментарии на «Физику» Симпликий передает слова Александра о том, каким именно образом под воздействием способности, присутствующей в семени, происходит эмбриогенез (Simpl. In Phys. 311.5–25). Процесс возникновения Александр, по словам Симпликия, понимает как движение марионетки (τὰ νευροσπαστούµενα),17 в котором движение от семени передается первой части, движение первой части становится причиной движения в следующей, и так последовательно, пока все части марионетки не придут в движение. Таким образом δύναµις семени, соединенная с подходящей (οἰκεία) материей, последовательно причиняет все последующие изменения, пока не произведет животное, подобное родителю по виду. Такой процесс возникновения происходит согласно числу и порядку (κατά τινας ἀριθµοὺς καὶ τάξιν) и не случайным образом, но ради определенной цели, поскольку природа всегда действует ради чего-то. Цель возникновения и Александр, и
Симпликий определяют одинаково: порождение подобного по виду18 и участие в вечном и божественном через продление бытия вида (Alex. De An. 32.11–14; 36.16–17). Однако чем определена последовательность изменений в материи? Каким именно образом цепочка изменений, запущенная при оплодотворении, приводит к возникновению определенной органической структуры животного, тождественного с родителем по виду?
Душа и жизнь эмбриона
Прежде, чем ответить на поставленный вопрос, я вернусь к эмбриону, который подобен чудесному автомату. Считает ли Александр этот эмбрион живым? Если да, то живет ли этот эмбрион как растение, или с какого-то времени его можно считать животным? И если все-таки эмбрион живет как растение, то есть в нем действует только растительная душа, почему под воздействием растительной души развивается органическая структура не растения, но животного?
С одной стороны, Александр различает растительную и животную жизни как в отношении функций и подлежащей органической структуры, так и в отношении способа питания и размножения: в отличие от питающей души, которая присутствует во всем растении, животная душа не является гомогенной (ὁµοιοµέρης). В животном присутствует питающая душа, но не во всем теле, как в растениях, а только в органах питания (которые включают в себя кровеносную систему), поэтому животное, в отличие от растения, не может питаться без специальных органов питания и не может сформировать эти органы без семени, которое содержит их в возможности (Alex. De An . 37.11– 38,4). Семя, будучи движущей причиной возникновения животного, содержит в себе питающую душу, действенность которой приводит к возникновению не просто питающегося живого существа, но существа, подобного родителям и обладающего именно такими органами и и частями тела, которые специфичны для данного животного. Таким образом, когда душа, содержащаяся в семени в возможности, получает подходящую материю (ὕλης ἐπιτηδείου), она формирует эту материю, и через питание и рост возникает органическая структура животного, подобного родителю.
Обсуждая жизнь эмбриона, Александр, как позже Филопон, разделяет получение и переваривание пищи: плод получает пищу от матери, но переваривает ее за счет собственных органов, поэтому усвоение пищи и рост происходят из него самого (ἐξ αὑτοῦ), то есть согласно деятельности его собственной питающей души (De An. 36.26-37.1). В отличие от Филопона, Александр, как кажется, не предполагает, что эмбрион после зачатия является неживым, также как он не называет его зоофитом, скорее он говорит о том, что от зачатия и до рождения в нем действует только питающая душа:
«Но и среди животных питающая [способность] присутствует в них начиная с первого составления (ибо еще возникающее животное сразу же питается, и, будучи в утробе, живет, пребывая в действенности только согласно той же [питающей] способности), чувствующая же душа возникает у них [у животных] позже, уже у рожденных. Ибо сокращение и вытяжение некоторых частей, которое производит [животное], будучи в утробе, не возникает согласно собственной чувствующей [душе], но оно [сущее в утробе] движется этими движениями как часть одушевленного»19 ( De An. 74.15-23).
Под первым составлением здесь, скорее всего, понимается зачатие – именно при зачатии форма, содержащаяся в семени в возможности, составляется с материей и начинает действовать как питающая душа или способность. Чувствующая душа появляется лишь после рождения, когда животное перестает получать питание от матери и начинает питаться через рот. Александр не отрицает, что плод в утробе в некоторой мере ведет себя как животное – то есть сам движет частями тела, однако указывает, что эти движения происходят не согласно собственной душе плода, но постольку, поскольку он является частью родителя, одушевленного чувствующей душой.20
Итак, питающая душа является движущей силой возникновения и действует в эмбрионе от зачатия до рождения – означает ли это, что эмбрион является живым и живет как растение? Подход Александра к пониманию жизни эмбриона отличается от подхода Филопона, – Александр пишет, что, несмотря на то, что плод действует сам по себе согласно питающей душе, он является живым не сам по себе, но только как часть тела матери21: «Хотя животные питаются в утробе согласно собственной способности, они получают пищу как части [матери], потому сущие в утробе не называются животными и не говорится, что они живут просто и сами по себе»22 (De An. 38.4–8).
Плод не только не является животным, он также не может рассматриваться как растение и, тем более – как зоофит, так как он не живет растительной жизнью сам по себе. Почему же эмбрион, в котором уже действует питающая душа, не является живым23? Ведь именно душа является началом жизни, а питание и рост – движениями, через которые первым образом определяется жизнь. Ответ на этот вопрос может быть связан с тем, что, при возникновении животного, под воздействием питающей способности возникает органическая структура, которая должна подлежать не питающей, но чувствующей душе. Растение, одушевленное питающей душой, является живым само по себе: оно получает пищу из земли, переваривает ее, растет и размножается согласно растительной органической структуре. Эмбрион, хотя он переваривает пищу сам по себе и привязан к матери, как растение – к земле, не может жить сам по себе, как живет растение: он не существует отдельно и не обладает растительным телом. Поскольку органы плода, предназначенные для питания, отличаются от органов растения, то нельзя сказать, что он живет сам по себе, ведь, в отличие от растения, завершенность его органической структуры предполагает самостоятельное питание через рот. Пока он не питается через рот, не только его чувствующую, но и его питающую душу нельзя назвать завершенной, а его – отдельным живым существом.
В De Anima Liber Александр настойчиво подчеркивает, что душа – это неотделимая форма тела, которая и ответственна за телесную структуру.24 Плод имеет органическую структуру животного, он переваривает пищу как животное, у него бьется сердце, по его телу течет кровь – однако в нем действует лишь растительная душа. Будучи животным, он может обладать завершенностью и жить сам по себе только тогда, когда в нем действует чувствующая душа, – деятельности питающей души недостаточно для того, чтобы он мог жить отдельно, а не как часть. Именно поэтому плод, хотя он растет и питается, то есть живет, обладает этой жизнью не сам по себе, но лишь как часть матери, и действенность плода связана не только с действенностью его собственной питающей способности, но и с действенно-
298 Александр Афродисийский о душе стью чувствующей души родителя.
Душа как εἶδος, δύναµις и ἕξις
Вернемся к примеру с чудесными автоматами или марионетками и к вопросу о том, каким именно образом под воздействием питающей способности происходит возникновение органической структуры животного в определенной последовательности и согласно определенной мере. Согласно Сим-пликию, Александр связывает последовательность возникновения с видовой природой, которая содержится в семени наряду с питающей душой. Александр (а также и Симпликий) определяет природу как ἄλογος δύναµις – как силу, которая действует ради цели, но стремится к этой цели не в результате решения, выбора, знания или искусства, то есть не в результате некоторого логоса, но по необходимости (Simpl. In Phys. 310.25–311.1). Именно поэтому неразумная сила природы не имеет альтернатив и действует лишь в одном направлении и лишь в одной возможной последовательности,25 как в случае автоматов: одна часть движет другую, вторая – третью и так далее, последовательность движения этих частей определена конструкцией автомата и потому неизменна. Воздействие одной части на другую происходит не по выбору и не согласно логосу, но согласно устройству автомата, хотя само это устройство определено замыслом мастера. Последовательность, в рамках которой движется эмбрион-автомат, определена целью природы – природа стремится к продолжению вида, то есть к созданию животного, тождественного по виду с родителем. Сам Симпликий предполагает, что для такой последовательности необходима не только цель, но и образец, в согласии с которым выстраивается сама последовательность органического возникновения: природа, действуя ради цели, порождает определенную телесную структуру в согласии с образцом, образцом же является нематериальный природный эйдос.26 По словам Симпликия, для Александра таким образцом является форма родителя (что сам Симпликий считает неверным): Александр называет образцом форму, возникающую вместе с материей (τὸ γινόµενον περὶ τῇ ὕλῃ εἶδος), поскольку именно к этой форме природа стремится, когда порождает живую вещь27 (Simpl. In Phys. 311.1–7).
Александр в своих утверждениях, скорее всего, опирается на Аристотеля, который говорит, что причиной порождения является не нематериальный эйдос или образец, но форма родителя: «Таким образом ясно, что нет никакой надобности устанавливать эйдос как образец… но достаточно, чтобы породившее создавало [форму] и было причиной формы в материи»28 (1034а 1-5).
Сам Александр, как и Аристотель, подчеркивает, что форма любого тела существует только в материи и не может существовать отдельно от нее (De An. 4.20-27). Кроме того, он, в отличие от Симпликия, не отличает природу как форму тела от души – он считает, что душа и есть природная форма те-ла.29 Так, Александр рассматривает природу не как некое начало, которое определяет телесную структуру, но находится ниже растительной души,30 но как общий горизонт, в рамках которого существует лестница форм: от простой формы элемента до разумной души как наиболее сложной формы человеческого тела.31 Если душа – это природная форма тела, также как и тяжесть – природная форма камня,32 то природа вида или видовая форма родителя существует только как форма особей этого вида. Поскольку форма органического тела – это душа, то природа вида – это и есть его животная (или разумная) душа как форма определенной актуально живущей особи, и именно эта форма в материи является формальной причиной или образцом для возникновения нового существа того же вида.
Итак, как было указано выше, эмбрион живет и действует как часть родителя, то есть действенность эмбриона связана с действенностью животной души родителя, также как и формирование его органической структуры связано с душой родителя как формальной причиной. Александр указывает, что эмбрион, в силу собственной питающей души, полученной от родителя через семя, содержит также и начала способностей животной души, но не имеет животную душу в действенности, поскольку его тело еще не готово действовать как самостоятельное животное: «И только в силу этой [питающей] способности души сущее в утробе действует из самого себя и имеет начала и пригодность к способностям, которые породившее его имеет как [завершенные] состояния, хотя [сущее в утробе] еще и не имеет их [т.е. способности] в действенности, поскольку не имеет необходимых частей, через которые действовали бы эти способности»33 (De An. 36.26–37.3).
Таким образом, хотя в эмбрионе не действует чувствующая душа, в нем содержатся начала способностей этой души, иначе говоря, в нем пребывает эта душа в возможности.34 Можно сказать, что природная неразумная сила, которая определяет последовательность возникновения, заключает в себе не только возможность питающей души, присутствующую в семени, но и возможность чувствующей души, присутствующую в эмбрионе, который, обладая возможностью таковой души, не обладает еще этой душой в действенности и потому живет и движется как часть родителя – то есть как подлежащее чувствующей души родителя.
В своем трактате «О душе» Александр определяет душу как способность и обладание или состояние (ἕξις)35: душа как первая энтелехия органического тела есть способность или сумма способностей, в соответствии с которыми одушевленное тело действует, так же как форма камня есть тяжесть, то есть способность двигаться вниз, в соответствии с которой движется камень.
При этом одушевленное тело связано с душой не так, как инструмент связан с мастером или кормчий – с кораблем (De An. 20.26–21.21; 23.24–28), но как флейтист связан с искусством игры на флейте или борец – с искусством борьбы36 (De An. 23.6–24). Для флейтиста искусство, в соответствии с которым он действует, есть некое обладание или навык (ἕξις), в силу которого он способен играть, также и для одушевленного тела душа есть обладание или состояние, в силу которого тело способно осуществлять различные движения. Определяя душу как обладание, Александр опирается на Аристотелевское разделение двух видов возможности и двух видов энтелехии.37 Аристотель в 5 главе II книги «О душе» говорит о двух видах изменения, которые соответствуют двум видам возможности, на примере знания: знанием в возможности обладает ученик, поскольку он принадлежит к человеческому виду и может обучиться грамматике и арифметике, но еще не обучился, также знанием в возможности обладает грамматик, который уже научился и может применять свое знание, когда захочет. Первая возможность связана с материей, а переход от этой возможности в энтелехию связан с материальным изменением, вторая – с некоторой формой, завершенностью или навыком (ἕξις)38 – грамматик уже обладает знанием как навыком, но не применяет его в данный момент, и поэтому этот навык является способностью или возможностью (δύναµις). Вторая возможность – это и есть первая энтелехия, когда же человек, обладающий знанием, применяет это знание, он действует в соответствии со своей способности, то есть переходит из первой энтелехии во вторую или из второй возможности – в действенность.39 Вернемся к примеру Александра: первая энтелехия флейтиста и есть его спо- собность играть как обладание или навык,40 в соответствии с которым его тело уже натренировано для определенных движений, также и душа как первая энтелехия органического тела есть способность (δύναµις), точнее, сложение нескольких способностей, и состояние (ἕξις), в соответствии с которым это тело расположено к тому, чтобы осуществлять движения, свойственные ему по природе (De An. 10,26–11,5; 23,24–24,17).41
Если продолжать предложенную Александром аналогию между обладанием душой и обладанием искусством, развитие эмбриона можно сравнить с обучением. Ученик может научиться писать или играть на флейте, то есть обладает этим навыком в возможности. Когда он учится играть, на него воздействует учитель, который уже обладает искусством игры на флейте как первой энтелехией. Когда ученик научился играть, то есть завершил движение обучения, то он обладает искусством игры в завершенности – это искусство есть его навык и способность, и потому может играть в любой момент, без какого-либо обучения. Переход из первой возможности во вторую для ученика связан с воздействием внешней действующей причины (учителя) и с тренировкой различных телесных способностей, тогда как человеку, уже обладающему навыком игры, для того чтобы действовать в соответствии со своей способностью, не требуется ни внешняя действующая причина, ни время на обучение. Также и одушевленное животное, уже обладающее органами и душой как первой энтелехией, действует в соответствии со способностями своей души само по себе и не нуждается во внешней действующей причине. Семя животного содержит возможность питающей души, но не обладает этой душой в энтелехии (поскольку не является органическим телом), поэтому для движения семени необходима внешняя действующая причина – природа или душа родителя. При оплодотворении и формировании эмбриона возможность питающей души (первая возможность) становится энтелехией, и эмбрион питается и растет. Однако он питается и растет не как растение, но как незавершенное животное, потому его тело пригодно для чувствующей души, а сам он имеет чувствующую душу в возможности (первая возможность). Для того, чтобы эта возможность души стала энтелехией завершенного органического тела, ему необходимо претерпеть ряд материальных изменений под воздействием души родителя, которая уже находится в энтелехии, также как ученику необходимо тренироваться под воздействием учителя. Пока плод формируется, растет и питается в утробе, он не обладает душой как энтелехией или состоянием и остается частью родителя, то есть движется под воздействием родительской формы или природы, которая определяет и цель, и последовательность развития. После рождения животное перестает быть частью родителя и его чувствующая душа становится энтелехией его собственного органического тела – то есть он обладает душой сам по себе и действует уже исходя из собственных способностей.
В случае обучения игре на флейте мы можем отделить действующую причину обучения – вот этого учителя, от формальной причины – искусства игры как энтелехии или навыка, также и в развитии эмбриона действующая причина может быть отделена от формальной и целевой. Действующая причина для Александра – питающая душа, которая передается через семя и производит последовательное возникновение частей, формальная – душа родителя как форма и первая энтелехия, в соответствии с которой формируется органическая структура эмбриона и закладываются способности его собственной животной души, целевая – возникновение нового существа того же вида, то есть возникновение органического тела, обладающего душой не как возможностью, но как первой энтелехией.42
Список литературы Александр Афродисийский о душе как причине возникновения
- Афонасин, Е. В., пер., прим. (2013) «Порфирий об одушевлении эмбриона», ΣΧΟΛΗ (Schole) 7.1, 174-236.
- Варламова, М. Н. (2018) «О различии души и природы живого тела у Симпликия», Платоновские исследования 9/2, 121-136.
- Солопова, М. А. (2002) Александр Афродисийский и его трактат «О смешении и росте». Москва: Наука.
- Aubry, G. (2008) “Capacité et convenance : la notion d'epitédeiotés dans la théorie por- phyrienne de l'embryon,” in Luc Brisson, Marie-Helene Congourdeau, Jean-Luc Solere (eds.), L'Embryon: formation et animation. Antiquite grecque et latine, traditions hebraique, chretienne et islamique. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 139-156.
- Blumenthal, H. J. (1986) “Body and soul in Philoponus,” The Monist 69.3, 370-382.
- Blumenthal, H. J. (1996) Aristotle and Neoplatonism in Late Antiquity. New York: Cornell University Press.
- Bos, A. P. (2000) “Why the Soul Needs an Instrumental Body According to Aristotle,” Hermes 128.1, 20-31.
- Bos, A. P. (2009) “Aristotle on Soul and Soul “Parts” in Semen (GA 2.1, 735a4-22),” Mne- mosyne 62, 378–400.
- Bruns, I., ed. (1887) “Alexandri De anima Liber cum Mantissa,” in Alexandri Aphrodisensis Praeter Commentaria Scripta Minora, Vol. II, Part 1. Reimer: Berlin.
- Bruns, I., ed. (1892) “Alexandri Aphrodisensis Quaestiones,” in Alexandri Aphrodisensis praeter Commentaria Scripta Minora: Quaestiones, De Fato, De Mixtione. Berlin: Reimer (Supplementum Aristotelicam. Vol. 2. Pars 2), 1–163.
- Caston, V., tr., intr., comment. (2012) Alexander of Aphrodisias: On the Soul. Part 1: Soul as Form of the Body, Parts of the Soul, Nourishment and Perception. London / New York: Bloomsbury.
- Code, A. (1987) “Soul as Efficient Cause in Aristotle's Embryology,” Philosophical topics 15.2, 51-59.
- De Groot, Jean (2008) “Dunamis and the Science of Mechanics. Aristotle on Animal Mo- tion,” Journal of the History of Philosophy 46.1, 43-68.
- Diels, H., ed. (1882) Simplicii in Aristotelis physicorum libros quattuor priores commen- taria. Berlin: Reimer.
- Gotthelf, A. (1987) “Aristotle’s Conception of Final Causality,” in A. Gotthelf, J.G. Lennox (eds.), Philosophical Issues in Aristotle’s Biology. Cambridge, 204-242.
- Hayduck, M. (1897) Ioannis Philoponi in Aristotelis De anima libros commentaria. Berlin: Reimer.
- Hayduck, M., ed. (1891) Alexandri Aphrodisiensis in Aristotelis metaphysica commentaria. Berlin: Reimer.
- Henry, D. (2005) “Embryological Models in Ancient Philosophy,” Phronesis 50.1, 1–42.
- Jaeger, W., ed. (1957) Aristotelis Metaphysica. Oxford: Clarendon Press.
- Johansen, K. T. (2012) The Powers of Aristotle’s Soul. Oxford: Oxford University Press.
- Kupreeva, I (2004) “Aristotelian dynamics in the 2nd century school debates: Galen and Alexander of Aphrodisias on organic powers and movements,” Bulletin of the Insti- tute of Classical Studies 47, 71-95.
- Kupreeva, I. (2012) “Alexander of Aphrodisias and Aristotle's De Anima: What's in a Commentary?” Bulletin of the Institute of Classical Studies 55.1, 109-129.
- Mittelmann, J. (2013) “Neoplatonic Sailors and Peripatetic Ships: Aristotle, Alexnader and Philoponus,” Journal of the History of Philosophy 51.4, 545-566.
- Moraux, P. (2001) Der Aristotelismus bei den Griechen, vol. 3. Berlin: Walter de Gruyter.
- Ross, W. D., ed. (1956) Aristotelis de Anima. Oxford: Clarendon Press.
- Scholten, C. (2005) “Welche Seele hat der Embryo? Johannes Philoponus und die Antike Embriologie,” Vigiliae Christianae 59, 377-411.
- Sharples, R.W. (1994) “On Body, Soul and Generation in Alexander of Aphrodisias,” Apei- ron 27.2, 163-170.
- Sorabji, R. (1974) “Body and Soul in Aristotle,” Philosophy 49.187, 63–89.
- Sorabji, R. (1988) Matter, Space and Motion. London: Duckworth.
- Whiting, J. (1995) “Living Bodies,” in A. Rorty and M. Nussbaum (eds.), Essays on Aristo- tle’s De Anima. Oxford: Oxford University Press, 2nd ed., 78-95.
- Wilberding, J. (2017) Forms, Souls and Embryos. Neoplatonists on Human Reproduction. London / New York: Routledge.