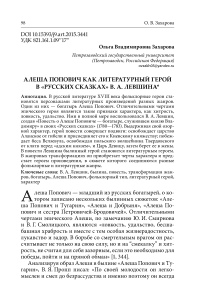Алеша Попович как литературный герой в «Русских сказках» В. А. Левшина
Автор: Захарова Ольга Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
В русской литературе XVIII века фольклорные герои становятся персонажами литературных произведений разных жанров. Один из них - богатырь Алеша Попович. Отличительными чертами эпического героя являются такие признаки характера, как хитрость, ловкость, удальство. Ими в полной мере воспользовался В. А. Левшин, создав «Повесть о Алеше Поповиче - богатыре, служившем князю Владимиру» в своих «Русских сказках» (1780-1783). Выдерживая свой озорной характер, герой повести совершает подвиги: освобождает царство Аланское от гибели и присоединяет его к Киевскому княжеству; побеждает беса Велзевула, освобождая польского волшебника Твердовского от клятв перед «адским князем», и Царь Девицу, затем берет ее в жены. В повести Левшина былинный герой становится литературным героем. В жанровых трансформациях он приобретает черты характера и предстает героем произведения, в сюжете которого соединяются разные фольклорные и литературные жанры.
В. а. левшин, былина, повесть, трансформация жанров, богатырь, алеша попович, фольклорный тип, литературный герой, характер
Короткий адрес: https://sciup.org/14748958
IDR: 14748958 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.3441
Текст научной статьи Алеша Попович как литературный герой в «Русских сказках» В. А. Левшина
А л еша Попович — младший из русских богатырей, о котором записано нескольких былинных сюжетов: «Алеша Попович и Тугарин», «Алеша и Добрыня», «Алеша Попович и сестра Петровичей-Бродовичей». Отличительными чертами эпического Алеши, по замечанию Ю. И. Смирнова и В. Г. Смолицкого, являются «ловкость, удальство, бесшабашная храбрость и вместе с тем особая жизнерадостность, лукавство и задор. В борьбе со смертельным врагом он рассчитывает не только на свою силу, но и на “смекалку” и хитрость, не считая для себя зазорным, если это необходимо для победы, пойти и на прямой обман» [1, 344].
Анализируя образ Алеши в былине «Алеша Попович и Тугарин», В. Я. Пропп писал: «По своей молодости он легкомыслен и смел до безрассудства и именно поэтому он всегда побеждает: он берет быстротой своего натиска» [11, 211]. Ученый отмечает, что обман Алешей Тугарина — «военная хитрость, прием борьбы слабого с более сильным, умного с недалеким» [11, 222]. Иную трактовку образа Алеши Поповича дал Ю. И. Юдин, который неоднократно называет богатыря «обыкновенным человеком», «вполне реальным человеком» [14, 40—41]. Исследователь отмечает, что в первой версии богатырь «предстает легкомысленным, веселым, склонным к мистификации», в былине о его поединке с Тугарином «подробному описанию бытовой стороны соответствует и психологическая разработанность образа Алеши» [14, 42]. По мнению Ю. И. Юдина, в некоторых сюжетах происходит трансформация фольклорных героев: «Действующие лица былины — это прежде всего своеобразные эпические характеры. <...> Характеры действующих лиц, как видно, раскрываются психологически. Их основу составляет особый строй присущих каждому чувств. Алеша способен на проявления буйного гнева, но он и насмешник, весельчак. Он умеет скрыть гнев за ядовитой шуткой, выводящей из себя его противника» [14, 80—81].
В сюжете былины «Алеша и Добрыня» герой представлен «бабьим пересмешником». По замечанию В. Я. Проппа, «Алеша не склонен относиться к женщинам серьезно. Он — вообще шутник, весельчак и балагур; свою склонность к шуткам и подтруниванию он особенно часто проявляет при женщинах» [11, 278]. Исследователь считает, что «особую жизненность и правдивость» этой былине придает то, что Алеша и Добрыня в ней «противопоставлены не только как соперники, но и как типы, как характеры. Выдержанный, хорошо воспитанный, умеющий держать себя Добрыня и несдержанный, живой и непосредственный Алеша — прямые противоположности» [11, 279].
В былине «Алеша и сестра Петровичей» герой предстает спасителем девушки, освобождает ее из заточения и берет в жены. По этому поводу В. Я. Пропп писал: «Подвиг Алеши характерен именно для молодого героя. Этот подвиг типичен для Алеши; ни Добрыне, ни Илье и никому из других богатырей он приписан быть не может. Алеша, совершающий воинские подвиги, и Алеша, добывающий себе невесту и жену, вырывающий ее из пасти не мифического чудовища, а из пасти не менее страшных человеческих чудовищ, есть один и тот же Алеша — герой русского эпоса» [11, 427].
В русской литературе XVIII — начала XIX века Алеша Попович является героем нескольких эпических произведений, среди которых особое место принадлежит «Повести о Алеше Поповиче — богатыре, служившем князю Владимиру» из «Русских сказок» В. А. Левшина (1780—1783).
По отзыву Е. А. Морозовой, для сборника Левшина характерно смешение фольклорной «богатырской» и литературной «рыцарской» традиций: «Первая часть целиком занята народным “богатырским материалом”, обработанным в духе рыцарского романа. Русские богатыри Левшина, кроме имен, не имеют почти ничего общего с эпическими: они принадлежат к единому богатырскому ордену, странствуют по свету и участвуют в турнирах, в дороге им встречаются добрые и злые волшебники, приходят на помощь боги и т. п. Подвиги взяты автором из былин, но дополнены вымышленными приключениями. В духе литературной традиции в отдельные сказки вводятся искусственные имена. Такое смешение “богатырского” и “рыцарского”, характерное, впрочем, для конца XVIII века, стало следствием непонимания сущности русской сказки» [10, 488—489].
Повесть В. А. Левшина обстоятельно изучена в работах В. В. Сиповского [12], И. П. Лупановой [9], Е. Костюхина [6], К. Е. Кореповой [4], [5], М. А. Гистер [2], [3], Л. А. Курыше-вой [7].
Анализируя образ богатыря в данной повести, К. Е. Коре-пова отмечает, что писатель «отчасти сохранил в повести былинную индивидуальность Алеши Поповича. Богатырь у него, как в былине, молод и “ не столько славен своею силою, как хитростью и забавным нравом ”» [5, 388—389].
Интригой и обманом в повести окружено рождение богатыря: Алеша оказывается незаконнорожденным сыном Чу-рилы Пленковича, былинного соблазнителя и щеголя, и Пре-лепы, дочери первосвященника Ваидевута, который стремится скрыть позор и выдает внука за сына бога Попоенза
(Перкуна). Левшин описывает детские забавы Алеши, который «шутил без разбору, как над истинным дедом своим, так и над мнимым родителем», творил в девятилетнем возрасте «пакости», которые «были уже несносны»: вместо цветов надевал «на идола овчинную скуфью, или выводил ему усы сажею», «кричал в истукане петухом, кошкою, или брехал со-бакою» 1 . За эти проделки дед «дирал за волосы пакостника и наконец, когда сей не унимался, вышед из терпения, высек его очень больно розгами». После наказания рассерженный Алеша мстит деду «сверх всякого ожидания» (81): герой вымазал истукана внутри смолой, борода и волосы Ваидевута прилипли, и он ее лишился. Разгневанный Ваидевут изгоняет тринадцатилетнего Алешу из Порусии.
Перед отъездом он узнает от Прелепы, что истинным его отцом был Чурила. Представляя юного Алешу высоким и сильным: «…рост его и сила были чрезвычайны» (81), — Левшин наделяет героя смекалкой и умом. Заметив шатер, богатырского коня и связанного невольника, который караулит вход, Алеша удивляется, ему становится любопытно, «кто был сей вверивший безопасность свою невольнику и что за глупец, имеющий способность уйти и, однако, караулящий того, кто ему связал руки» (81). Алеша отпустил невольника и приласкал коня: «…погладил оного и подсыпал ему из мешка белой ярой пшеницы» (82). Войдя в шатер, герой испытывает твердое намерение «отмстить за обиду той земли, где отец его был в чести и славе», но, увидев Царь Девицу, он «поражен» ее прелестями. «Употребив» осторожность, Алеша связывает богатыршу и начинает ее целовать, он смеется над гневом и яростью побежденной Царь Девицы. Описывая эту сцену, автор называет Алешу «дерзким» и «нахалом».
Д. С. Лихачев полагал, что главной характеристикой богатыря в эпосе является подвиг: «Подвиг этот и накладывает на него отчетливый отпечаток индивидуальности. Герой блещет умом — своим собственным, так же как и силой, выдержкой, храбростью, также его собственными» [8, 64].
По пути в Киев Алеша совершает два подвига: пленив Ареканоха и истребив исполинов, он «свободил царство Аланское от погибели» (83); победив Велзевула, соединил влюбленных — польского шляхтича и дочь Твердовского, а его самого избавил от мучений и клятв перед «адским князем»; проказами укротил Царь Девицу и взял ее в жены.
При встрече с царем Аланским Алеша подряжается на службу освободить его царство от осады богатыря Кимбр-ского Ареканоха и его исполинов. За службу он требует исполнения лишь одного условия — «признать, что один Владимир князь киевский Всеславьевич должен подавать законы всему свету, что нет в свете сильнее могучее богатыря его Чурилы Пленковича и что сын Чурилин Алеша Попович свободил царство Аланское от погибели. Обещайте возвестить сие чрез посольство свое князю рускому» (83).
Накануне сражения с исполинами и Ареканохом Алешу одолевает бессонница: хотя он «чувствовал крепость руки своей, хотя надеялся на остроту своего разума», «опасность предприятия повергала его во многие размышления» (83). Автор наделяет героя смекалкой и еще раз подчеркивает его хитрость. Алеша придумывает, как «истребить исполинов собственными их руками»: он связывает их волосы попарно, наносит им спящим резаные раны и подстрекает их к «меж-дуусобной драке» (83—84), наносит вред Ареканоху: подвязал под хвост коня противника «пук крапивы и репейнику колючего; также ослабив подпруги, подрезал оные <...> и после подтянул седло» (83—84).
После победы Алеши над исполинами Аланский царь возлагает «надежду на искусство и отважность богатыря рус-кого» (84). В начале поединка с Ареканохом Алеша дерзко и уверенно держится перед противником. Он, «смело приближаясь к Ареканоху», раздражал его «разными досади-тельными словами»: «называл его лягушкою, жеребною кобылою и советовал для пощады чрева его возвратиться домой». Насмешки Алеши вызывают «громкий смех», хохот, который он усиливает своим шутовским поведением — «забавными ужимками», когда колол коня и Ареканоха шилом, криками «странным голосом» (85).
Второй подвиг герой совершает в Польше. Первая встреча его с «великим польским волшебником» Твердовским происходит на древнем капище, в котором тот погребен. Твердовский первым нападает на богатыря, кусает его. Левшин красочно передает душевное состояние героя. Алеша испытывает гнев, он «вскочил в ярости», «рассердясь», ударил саблей по голове Твердовского так «жестоко», что «камень бы расселся от оного», имея «твердое намерение учинить из тела полякова решето» (86), но противник убежал с поля битвы.
Алеша способен испытывать сочувствие и сострадание. Увидев печально задумчивого шляхтича, он расспрашивает его и вызывается помочь: освободить шляхтича и его возлюбленную, которая является дочерью Твердовского, от заклятья отца. Алеша бескорыстен в своих подвигах: «…я всем добро делаю даром, должность моя помогать несчастным и наказывать злых» (88), что вызывает удивление у незнакомца. Неустрашимый вид богатыря и сила приободряют шляхтича. Алеше неведомо чувство страха. Его поведение, наглость вызывают изумление разбойников, они воспринимают его «опасным человеком», из-за его шуток — людоедом (89).
Как эпический богатырь Алеша не испытывает жалости к сопернику: он бьет врага «без милости» (90). Несмотря на трудность и опасность испытания, он никогда не откажется от поединка. Герой смеется над «устращиваниями»: «А! так это все пужают меня!» (90—91). В схватке с Велзевулом Алеша снова проявляет смекалку: «…приметил, что Велзевул весь покрыт зелеными сияющими перышками. Он подумал, что может быть, чувствительно ему будет, если выщипывать у него перья» (92). Бес сдается, и Алеша отпускает его. В благодарность за освобождение Твердовский дарит Алеше сокровища, от которых он отказывается, и волшебный перстень, который он принимает: по словам пана, перстень «не только умножит вашу силу и храбрость; но когда вы пожелаете учиниться невидимым, следует только перевернуть оный камнем вниз» (92). По замечанию И. Булкиной, совершив второй подвиг, «Алеша оказывается “чудесным спасителем”» [1].
Подарок Твердовского Алеша тут же использует для озорства и шуток. Так, находясь в замке в гостях у новобрачных, Алеша пожелал испытать и исполнил действие перстня: «…давно уже с удовольствием взирал он на пригожую хозяйку и вздумал посмотреть, какова она во время сна» (93).
Повесть Левшина заканчивается женитьбой Алеши на оскорбленной им и жаждущей мщения Царь Девице, в укрощении которой ему помогает перстень Твердовского. Тайно пробравшись в шатер богатырши, невидимый Алеша не может сдержать свой пыл и несколько раз целует Царь Девицу. Он смиряет гнев богатырши тем, что называет себя «духом хранителем», признает себя ее невольником, восхваляет ее прелести. Левшин создает образ пылкого и ласкового любовника: «…сей пламенный разговор окончился поцелуем и подал случай наговорить богатырю Киевскому тысячи нежных извинений, тысячу ласкательств» (97). Озорство героя при укрощении невесты и добывание жены являются ключевыми эпизодами в кольцевой композиции повести.
Рассказывая о подвигах Алеши, Левшин называет его «витязем», «ратоборцем», «неустрашимым богатырем», «странствующим богатырем», «хитрым богатырем», «страстным богатырем». Он наделяет его узнаваемыми чертами фольклорного героя: Алеша смел, хитер, силен, находчив, остроумен. В них проявляется «забавный нрав» богатыря.
В жанровых трансформациях повести В. А. Левшина былинный герой становится героем богатырской сказки. Обретя характер, фольклорный персонаж предстает литературным героем произведения, в сюжете которого интегрируются разные жанровые традиции: русской былины и польской легенды, фольклорной и литературной сказки, рыцарского романа и богатырской повести.
Примечания
* Исследование выполнено по гранту Министерства образования и науки России «Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности XIX—XX вв.» (№ 34.1126).
1 Левшин В. А. Русские сказки: в 2 кн. — СПб.: Тропа Троянова, 2008. Кн. 1. С. 80. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.
Дата поступления в редакцию: 15.03.2015
Список литературы Алеша Попович как литературный герой в «Русских сказках» В. А. Левшина
- Булкина И. К сюжету о пане Твардовском (конспекты «киевской» баллады Жуковского//Пушкинские чтения в Тарту 3: Материалы международной научной конференции, посвященной 220-летию В. А. Жуковского и 200-летию Ф. И. Тютчева. -Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2004. -С. 41-63 . URL: http://www.ruthenia.ru/document/535054.html (28.09.2015 г.).
- Гистер М. А. Сказитель-просветитель: былинная традиция в «Русских сказках» В. А. Левшина//Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. -М.: РГГУ, 2009. № 9. -С. 122-137.
- Гистер М. А. Образ Алеши Поповича в русской литературной сказке XVIII -начала XIX века//А. М. П.: Памяти А. М. Пескова. -М.: РГГУ, 2013. -С. 158-183.
- Корепова К. Е. Комментарий//Левшин В. А. Русские сказки: в 2 кн. -СПб.: Тропа Троянова, 2008. -Кн. 2. -447 с.
- Корепова К. Е. «Русские сказки» В. А. Левшина//Левшин В. А. Русские сказки: в 2 кн. -СПб.: Тропа Троянова, 2008. -Кн. 1. -472 с.
- Костюхин Е. Древняя Русь в рыцарском ореоле//Приключения славянских витязей: из русской беллетристики XVIII века. -М.: Худож. лит., 1988. -С. 5-20.
- Курышева Л. А. Повести о богатырях в «Русских сказках» В. А. Левшина: сказочно-историческая модель повествования. -Новосибирск: Наука, 2009. -152 с.
- Лихачев Д. С. Человек в Древней Руси. -М.: Наука, 1970. -178 с.
- Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. -Петрозаводск: Гос. изд-во Карельской АССР, 1959. -503 с.
- Морозова Е. А. «Дайте русского мне витязя!» (Литературное творчество в «народном духе»)//Русская литература как форма национального самосознания. XVIII век. -М.: ИМЛИ РАН, 2005. -С. 472-516.
- Пропп В. Я. Русский героический эпос. -М.: ГИХЛ, 1958. -603 с.
- Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа. -СПб.: Тип. СПб. Т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1910. -Т. 1. -Вып. 2. XVIII-ый век. -944 с.
- Смирнов Ю. И., Смолицкий В. Г. Примечания//Добрыня Никитич и Алеша Попович. -М.: Наука, 1974. -С. 371-432.
- Юдин Ю. И. Героические былины (Поэтическое искусство)/АН СССР; отв. ред. Э. В. Померанцева. -М.: Наука, 1975. -120 с.