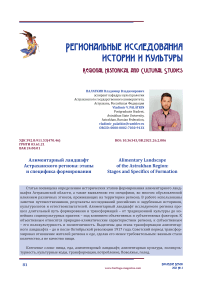Алиментарный ландшафт астраханского региона: этапы и специфика формирования
Автор: Палаткин Владимир Владимирович
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Региональные исследования истории и культуры
Статья в выпуске: 2 (26), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена определению исторических этапов формирования алиментарного ландшафта Астраханской области, а также выявлению его специфики, во многом обусловленной влиянием различных этносов, проживающих на территории региона. В работе использованы заметки путешественников, результаты исследований российских и зарубежных историков, культурологов и естествоиспытателей. Алиментарный ландшафт исследуемого региона прошел длительный путь формирования и трансформаций - от традиционной культуры до новейших социокультурных практик - под влиянием объективных и субъективных факторов. К объективным относятся природно-климатические характеристики региона, к субъективным - его поликультурность и полиэтничность. Выделены два этапа трансформации алиментарного ландшафта - до и после Октябрьской революции 1917 года. Советский период трансформировал отношение жителей региона к еде, сделав его менее требовательным: важным стало количество, а не качество пищи.
Пища, еда, алиментарный ландшафт, алиментарная культура, поликультурность, культурные коды, трансформация, потребление, поволжье, голод
Короткий адрес: https://sciup.org/170178916
IDR: 170178916 | УДК: 392.8:911.53(470.46) | DOI: 10.36343/SB.2021.26.2.006
Текст научной статьи Алиментарный ландшафт астраханского региона: этапы и специфика формирования
Введение. Социально-экономические, культурные и технологические трансформации, произошедшие за последние три-четыре десятилетия, вызвали огромные изменения в нашем отношении к еде и ее восприятии. По мнению Х. Макферсона, производство и потребление пищевых продуктов формируется и определяется природой ландшафта, а также отношением людей к нему [29]. Английский исследователь Дж. Уайли определяет, что «акцентирование на еде обеспечивает понимание сил, таких как: системы труда, товарные цепочки, покупатели и продавцы, транспортная логистика, рекламодатели, дизайнеры упаковок и др., формирующие ландшафт определенного региона» [32, с. 103].
В течение последних трех десятилетий исследователи стремились тщательнее изучить взаимосвязь продуктов питания и ландшафта. Классическое исследование Д. Крауча и К. Уорда посвящено тому, как выращивание пищи посредством взаимодействия с ландшафтом формирует культурные значения, язык и эстетику [25]. С.Дюмпель-манн определяет исторические ландшафтноархитектурные перспективы, которые полезны для понимания материальной культуры питания в городской среде [26], а А. Вессел указывает на возможность «чтения ландшафта как гастрономического текста, фиксирующего культурную динамику и изменения во времени» (перевод наш.— В. П. ) [31]. Исследователь С. Чинотто изучал адаптацию пищевого ландшафта в соответствии с культурными потребностями новых групп населения [24]. Кроме того, Дж. Квик исследовал влияние традиционных знаний о продуктах питания на социальную и культурную самобытность и то, как передача традиционных знаний о продуктах питания влияет на эволюцию гастрономических ландшафтов [28], а Т Бильдтгард, используя концепцию ментального пищевого ландшафта, объяснял, как люди выбирают место для приема пищи [22]. Вышеназванные исследования с различных сторон описывают одну общую динамичную систему, которую мы обозначим как «алиментарный ландшафт».
Алиментарный ландшафт является сложным феноменом, изучение которого связано с различными научными дисциплинами.
Чтобы попасть к конечному потребителю — покупателю в магазине, посетителю кафе или ресторана, пища должна пройти сложный путь, в котором задействованы самые разнообразные специалисты или предприятия, таким образом, в этом процессе принимает участие значительная часть общества [21]. В алиментарном ландшафте совмещается история, этнология, антропология, культурология, социология, политика, экономика, агрономия, зоология, урбанистика и многое другое. Создание современного алиментарного ландшафта невозможно без усилий по сохранению региональной сельскохозяйственной специфики, а также без учета состояния воспроизводимых биологических ресурсов: запасов рыбы в реках и морях, дикорастущих трав, орехов, грибов, промысловых животных. Все это делает изучение алиментарного ландшафта актуальным не только с точки зрения науки, но и с точки зрения экономического, социального и культурного развития как России, так и ее регионов.
В настоящий момент особенности гастрономических традиций и практик населения оказались под пристальным вниманием ученых самых различных областей знания. И здесь нет ничего удивительного, так как потребность в пище является одной из основных базовых потребностей любого биологического организма. Но лишь у человека пищевые практики оформлены в особую культуру, регламентирующую многие стороны нашей жизни. В результате возникает целостная система производства (добычи), переработки и потребления пищевых продуктов. Данная система нами была обозначена как «алиментарная культура». В нашей предыдущей работе [15] подробно объяснен этот термин и невозможность использования его аналогов, в частности понятия «гастрономическая культура» (из-за семантики потребления). За словом «гастроном»1 в современной русской языковой культуре закрепилось понятие «предприятие торговли, реализующее пищевые продукты». Термин «кулинарный» в данном контексте тоже мало подхо- дит, так как фокусирует внимание на процессе приготовления.
В научных исследованиях существует несколько различных определений термина «алиментарная культура»:
-
1) «процесс потребления пищи» [27];
-
2) «метафорические параллели пищевой культуры, сближающие ее с другими сферами культуры (гендер, секс, картина мира и т. д.)» [30];
-
3) «базовая часть любой этнической или национальной культуры, представляющая собой систему культурных кодов, вокруг которых выстраиваются и остальные части культуры» [20];
-
4) культура производства и потребления пищевых продуктов [18].
В данной статье нами была предпринята попытка определить исторические этапы формирования алиментарного ландшафта Астраханской области, а также выявить его специфику, которая формировалась под влиянием различных этносов, проживающих на территории исследуемого региона.
Стоит отметить, что современная Астраханская область (как субъект Российской Федерации) — это относительно новая административная единица, лишь частично совпадающая с исторической территорией Астраханской губернии. Следует также оговориться, что алиментарный ландшафт в большинстве случаев не вписывается в административные границы. Он прежде всего является атрибутом антропологического свойства, связанным с населением, проживающим на определенной территории. А расселение тех или иных народов, как правило, не укладывается ни в территориальные, ни в административные рамки.
Прослеживая формирование алиментарного ландшафта Астраханского региона, мы условно выделяем два этапа: первый — с 1556 г. по 1917 г., второй — с 1917 г. по 1970-е гг.
Специфика формирования астраханского алиментарного ландшафта. Алиментарный ландшафт Астраханского региона формировался на основе природных и культурных ландшафтов. Область богата промысловыми породами рыб (часть из которых (осетровые) получила всемирное признание), птиц и других животных. Особенность культурного ланд шафта исследуемого региона — большое количество этнических групп. Хотя на территории Астраханской области проживают представители более ста этносов, наибольшее влияние на алиментарный ландшафт края оказали следующие народы: русские, татары, ногайцы, калмыки, армяне, украинцы и др. Наиболее ранними насельниками края следует считать татар, ногайцев и русских [8]. Этот список составлен исходя из процентного соотношения численности этнических групп в составе края, вместе с тем мы понимаем, что не всегда культурное влияние было прямо пропорционально этому соотношению. Так, на рассматриваемой территории проживали также персы, евреи, бухарцы, немцы, индусы и многие другие. Уже во второй половине XVI в. на территории края поселились армяне, прибывшие из Персии, а позднее — азербайджанцы.
В XVII в. к уже проживающим здесь народам добавились откочевавшие из Джунгарии калмыки [4], в XVIII в. усилилась миграция населения из различных регионов России и из-за рубежа [16], в начале XIX в. на территорию края перекочевали казахи Букеевской орды [9]. Помимо этого, с 20-х гг. XIX в. увеличилась миграция различных этнических групп из Центральной России, что усиливало и без того пеструю этническую картину края [7]. Так, к середине XIX в. в Астраханской губернии окончательно сложилась определенная модель сосуществования этносов, спецификой которой стал синтез различных хозяйственных типов: животноводство, земледелие, рыболовство, огородничество, собирательство, скотоводство и охота, а ландшафтные характеристики региона предоставляли живущим здесь народам богатые и разнообразные ресурсы.
Одной из главных особенностей территории Астраханского края были большие запасы соли, что обеспечивало всем слоям населения легкодоступность данного продукта. Его дешевизна позволяла создавать большие запасы пищевых ресурсов: вяленой рыбы, солений, овощей и фруктов (например, яблок, айвы, арбузов) [12, с. 433] и вяленного мяса.
В реках, ильменях и пойме водилось множество различных видов рыб, что сделало их ловлю своеобразной визитной карточкой края. А. Олеарий, описывая нижневолжских ногайцев, отмечает, что «пищу себе эти татары добывают скотоводством, рыболовством и птицеловством» [14, с. 349]. Как поясняет этот путешественник, «обыкновенное кушанье татар составляет вяленая на солнце рыба, которую они едят вместо хлеба; рис и пшено они мелют и приготовляют из них лепешки, которые жарят в растительном масле или меду. Наряду с другим мясом они едят и верблюжье, и конское; пьют они воду и молоко, причем особенно кобылье молоко считают за лакомый и здоровый напиток» [14, с. 349].
К XIX в. алиментарный ландшафт исследуемого региона дополнился промысловым использованием каспийской сельди. Отечественный естествоиспытатель К. Э. Бэр, который посетил Астрахань в середине XIX в., давал рекомендации местным жителям по способам соления сельди. До него якобы астраханцы в основном перетапливали ее на жир. Традиционные способы засолки сельди в бочке не давали нужного результата. К. Э. Бэр настаивал на использовании голландского способа и засолке не в бочки, а в лари, что лучше сохраняло качество продукции. Сложно сказать, насколько сельдь была популярна в Астраха- ни в этот период, но она хорошо продавалась на Нижегородской ярмарке и даже в Санкт-Петербурге. Именитый естествоиспытатель считал, что у астраханской сельди более высокое качество, чем у норвежской [5, с. 5].
Помимо добычи и обработки рыбы в Астраханской губернии традиционно собирали некоторые виды дикорастущих растений: чилима, плоды тутового дерева, ежевику и др. Делалось это не только для потребления, но и для продажи.
Также промысловое значение приобрела охота на водоплавающих птиц: гусей, уток, бекасов, лысух и т.д. Замечания секретаря Голштинского посольства, посетившего Астрахань на пути в Персию в 1633 г., почти полностью повторяют свидетельства средневековых путешественников: «Вокруг этих мест, ввиду близости моря и многих лежащих под Астраханью тростников и лесистых островов, имеется очень много пернатой дичи, особенно много диких гусей и больших красных уток, которых татары умеют быстро ловить с помощью обученных соколов и ястребов. Здесь имеется и много диких свиней, которых татары преследуют и продают задешево русским, так как сами они, в силу закона своего, не могут их есть» [14, с. 346].
Заметную роль в развитии сельского хозяйства Астраханского края играют садоводческий и огородный комплексы. Есть все основания считать, что они сложились в крае в глубокой древности. В культурных слоях Саксина находят в изобилии «косточки абрикоса, персика, вишни, винограда, семена дыни, арбуза» [6, с. 185], что подтверждает свидетельство ал-Гарнати о развитии в Дельте в саксинский период садоводства, виноградарства и бахчеводства.
Также А.Олеарий писал: «Что касается садовых плодов, то они здесь так великолепны, что мы лучших не находили даже в Персии: это яблоки, квиты, грецкие орехи, большие желтые дыни, а также арбузы, именуемые у турок и татар «karpus» — так как они очень холодят, а у персов — «hinduanae», так как индусы некогда ввезли их в Персию. Подобного рода арбузов и дынь татары доставляли еженедельно возов 10-20 в Астрахань на рынок по очень дешевой цене» [14, с. 346]. Путешественник постоянно упоминает абрикосы, персики и некоторые другие фрукты, название которых ему не известны: «виноград, яблоки, дыни, персики, абрикосы, миндаль, два рода изюму (один из них представлял небольшие белые и очень сладкие ягоды без косточек), лущеные большие грецкие орехи, фисташки, всевозможные в сахаре и меду вареные индийские чуждые фрукты стояли на столе, покрытые шелковыми платками» [14, с. 354]. Заметное место в развитии края играло и виноградарство, берущее свое начало с 1613 г., когда усилиями монаха, австрийца по происхождению, в Астрахани был заложен виноградник из саженцев, привезенных персами из Шемахи [14, с. 347]. Таким образом, хозяйственно-культурные типы [19, с. 177] Астрахани были представлены следующими вариантами: скотоводство, рыболовство, садоводство и огородничество [11]. В нашей работе мы не затрагиваем хлебопашество, так как хлебобулочные изделия имплицитно включены как в общероссийский, так и в региональный рацион.
Другой особенностью Астраханского алиментарного ландшафта была его поликультурность, так как он формировался на стыке нескольких цивилизаций, представляя собой некий «культурный гибрид» [23]. Астраханский алиментарный ландшафт — это состояние «чего-то между», то есть посередине между разными явлениями. Здесь русская кулинарная традиция совмещается с тюркской, калмыцкой, армянской, персидской, украинской, немецкой, французской и др. Традиционно повседневный рацион астраханцев состоял по большей части из рыб частиковых пород: вобла, тарань, сопа и пр., реже из судака, щуки, осетра и т. п., а значительная часть пойманной рыбы заготавливалась впрок: солилась, вялилась, коптилась и т. д. Нередко этот региональный культурный ландшафт резко менялся, что было связано, как правило, с моментом открытия сезона судоходства, когда в Астрахань с верховых сел съезжалось огромное количество людей с целью наняться в бурлаки.
Особое место в рационе астраханцев занимала рыбная икра. Существовали различные способы ее приготовления, в частности осетровых. В зависимости от времени вылова рыбы, ее употребления и способа приготовления икра делилась на зернистую, паюсную и ястычную. Зернистая икра, особенно малосоленая, предназначалась для быстрого потребления. Паюсная засаливалась сильнее, чтобы сохранить ее на более длительный срок. Кроме того, она сильно отжималась, и со временем высыхала, превращаясь в плотную массу, которую нарезали ножом. Публицист И. С. Аксаков, посещая Астрахань, заказал себе с промыслов 20 фунтов (около 10 кг) паюсной икры, потому как, по его мнению, в столице такой нет [1, с. 53-54]. В XIX в. икру осетровых переправляли в столицу и в Москву на почтовых тройках вместе с некоторыми другими продуктами из Астрахани. Рыба доставлялась зимой в эти города обозами.
Солили икру и других пород рыб, чаще всего сазана и щуки. А. Олеарий сообщал, что русские употребляют ее «с перцем и мелко-нарезанным луком; некоторые вливают в нее еще уксусу, также деревянного масла, и приготовленную таким образом кушают» [13, с. 49]. Сложно представить традицию употребления черной икры с луком, но в отношении щучьей и сазаньей подобная практика приготовления сохраняется в Астраханской области и сегодня.
Мясо осетровых рыб шло и на изготовление балыков путем просаливания рыбы с дальнейшим провяливанием (просушиванием) на воздухе. Даже сам термин «балык», который переводится с татарского языка как «рыба», указывает на тот факт, что подобная практика имеет отношение к тюркской гастрономической традиции.
Тюркское влияние на астраханскую кухню можно проследить и на основе названий блюд. В частности, общероссийские беляши астраханцы называют «кайнары» от татарского слова «горячий». Сами татары именуют это блюдо «пэрэмэч», то есть был заимствован эпитет, а не само название. В свою очередь, слово «беляш» восходит к татарскому «бэлэш» — пирог, иногда употребляется и «вак бэлэш», то есть «маленький пирог». Также татарская кухня обогатила астраханскую различными сладостями и сдобой: пахлавой, чак-чаком, баурсаками, щербетом и т.д. Баурсаки под раз- ными названиями известны у многих народов, в частности, они были характерны и для калмыцкой кухни (борцоки). Основным блюдом калмыцкой кухни, своеобразной визитной карточкой этого народа, стал калмыцкий чай — зеленый плиточный чай с молоком. Многие астраханские семьи считали его неотъемлемой частью ежедневной трапезы. Зачастую его пили «по-калмыцки» с добавлением специй, соли, нутряного жира.
В результате в регионе сформировалось три типа чаепития: русский, калмыцкий и казахский. Мы предполагаем, что понятие «русский чай» сложилось как антитеза понятию «калмыцкий чай», так как в первом случае заваривался черный чай, а во втором — зеленый. Русский чай могли употреблять с молоком или без него, как правило, с сахаром, причем из блюдца. Вызвано это было тем, что готовили этот напиток в самоваре, подогреваемом с помощью древесного угля. Такой чай наливался очень горячим, а в блюдце он немного остывал, давая возможность пить его мелкими глотками. Казахский тип представлял собой промежуточный вариант, то есть заваривался из черного индийского чая и употреблялся в большинстве случаев только с молоком.
Говоря об алиментарном ландшафте Астрахани, нельзя не упомянуть и астраханские рынки: Большие исады, Селенские исады и Татар-базар. Эти крупные рынки сформировались еще задолго до XIX в. и имели особое значение в экономическом и культурном пространстве как региона, так и за его пределами, так как для торговли на них (особенно на Больших исадах) ежегодно (до 1917 г.) съезжались продавцы из других регионов: Поволжья (особенно из Нижнего Новгорода), Северного Кавказа, Средней Азии и др.
Астраханский алиментарный ландшафт в годы советской власти. Октябрьская революция 1917 года ознаменовала второй этап формирования алиментарного ландшафта Астраханской области. Начало мощного процесса его унификации во всех регионах страны формировало условное единство гастрономических и кулинарных практик. Особенно активизировался данный процесс с 30-х гг. XX в. На трансформацию алиментарного ландшафта региона повлияли: гражданская война, изменения в социальной структуре области, седентаризаци я1кочевого населения, коллективизация, голод в Поволжье [3] и Великая Отечественная война.
Расстрел астраханских рыбопромышленников в годы гражданской войны привел к полной деградации этой отрасли. Даже после национализации рыбных промыслов большевикам не удалось наладить рыбодо-бычу, и запрет на продажу стал действовать не только на хлеб, но и на рыбу. Действия центральных властей серьезным образом сказались и на степных районах. Если зимой 1921– 1922 гг. в Астраханской губернии голодало 30 тыс. жителей, то в Калмыцкой автономной области их было более 180 тыс., а по всему Нижнему Поволжью — более 2 млн. человек [3]. В конечном итоге, несмотря на определенные успехи с обеспечением населения продовольствием в начале 20-х гг. XX в., переход к коллективизации и индустриализации опять привел к голоду во многих регионах СССР, что вновь деформировало почти возродившийся алиментарный ландшафт.
Российские исследователи советской гастрономической культуры И. Сохань и Д. Гончаров определяли эти процессы как признаки тоталитарного строя: «Оформляя и нормируя практики, связанные с удовлетворением первичной и неотчуждаемой потребности человека в пище, гастрономическая культура оказывается той сферой, где наиболее эффективно (по сравнению со всеми остальными лакунами повседневного) реализуются дисциплинарные механизмы власти. Они могут проявляться по-разному — от статусной репрезентации в декларируемых гастрономических предпочтениях и способах их реализации до откровенного насилия посредством голода, когда подчеркивается прямая, на витальном уровне, зависимость как индивида, так и общества от кормящей власти» [17].
Постепенно специфика алиментарного пространства Астраханской области все больше утрачивала свое своеобразие, растворяясь в общенациональном. Но необходимо отметить, что в 1970-х гг. все еще шло сопротивле- ние регионального общенациональной унификации. Во многих домах наступление осени знаменовало начало периода активной подготовки к зиме: соление капусты и других овощей, которое затем сменило приготовление домашних консервов в стеклянных банках, в частности из томатов или перцев. Баклажанная икра по-домашнему оказывалась альтернативой магазинной. Региональное название этого овоща — «демьянки» — подчеркивало его связь именно с югом. Особое место в процессе заготовки продуктов занимало приготовление фруктовых варений из клубники, вишни, малины, абрикоса, персика, ежевики и т. п., которое продолжалось практически все лето. Из яблок варилось и повидло, хотя в прошлом из них делали еще и пастилу. Густое повидло для сладких пирогов также готовилось из абрикоса.
Начавшиеся в 1970-е гг. перебои с продуктами в магазинах еще сильнее подорвали основу регионального алиментарного ландшафта. Одновременно советское правительство «ввело» в праздничный стол такие новые гастрономические изыски, как «особые» салаты. До этого периода характерны были помидорно-огуречный салат с подсолнечным маслом летом, чаще всего так и именуемый — «летний», а зимой — винегреты с картофелем и квашеной капустой или грибами, капустой и свеклой и т.п. Теперь же к праздничному столу стали подавать салаты «оливье», «мимоза» и «сельдь под шубой», которые входят в моду в 80-90-х гг. XX в. Переход от винегрета к экзотическим для того времени блюдам знаменовал новый этап в развитии гастрономических практик всей страны. По мнению отечественного историка А. Куш-ковой, праздничный салат «оливье» в символической иерархии находился выше винегрета, который воспринимался как обыденное блюдо [10].
Заключение. Таким образом, можно отметить, что алиментарный ландшафт Астраханского региона прошел длительный путь формирования и трансформаций — от традиционной культуры до новых социокультурных практик. В первоначальный период становления алиментарного ландшаф- та в исследуемом регионе основное влияние на него оказывал ряд объективных и субъективных факторов. К объективным относятся природно-климатические характеристики региона: богатство разнообразных природных ресурсов из-за наличия нескольких экологических зон (пустыня, полупустыня, дельта и т. д.). Субъективными факторами, оказывающими серьезное влияние, были поликультурность и полиэтничность региона. По сути, население региона, представленное рыбаками, земледельцами и скотоводами, имело возможность получать дополнительные ресурсы или в результате обмена, или временного перехода к новой хозяйственной деятельности. Кроме этого, происходил активный культурный обмен между различными этническими группами: русскими, татарами, ногайцами, калмыками, персами и многими другими.
Второй этап формирования алиментарного ландшафта в крае наступил после Октябрьской революции. Во многом это было связано с развитием социально-политической системы Советского Союза. На отношение к еде у астраханцев, как и у многих других граждан СССР, огромное влияние оказали неоднократно повторяющиеся периоды голода, что во многом его трансформировало и сделало менее требовательным. Важным стало количество, а не качество еды. Советское правительство предпринимало попытки унификации гастрономических практик, во многом этому способствовала проводимая модернизация страны, ее индустриализация, а также социальная политика, нацеленная на создание новой социалистической культуры. Переориентация региона на другие виды сельскохозяйственной деятельности добавила населению новые продукты, но практически уничтожила традиционные, в частности и те, что могли бы выступать в качестве регионального бренда. Вместе с тем можно утверждать, что многие региональные практики, слегка трансформируясь, оставались под влиянием общенациональных тенденций. Во многом значительную роль сохраняла заготовка продуктов на длительный срок путем вяления, соления и маринования.
Alimentary Landscape of the Astrakhan Region:
Stages and Specifics of Formation
Список литературы Алиментарный ландшафт астраханского региона: этапы и специфика формирования
- Аксаков И. С. Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М.: Тип. М. Г. Волчанинова, 1888. Ч. 1: Учеб-ные и служебные годы. Т. 1: Письма 1839–1848 годов. С. 53–54.
- Ал-Гарнати А. Х. Путешествие Абу Хамида Ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131–1153 гг.). М.: Наука, 1971.
- Бадмаева Е. Н. Голод в Нижнем Поволжье в 1921 и 1933 гг. // Новый исторический вестник. 2010. № 26. С. 47–59.
- Бакаева Э. П. Буддизм в Калмыкии: Основные этапы истории // Буддизм России. 2009. № 1. С. 9–18.
- Бэр К. Э. Об употреблении астраханской селед¬ки. Астрахань: Губерн. тип., 1856.
- Васильев Д. В. Город и область Саксин в свете новых данных археологии (постановка проблемы) // Перекрестки истории. Актуальные проблемы истори¬ческой науки: материалы Междунар. науч. конф. / отв. ред. и сост. Р. А. Таркова. Астрахань: ЦНТЭП, 2012. С. 182–193.
- Васькин Н. М. Заселение Астраханского края. Волгоград: Нижне-Волж. кн. изд-во, 1973.
- Викторин В. М. Интерстадиал (к перерыву по¬степенности этнического развития при присоединении Нижнего Поволжья к Российскому государству) // Ма¬териалы IV краеведч. конф. / отв. ред. Е. В. Шнайдштейн. Астрахань: б. и., 1991. Ч. 1. С. 46–50.
- Ермуханова Н. А. Трансгрессия казахов Букеев¬ской орды на территории Нижневолжского фронтира // Научный журнал Кубанского государственного аграрно¬го университета. 2016. № 124 (10). С. 1–13.
- Кушкова А. В центре стола: зенит и закат сала¬та «Оливье» // Новое литературное обозрение. 2005. № 76. С. 278–313.
- Лакин Г. И. Сельскохозяйственное райониро¬вание Астраханской губернии. Астрахань: Астрах. гу-берн. упр. земледелия, 1922.
- Лепехин И. И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. СПб.: Имп. Акад. наук, 1795. Ч. 1.
- Олеарий А. О состоянии России в царствова¬ние Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. СПб.: б. и., 1861.
- Олеарий А. Описание путешествия в Моско¬вию. Смоленск: Русич, 2003.
- Палаткин В. В. Феномен алиментарной культу¬ры: понятийный анализ // Общество: философия, исто¬рия, культура. 2019. № 3 (59). С. 87–90. DOI: 10.24158/fik.2019.3.16.
- Скрыльникова Ж. Х. Современные этнокуль¬турные процессы в среде ногайцев-карагашей Астрахан¬ской области. Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2008.
- Сохань И. В., Гончаров Д. В. Социокультурная инженерия тоталитаризма: советский гастрономиче¬ский проект // Полития. 2013. № 2 (69). С. 142–155. DOI: 10.30570/2078-5089-2013-69-2-142-155.
- Сун Цзе. Вино в социокультурном ландшафте России и Китая: дис. ... канд. ист. наук. Астрахань, 2016.
- Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы, расы, культуры. М.: Наука, 1985.
- Якушенков С. Н., Сун Цзе. Культурная безопас¬ность и факторы развития национальной алиментарной культуры // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2015. № 4. С. 247–253. DOI: 10.21672/1818-510x-2015-45-4-247-253.
- Belasco W., Horowitz R. Food Chains: from Farmyard to Shopping Cart. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009.
- Bildtgård T. Mental Foodscapes: Where Swedes Would Go to Eat Well (And Places They Would Avoid) // Food, Culture & Society. 2009. № 12. Р. 497–523. DOI: 10.2752/175174409X456764.
- Burke P. Cultural Hybridity. Cambridge: Bodmin: John Wiley & Sons, 2013.
- Cinotto S. The Italian American Table: Food, Family and Community in New York City. Urbana: Univ Illinois Press, 2013.
- Crouch D., Ward C. The Allotment: Its Landscape and Culture. London: Faber, 1988.
- Dümpelmann S. An Introduction to Landscape Design and Economics // Landscape Research. 2014. № 40. Р. 555–565. DOI: 10.1080/01426397.2014.939614.
- Hymen G. Making a Man: Gentlemanly Appetites in the Nineteenth-Century British Novel. Athens: s. publ., 2009.
- Kwik J. Traditional food knowledge: A Case Study of an Immigrant Canadian «Foodscape» // Environments. 2008. Vol. 36. P. 59–74.
- Macpherson H. Walking Methods in Landscape Research: Moving Bodies, Spaces of Disclosure and Rapport // Landscape Research. 2016. Vol. 41. P. 425–432. DOI:10.1080/01426397.2016.1156065.
- Schoenfeldt M. C. Bodies and Selves in Early Modern England: Physiology and Inwardness in Spenser, Shakespeare, Herbert and Milton. Cambridge: s. publ., 1999.
- Wessel A. We Are What We Grow: Reading a Tastescape as a Text of Cultural History [Electronic Resource] // Text (Special Issue Rewriting the Menu: The Cultural Dynamics of Contemporary Food Choices). 2010. Iss. 9. URL: http://www.textjournal.com.au/speciss/issue9/Wessell.pdf (date of access: 13.03.21).
- Wylie J. Landscape. London: Routledge, 2007.