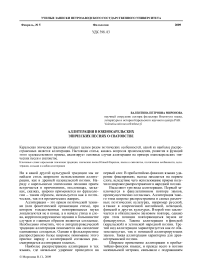Аллитерация в южно-карельских эпических песнях о сватовстве
Автор: Миронова Валентина Петровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (98), 2009 года.
Бесплатный доступ
Карельская эпическая традиция обладает целым рядом поэтических особенностей, одной из наиболее распространенных является аллитерация. Настоящая статья, касаясь вопросов происхождения, развития и функций этого художественного приема, анализирует основные случаи аллитерации на примере южнокарельских эпических песен о сватовстве.
Карельская эпическая традиция, эпические песни южной карелии, песни о сватовстве, поэтические особенности, аллитерация, сильная и слабая аллитерация
Короткий адрес: https://sciup.org/14749545
IDR: 14749545 | УДК: 398.
Текст научной статьи Аллитерация в южно-карельских эпических песнях о сватовстве
Ни в какой другой культурной традиции мы не найдем столь широкого использования аллитерации, как в древней калевальской поэзии. Наряду с карельскими эпическими песнями прием встречается в причитаниях, пословицах, загадках, сказках, широко применяется во фразеологии – таким образом, используется как в поэтических, так и в прозаических жанрах.
Аллитерация – это прием поэтической техники (или фонетической организации стиха), при котором тождественные повторяющиеся звуки локализуются не в конце, а в начале стиха и слова, корреспондирующими звуками в большинстве случаев и главным образом являются согласные. Необходимо отметить, что в литературоведческой традиции аллитерация понимается как скопление одинаковых согласных. Однако в фольклористике распространено более широкое понимание этого приема: наряду с аллитерацией согласных рассматривается аллитерация гласных.
Наиболее распространена аллитерация в тех языках, где начальное ударение приходится на первый слог. В прибалтийско-финских языках ударение фиксировано, всегда находится на первом слоге, вследствие чего использование приема получило широкое распространение в народной поэзии.
Выделяют три вида аллитерации. Первый заключается в факультативном повторе звуков, преимущественно согласных. Аллитерация такого типа широко распространена в самых различных поэтических культурах, например русской, а также в современной английской, немецкой, финской и других культурах. Второй тип заключается в обязательном звуковом повторе, однако при этом позиции повторяющихся звуков не фиксируются. Такова аллитерация в финской (карельской) и эстонской народной поэзии. Третий вид аллитерации характеризуется как ее обязательностью, так и позицией аллитерирующих звуков. Такая аллитерация характерна для древнегерманской поэзии.
Широкое применение аллитерации в прибалтийско-финских языках, и прежде всего в поэзии калевальской метрики, связывали с подражанием древнегерманскому стиху. Финляндский исследователь А. Алквист высказывал предположение, что аллитерация карело-финских рун заимствована от германцев [5; 35]. В то же время рассматриваемый художественный прием встречается в мордовском, марийском, черемышском, венгерском, вогульском и остьякском фольклоре, что дало возможность финляндскому исследователю В. Таркиайнену сделать предположение о его финско-волжском или финно-угорском происхождении [13; 7]. Аллитерационные стихи можно встретить в народных песнях вепсов, води, ливов. Широкое использование отмечается также и в эстонских народных песнях, где прием считается одним из основных признаков песенной лиро-эпической традиции [1; 45–46]. По наблюдениям Т. Итконена, значительно слабее, чем у других прибалтийско-финских народов, аллитерация представлена в саамской песенной традиции [6; 562].
Ученые не сомневаются в архаичности аллитерации, выявляя ее еще в примитивных австралийских песнях и песнях папуасов. Э. Тейлор отмечал, что «предки находили особое удовольствие в аллитерации, где одна и та же согласная повторяется снова и снова с частотой, которая показалась бы утомительной для современного вкуса» [3; 162].
Бытуют различные мнения по вопросу о функции аллитерации в поэзии. Некоторые ученые придавали ей магическую окраску, сравнивая ее с приемами повторов-цепочек, применяемых в детской кумулятивной песне [7; 195]. Аллитерация выполняет техническую роль в стихе: она ограничивает выбор слов, связывает их воедино, чем и облегчает запоминание. В качестве основной рассматривалась ее поэтическая и музыкальная функция [9; 21–22].
Аллитерация может быть сильной, когда происходит совпадение двух звуков: согласного и следующего за ним гласного ( ka glasen ka nanmunakse, pa randele pa ngujoine), а также слабой, когда совпадает только согласный звук ( k orendohon k ainalokse, tuloubo s eppo s uuttunuonnu). Слова могут начинаться также и с гласных звуков, при их повторении образуется сильная аллитерация ( O lottelet o minazen, A n’n’oid a kakse ottamah).
При аллитерации слов, в составе которых встречаются дифтонги – такие сочетания гласных звуков, как ie, uo, yö , возможны некоторые несоответствия: в парных словах созвучными являются гласные звуки e, o, ö , а не i, u, y , например soitti suolla. В данном случае мы выделяем сильную аллитерацию, корреспондирующими являются сочетания soi- suo. Объяснить это можно изменениями, произошедшими в языке: встречающиеся дифтонги в словах современного языка соответствовали длинным гласным в праязыке [4; 33]. Становление карельских эпических песен происходило тогда, когда процесс образования дифтонгов только начал свое развитие. Благодаря этому в текстах можно было встретить так называемое «открытое» созвучие (повтор длинных гласных ее, оо, öö) и «закрытое» созвучие (повтор ie, uo, yö).
В наиболее поздних записях южнокарельские тексты хронологически относятся именно к этой группе, заметна тенденция к наибольшему употреблению «закрытых» созвучий. Например, в стихе Mua mah Ma rizel sanou аллитерационная пара образуется из слов Mua mah Ma rizel, просматривается сильная аллитерация благодаря созвучию mua – ma . Первоначально форма слова mua mu была maa mu, в процессе развития языка произошла замена длинного гласного на дифтонг. Мы в данном случае, учитывая процессы развития языка, отмечаем явление сильной аллитерации.
Отдельно следует сказать об аллитерации начальных гласных, в разных языках этот процесс рассматривается по-разному. Так, например, в латинской, древнекельтской и германской поэзии любое повторение гласных в поэтической строке считали аллитерацией. В Финляндии в XIX веке А. Генетц, а позже, в начале XX века, И. В. Юве-лиус, а также другие исследователи выработали так называемую «теорию аналогичности» (samankaltaisuus teoria). Согласно этой теории, повтор некоторых гласных в стихе (например, a:ä; a:o) считался аллитерацией [9; 229–230]. Получила развитие также теория «нулевого согласного», ее сторонники не придавали согласному звуку никакой фонетической нагрузки, аллитерация определялась по гласному [9; 219–211]. В современных отечественных исследованиях по поэтике вопрос об аллитерации гласных рассматривается отдельно. Так, в частности, касаясь аллитерации гласных звуков в древнегерманской и финской народной поэзии, Ю. М. Лотман отмечает, что никаких повторов (имеются в виду повторы гласных) в стихах может и не быть: достаточно, чтобы встречались слова, начинающиеся с любых гласных [2]. В данном случае учитывается не повтор собственно гласных, а повтор предшествующего им нулевого согласного, то есть аллитерируются не гласный – гласный , а согласный + гласный и согласный + гласный, где гласный – произвольный начальный гласный. Исследователь поясняет свои выводы изменениями в финском языке. Первоначально нормальная модель слога в финно-угорских языках начинается с согласного звука. Большинство слов, начинающихся с гласной, в действительности часто (но не всегда) образовались в результате утраты начального согласного. Таким образом, первоначально в слове гласному предшествовал согласный звук, аллитерация происходила по созвучию согласных, а при их утрате закрепилось созвучие гласных [2].
Прямо противоположную точку зрения высказывали А. Е. Сааримаа [10; 7–8], В. Салминен [12; 185–186], М. Кууси [8] и П. Лейно [9], считая аллитерацией только повторы согласный + гласный и согласный + гласный, гласный – гласный , а также согласный – согласный , причем в первых двух случаях речь идет о сильной аллитерации, в последнем – о слабой. В данном исследовании будем опираться на выводы этой группы ученых и не будем считать аллитерацией любой повтор гласного звука.
Стихотворная строка может и не иметь аллитерации, такие случаи составляют половину из всех взятых во внимание южнокарельских песен о сватовстве ( s uureksi j ourhsiksi p agenemah). Неаллите-рированные стихи по ходу повествования органично сочетаются с аллитерированными поэтическими строками, вследствие чего не происходит нарушения ни ритма, ни мелодики эпических песен.
Финский ученый М. Садениеми, изучавший аллитерацию калевальских рун, отмечал некоторые закономерности, присущие стиху рун. Во-первых, рассматривая отдельно прием аллитерации в стихах, состоящих из двух, трех, четырех слов, ученый пришел к выводу, что имеются заметные различия в зависимости от строения стиха: строка из четырех слов в беломорской руне гораздо чаще имеет сильную аллитерацию в сравнении с трехсловным или двухсловным стихом. Причем аллитерация происходит между рядом находящимися словами и чаще всего встречается в конце стиха [11; 91].
В севернокарельской руне в целом около половины стихов аллитерированы, причем сильная аллитерация отмечается в 35 % стихов, слабая – в 15 %, остальные не имеют аллитерации. Такие данные были получены при анализе эпических песен репертуара Архиппы Перттунена [11].
Несколько отличная картина выявляется в южнокарельской традиции. Рассмотрим в качестве примера аллитерацию одной руны этой этноло-кальной традиции. Это песня, записанная от Власия Иванова, уроженца деревни Ведлозера, 60 лет. Запись сделана И. Хяркененом в 1901 году. Песня довольно полная – 162 строчки, она включает в себя все мотивы, свойственные этой эпической традиции. Аллитерация соблюдается в 69 строчках, 93 строчки не аллитерированы, в 52 строчках сильная аллитерация, в 17 – слабая. Аллитерация, как правило, не соблюдается внутри целого предложения, только в рамках отдельно взятого стиха. Предложения в рассматриваемом варианте песни сложные, включают в себя несколько простых; встречается большое количество однородных членов, обращений, в целом предложения включают от двух до пяти стихов . Обычно аллитерация меняется построчно: из 3, 4, иногда 5 слов созвучны 2, реже 3 слова. Соотношение созвучных слов к общему их количеству (или так называемая плотность аллитерации) значительно ниже, чем, например, в севернокарельских песнях, и составляет примерно 1:1,5, 1,7, 2. Однократны случаи выделения аллитерационной цепочки, в которой звуки созвучны подряд в нескольких стихотворных строчках.
В анализируемом тексте присутствуют различного вида аллитерации (см. табл. 1), на протяжении всей песни она меняется 30 раз. Максимальное количество, или цепочка аллитерирующих слов, в единице текста доходит до 6, при общем количестве слов в ней – 8. В песне довольно большое количество строк, в которых аллитерация отсутствует. Просматривается явное преимущество сильной аллитерации. Если в беломорской руне аллитерация происходит чаще в стихе, состоящем из трех слов, то в южнокарельской песне аллитерация в равной мере происходит в стихе, состоящем как из трех, так и из четырех слов, при небольшом преимуществе последних. Как и в беломорской традиции, чаще всего аллитерации подвергаются рядом находящиеся слова:
S a duloiče sa da hebuo! Kudain h i rvine he boine, S il sa rvikas sa duli s elgäh
Suannet ha uvin ha rvukirjan, Siit on va lmis va lvattine
Запряги сто лошадей!
Который конь-лось,
Тому рогатое седло на спину. SKVR II:95, 59–611
Поймаешь если щуку редкого цвета,
Тогда будет готова ожидаемая SKVR II:95, 108–109
При этом нельзя выделить определенную закономерность, как это делает М. Саданиеми по отношению положения аллитерационных пар в стихах Архиппы Перттунена. По мнению финляндского исследователя, созвучные пары в беломорской традиции преимущественно находятся в конце стиха. В южнокарельской эпической традиции аллитерационные пары с одинаковой частотой встречаются как в начале, так и в конце стиха.
Таблица 1
Виды аллитерации, выявленные в песне В. Иванова
|
Аллитерирующие звуки |
Количество |
Плотность |
|
|
слов |
строк |
||
|
ka-2 |
3 |
1 |
1:1,5 |
|
py-2 |
3 |
1 |
1:1,5 |
|
en-2 |
4 |
1 |
1:2 |
|
s- 2 |
4 |
1 |
1:2 |
|
hä-2 |
3 |
1 |
1:1,5 |
|
y-2 |
4 |
1 |
1:2 |
|
va-2 |
3 |
1 |
1:1,5 |
|
pa-3 |
3 |
1 |
1:1,5 |
|
tä(ta)-2 |
4 |
1 |
1:2 |
|
k-2 |
4 |
1 |
1:2 |
|
lä(la)-2 |
4 |
1 |
1:2 |
|
hua(ha)-2 |
2 |
1 |
1:1 |
|
ky-2 |
4 |
1 |
1:2 |
|
mua-2 |
4 |
1 |
1:2 |
|
pai(piä)-2 |
4 |
1 |
1:2 |
|
sua-2 |
4 |
1 |
1:2 |
|
tu-2 |
4 |
1 |
1:2 |
|
sa-2 |
3 |
1 |
1:1,5 |
|
h-2 |
3 |
1 |
1:1,5 |
|
sa-4 |
7 |
2 |
1:1,7 |
|
ka-2 |
3 |
1 |
1:1,5 |
|
vuo-2 |
2 |
1 |
1:1 |
|
se-si-sua-6 |
8 |
2 |
1:1,6 |
|
ko-2 |
3 |
1 |
1:1,5 |
|
u-2 |
3 |
1 |
1:1,5 |
|
va-2 |
4 |
1 |
1:2 |
|
u-2 |
3 |
1 |
1:1,5 |
|
a-2 |
2 |
1 |
1:1 |
|
ra-2 |
3 |
1 |
1:1,5 |
|
ma-2 |
4 |
1 |
1:2 |
В некоторых случаях аллитерация происходит в рамках одного стиха за счет повторения одного и того же слова:
Söin on, söi n on – ела я, ела я.
Такие аллитерационные пары в поэтической строке образуют внутристиховые тавтологические повторы.
Созвучие может соблюдаться за счет использования однокоренных слов, однако такие случаи встречаются довольно редко:
Shenoi py hien py hitteli – соблюдала святой пост.
Как мы уже отмечали выше, наиболее часто аллитерируются рядом стоящие слова. Встречаются случаи, когда между созвучными словами находятся другие слова:
Ky lböö seppo ky lyisen – помылся кузнец в бане.
Tu handes rubljas tu luppazen – за тысячу рублей тулуп.
Возможность такой аллитерации была отмечена еще финляндскими исследователями. М. Сада-ниеми в своем исследовании рассматривал в качестве аллитерационных стихи из трех слов, в которых созвучны два последних слова, два первых слова, а также первое и последнее слова в поэтической строке [11; 88–89]. Причем ученым была отмечена прямая зависимость аллитерации от длины слова: созвучными становятся слова с наибольшим количеством слогов. Слово, находящееся между двумя созвучными, будет значительно короче составляющих аллитерационную пару, а последнее, напротив, – самым объемным. В нашем примере, разделив слова на слоги, можем построить следующие схемы: Ky l/böö sep/po ky/ lyi/sen – 223 (цифры соответствуют количеству слогов), tu/ han/des rub/ljas tu/ lup/pa/zen – 324. Замечаем, что самое большое количество слогов – в последнем слове стиха, а находящееся между аллитерационной парой слово является самым коротким. Опираясь на выводы М. Саданиеми, данные случаи будем также относить к явлению аллитерации.
Рассмотрев все имеющиеся варианты южнокарельских песен, мы получили общую картину использования приема аллитерации. Для этого из общего числа стихов в песне выделили стихи с аллитерацией и те случаи, где аллитерация сильная. Результаты выявленных видов аллитерации представлены в табл. 2.
В процентном отношении аллитерация в стихе может колебаться от 22 до 42 % от общего числа стихов, из них только менее половины – сильная аллитерация. Сильная аллитерация наиболее распространена в вариантах песен конца XIX – начала XX века, тогда как в записях, отно -сящихся к 1930–50-м годам, наблюдается преобладание слабой аллитерации. Процесс уменьшения количества аллитерации можно объяснить утратой многими исполнителями мастерства, вследствие чего подбор нескольких слов с совпадающими начальными звуками уже не являлся обязательным условием при исполнении. В большинстве случаев аллитерация достигается путем подбора одинаково звучащих, но совершенно разных по значению слов. Созвучными могут быть все слова в стихе:
Pa ni pa idazen pa jaksi – сделал из рубашки кузню.
Ha ukkai hä ndy ha rmai ha ugi – проглотила его серая щука.
Va hnat va imod va rustutah – старые жены готовятся.
Va hnu v iizai Väi nämöine – старый мудрый Вяйнемейне. Ko ivut ko rgiet ka zvettih – выросли березы большие.
Созвучными могут быть два слова в стихе:
Ruskied k ordjat k arizou – красная повозка стучит.
Äski ty öndäy ty ttäryözen – теперь отпустит дочь.
Työttih ve nöi ve zilego – опустили лодку на воду.
Можно выделить устоявшиеся пары слов или целые сочетания слов, образовавшиеся в результате длительного бытования эпической традиции. Слова связаны между собой определенной аллитерацией, переходят из варианта в вариант. Такие пары встречаются при описании свадебного поезда:
Pane soloveilinduzet soittamah, Пусть птицы-соловьи играют, piäsköilinduzet pajattamah. птицы-ласточки поют.
Таблица 2
Виды аллитерации
|
Всего стихов |
Аллитерация |
Сильная аллитерация |
|
95 |
39 |
21 |
|
35 |
13 |
5 |
|
165 |
68 |
38 |
|
110 |
53 |
39 |
|
70 |
23 |
13 |
|
140 |
52 |
30 |
|
140 |
44 |
20 |
|
204 |
84 |
56 |
|
210 |
60 |
29 |
|
180 |
69 |
23 |
|
87 |
20 |
6 |
|
160 |
68 |
38 |
|
168 |
43 |
19 |
|
96 |
28 |
21 |
|
195 |
66 |
44 |
|
168 |
50 |
27 |
|
99 |
41 |
25 |
|
184 |
76 |
44 |
|
208 |
88 |
15 |
|
179 |
44 |
46 |
|
68 |
14 |
11 |
|
122 |
74 |
39 |
|
197 |
74 |
37 |
|
118 |
41 |
21 |
|
126 |
32 |
9 |
|
180 |
72 |
41 |
|
84 |
31 |
7 |
|
234 |
98 |
46 |
Подобные же сочетания встречаются в мотиве переправы героя в потусторонний мир: лошадь Илмойллинена не едет, а как будто летит над гладью моря:
Hibjoin, ka bjoin ka stumatta
Vuo hizien va jottamatta.
Не вспотеет тело, не промокнут копыта не обмокнут щетки (на ногах).
Нередко в песнях появляются аллитерационные цепочки, которые чаще всего имеют устойчивое место по ходу повествования. Так, например, практически в каждом варианте присутствует диалог кузнеца Илмойллинена с хозяйкой мифической Хийтолы. Герой, приехавший сватать невесту, всегда обращается к ней со словами:
Jogos on va lmis va lvattine, ka ksien vuo zien ka cottavu, ko lmien vuo zien ko zittavu.
Уже ли готова ожидаемая, по два года смотренная, по три года сватанная. SKVR: II, 91, 57–59
Такие обращения повторяются по нескольку раз, их количество зависит от числа трудных заданий, которая хозяйка Хийтолы дает выполнить кузнецу Илмойллинену.
Устойчивым с точки зрения использования аллитерации является мотив изготовления геро- ем кузницы в утробе Хийтолы, в некоторых вариантах – в утробе серой щуки:
Pa ni p olven p iän aluzimekse, Сделал колено наковальней, Kulakan pa ni pa l’l’akse кулак свой сделал молотом, pa ijan pa ni pa lgehikse из рубахи кузнечные меха.
SKVR: II, 90, 135–137
Стабильным и практически всегда образующим аллитерационную цепочку является финал песни, в котором кузнец превращает красивую Катерину (в некоторых вариантах – Анни) в чайку:
K iroi Annin ka joiksi kau gumahe va stutuulel va ngumah, Nuotan pu lluo pu rgamah
Обернул Анни чайкой кричать, на встречных ветрах стонать, поплавки сетей рвать.
SKVR: II, 90, 175–176
Таким образом, анализ текстов показал, что в южнокарельских эпических песнях о сватовстве аллитерация является постоянным поэтическим приемом, изменяющимся по ходу повествования большое число раз. В текстах можно выделить устоявшиеся аллитерационные пары, а также цепочки созвучных слов. Имеющийся материал показывает, что рассматриваемый прием был распространен так же широко, как и в беломорской эпической традиции.
Список литературы Аллитерация в южно-карельских эпических песнях о сватовстве
- Лаугасте Э. Эстонская аллитерационная народная песня. Таллинн: Ээсти раамат, 1984. 56 с.
- Лотман М.Ю. К основаниям моделирующей поэтики//Труды по русской и славянской филологии/Под. ред. Л. Киселева. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1996. С. 35-60.
- Тейлор Э. Первобытная культура/Предисл. и примеч. И. Першица; Пер. с англ. Д. А. Корапчевского. М.: Политиздат, 1986. 573 с.
- Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка: В 2 кн. Кн. 1: Развитие и структура финского языка/Пер. с финн. под. ред. П. А. Аристэ. М.: Иностранная литература, 1953. 311 с.
- Ahlgvist A. Suomalainen runousoppi kieliselta kannalta. Helsinki: Frenkeli ja poika, 1863. 105 s.
- Itkonen T. Suomen lappalaiset vuoteen 1945, osa 1-2. Porvoo; Helsinki: Söderström, 1948. 631 s.
- Koskimies R. Yleinen runousoppi. Toinen painos. Helsinki: Otava, 1949. 304 s.
- Kuusi M. Kalevalaisen runon alkusointuisuudesta//Virittäjä. Helsinki: Kotikielen seura, 1953. S. 198.
- Leino P. Strukturaalinen alkusointu Suomessa. Helsinki: Forssan Kirjapaino Oy, 1970. 322 s.
- Saarimaa E.A. Kielen ja tyylin alalta: Kirjoitelmia. Porvoo: WSOY, 1925. 213 s.
- Sadeniemi M. Die Metrik des Kalevala-Verses//Folklore Fellows Communications 139. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia, 1951. 154 s.
- Salminen V. Suomalaisten muinoisrunojen historia. Helsinki: Suomalaisen kirjailijoiden seura, 1934. 366 s.
- Suomen kansalliskirjallisuus: Valikoima suomen kirjallisuuden huomattavimpia tuotteita/Toim.: E. N. Setelä, V. Tarkiainen, V. Laurila. Helsinki: Otava, 1943. 576 s.