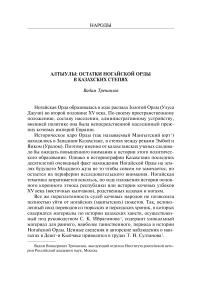Алтыулы: остатки ногайской орды в казахских степях
Автор: Трепавлов Вадим Винцерович
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Народы
Статья в выпуске: 2, 2001 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911761
IDR: 14911761
Текст статьи Алтыулы: остатки ногайской орды в казахских степях
К востоку от Больших Ногаев обособились потомки шести сыновей бия Шейх-Мамая, правившего в 1540-х годах. Они составили довольно слабое, но относительно самостоятельное политическое образование — Улус Шести Сыновей (Алтыулы).
Один из невыясненных вопросов — время начала самостоятельного существования Алтыулов. Абсолютное большинство исследователей связывает этот процесс с событиями междоусобной ногайской смуты 1550-х годов, когда нурадин 5 Исмаил сверг и убил своего старшего брата, бия Юсуфа 6. Однако ответ не столь однозначен, так как дети и внуки Шейх-Мамая долгое время сохраняли формальную принадлежность к Большой Ногайской Орде.
Лучшим аргументом и наиболее авторитетным свидетельством о времени и обстоятельствах обособления улусов могут служить сведения, исходящие из среды самих средневековых ногаев. Раскол наметился все-таки в ходе упомянутой смуты, как можно судить по рассказу бия Иштерека астраханским воеводам в ноябре 1604 года: «Как было преж сего при Исупе князе и при Смаиле, и в те поры... был нагаискои один Юсуф князь, а Шихмомаево родство кочевали вместе ж с Юсуфом князем и со всеми нагаискими мурзами. И в те поры в Нагаях меж князя и мурз и улусных людеи розни никоторые не было. А как Смаиль князь убил Юсуфа князя, и Смаиль князь с мурзами и с улусными людми учал кочевать на Нагаискои стороне, а Шихмомаево родство учали кочевати по Яику и за Яиком по Еми (Эмбе. — В. Т. ) реке и по Сыру (Сырдарье. — В. Т. ) реке, и учали с тех пор слыть Алтыулские мурзы» 7.
Действительно, первая убедительная информация о начале обособления Шихмамаевичей относится к периоду смуты. Грамота Исмаила, доставленная в Москву в июле 1557 года, гласит: «Да племянники ж мои от нас отстали ныне за Яиком, и приложилися х казацкому царю (казахскому хану Хакк-Назару. — В. Т. ), со мною завоевалися» 8. До того, при Юсуфе, дети Шейх-Мамая были в целом лояльны к главе Орды, пока взаимные распри и кровная месть не положили начало разрыву. Тот же Иштерек в 1604 году, продолжая рассказ о расколе ногаев, поведал воеводам, что «у Смаиля князя и у Тенехмата князя 9, и у Тенехматовых детеи с Казыевым улусом 10 и с Шихмомаевым родством, с Алтаулскими мурзами, учала быти рознь великая и кровь проливатца многая за то, что оне меж себя в кочеванье в розни учинились» 11.
Но при этом представление о единстве ногаев сохранялось. Как подданные Алтыулов, так и жители Казыева улуса помнили о своей принадлежности к великому народу «хакимов Дешт-и Кыпчака». И несмотря на их смертельную порой вражду, иногда в источниках мелькают отголоски таких воззрений. В начале 1604 года мирза Джан-Арслан б. Урус 12 в борьбе с детьми Дин-Ахмеда постоянно пытался привлечь к себе в союзники казыевцев и Алтыулов 13. Подобные шаги являлись не только следствием отчаянных поисков подмоги. Еще в относительно мирные времена, летом 1586 г., тайбуга 14 Ураз-Мухаммед описывал могущество ногаев следующим образом: «А нас, мангытцких людеи, с Шихмомаевыми детми сорок тем, и толко схожась с Казыевыми улусы и свестяся с крымскими людми, соединачився, все вместе будем, и нас будет сто тысяч тем» 15.
Буквальное значение утвердившегося в литературе наименования крайних восточных улусов, которые отделились от Ногайской Орды, Алтыулы , несомненно, — «Шесть Сыновей». Подразумеваются отпрыски Шейх-Мамая Хан, Касым, Бай, Ак, Бек и Бий. Впрочем, некоторые исследователи пытались отыскать иную этимологию: шесть аулов ( алты авыл ), шесть айлов ( алты айлык ), шесть Кыпчакских племен... Возводили это словосочетание и к никогда не существовавшему мирзе Алте б. Урусу 16.
Понятие «Алтыулы» в русских документах появляется и утверждается в начале XVII века. До того, во второй половине XVI века, применялись синонимичные выражения «Шесть Братьев», «Шесть Сыновей» и «Шесть Мирз». Первое употребление словосочетания «Шесть Сыновей» («у Шти Сынов», то есть буквально Алты улы) замечено мною в грамоте мирзы Бека б. Шейх-Мамая царю Ивану IV, доставленной в Москву 8 июня 1581 года 17. До этого речь всегда велась о шести братьях Шихмамаевичах, которые, в свою очередь, впервые упомянуты в донесении посла Е. Мальцова, побывавшего у бия Исмаила летом 1559 года («...а шесть братов... Шихмамаевы дети — на Яике»), а также в синхронной грамоте Исмаила ИвануIV18.
Уже с самого начала все эти наименования были условны, так как после гибели Хана б. Шейх-Мамая в 1549 году братьев осталось пятеро, после гибели Касыма в 1555 году — четверо, после смерти Ака в 1580 — трое. Но сами члены рода Шейх-Мамая продолжали пользоваться формулами «Шесть Братьев» и «Шесть Сыновей» для всех потомков этого бия (которых уже в 1556 году набиралось тридцать человек). И Большие Ногаи тоже принимали эту условность, говоря о «Шести Мирзах», насчитывавших пятнадцать человек 19.
Первое упоминание о зоне кочевания улусов левого крыла Ногайской Орды после Шейх-Мамая относится к ноябрю 1549 года: Касым с братьями кочует «на реке на Сыре (Сырдарье. — В. Т. ) х Ка-зацкои Орде» 20. За этим кланом закрепилась территория Западного Казахстана, и впоследствии бий Иштерек присягал царю, в частности в том, что «за Яиком по реке по Еми и за Емью и по Сырту
(здесь — Сырдарье. — В. Т. ) ... мне... не кочевати». Здесь очерчена область Алтыулов, потому что Иштерек, напомним, тогда же рассказывал воеводам, что при Исмаиле «Шихмомаево родство учали ко-чевати по Яику и за Яиком, по Еми реке и по Сыру реке».
Как видим, первоначально клан Шейх-Мамая кочевал в том числе на приуральских пастбищах. Однако в 1570–1580-х годах улусы отошли с Яика на восток, спасаясь от казачьих набегов, и западным рубежом владений Алтыулов стала Эмба. Эта река фигурирует в документах как граница, за которой начинались алтыульские степи 21. В XVII веке, попав в подчинение к калмыцким предводителям-тай-шам, Алтыулы иногда вновь придвигались к Яику, к развалинам стольного Сарайчука — столицы Ногайской Орды, разгромленной казаками в 1581 году 22. Другим крайним пределом их перемещений был «Юргенч» — Хорезм и северные области Мавераннахра 23.
Сколь велико было ногайское население, проживавшее на пространстве между Эмбой и Сырдарьей? Не удалось обнаружить данных о его численности за вторую половину XVI и начало XVII века. А вот от периода 1620–1630-х годов, когда русская астраханская администрация активно контактировала с Алтыулами, такие данные дошли. В 1627–1628 годах их количество составляло одну тысячу, по одним данным, всех улусных людей, по другим, — только мужчин-ополченцев 24. В воеводской отписке 1628 года говорится, что «алтыул-ских... тотар ратных людеи с пятьсот человек, а с триста человек худых людеи бродят меж улусов» 25; это в целом может соответствовать общему числу жителей в две-три тысячи. Через десять лет в документах фигурируют даже меньшие цифры: тогда в Западном Казахстане с мирзами кочевало от пятисот до семисот ногаев 26.
Крайне незначительны сведения о родоплеменном составе алты-ульского объединения. Мне встретились лишь два, опять-таки довольно поздних, упоминания по данному поводу. В 1627 году улусниками мирзы Шейх-Мухаммеда б. Касыма было «ханлыцкое родство», то есть эль канглы ; в 1628 году в составе Алтыулов названы «татаровя меситцково родства», то есть эль месит 27. Это свидетельствует о том, что деление народа на эли, традиционное для кочевников Дешт-и Кыпчака, сохранялось. Однако оно не стало столь же актуальным, как в Большой Ногайской Орде первой трети XVII века, когда немангыты обрели значительное влияние и право голоса на съездах знати. Характерно, что в 1622 году в списке мирз, присягавших царю после утверждения бием Каная б. Динбая, «родства» улусных людей старательно перечислены лишь для представителей
Больших Ногаев, а у присутствовавших тут же алтыульцев указана только принадлежность к улусу конкретного мирзы 28.
Исследователи каракалпакского фольклора сочли, будто шесть каракалпакских родов — муйтен, конграт, кытай, кыпчак, кенегес и мангит-акпшак (или мангит ак-пышак ) — являются реликтом шестисоставного алтыульского объединения 29. Но, во-первых, изначально указанных родов у каракалпаков было все же не шесть, а семь, потому что последний из этнонимов составлен, очевидно, из двух: мангыт и ак-кыпчак. Во-вторых, ни малейшего намека на присутствие перечисленных элей среди Алтыулов в источниках нет; разве что мирзы «по определению» принадлежали к мангытам; а муйтен вообще никогда не фиксируется у ногаев.
Алтыулы в составе Ногайской Орды
В период бийства Юсуфа (1549–1554) потомство его предшественника Шейх-Мамая в целом сохраняло лояльность к общему правителю несмотря на отдельные разногласия. Касым б. Шейх-Мамай отправлялся вместе с бием в походы и охранял восточные рубежи Орды от «Юргенча» (Хорезма). Во время смуты 1550-х годов он и его братья поддерживали то Исмаила, то Юсуфовичей, пока последние не убили Касыма и не превратились в кровников для его родичей. К концу 1550-х годов братья расценивались как «неотступные» подданные победителя Исмаила. Но в финале его правления отношения испортились. Дети Шейх-Мамая были оттеснены от власти, не получили ни одного высшего поста в Орде. В 1563 году конфликт принял острую вооруженную форму: мирзы в союзе с войском ташкентского правителя Бабы б. Барака нападали на владения Исмаила. Предоставив Аку, тогдашнему старейшине Алтыулов, должность кековата 30, преемник Исмаила Дин-Ахмед воостановил с ними отношения, а следующий бий Урус (1578–1590) уже вновь считал улусы Алтыулов частью своей державы, в частности, заключал шарт-наме 31 и от их имени. Тесные и мирные связи с Урусом сказались во время распрей конца XVI века. Восточные мирзы поддержали Джан-Арслана б. Уруса в борьбе за «княженье» и послали свою конницу против сыновей бия Дин-Ахмеда 32.
В конце 1570-х годов Бек б. Шейх-Мамай демонстрировал полную лояльность Урусу, называя его «старейшим братом нашим» 33, а глава Шихмамаевичей Ак оставался кековатом. После Ака на этот пост заступил Бек. Кековатство означало, помимо прочего, включенность Алтыулов в административную структуру ногаев. Бий Ураз-Мухаммед (1590–1598) считал их частью Большой Орды, хотя частью автономной, существующей помимо общей массы его подданных: «А нас, мангытцких людеи, с Шихмамаевыми детми сорок тем» 34. В 1595 году казахский посол в Москве рассказывал о казахском хане Таваккуле, что тот «с ногаи со Шти Браты в миру, а с Те-нехматовыми дети да с Урусовыми ни так ни сяк» 35. В следующем году гонец царя Федора Ивановича к Таваккулу В. Степанов в пути миновал стороной «улусы обои — Болших Ногаи и Шти Братов» 36. То есть Алтыулы воспринимались как ногаи, но отличные и от Большой Ногайской Орды в целом, и от ее главных соперничающих лагерей — семей Тинехматовых и Урусовых. Впрочем, встреченный Степановым в степи русский полонянник говорил, что побывал в плену «в Болших Ногаех у Шти Братов» 37, значит, воспринимал два улуса как единое целое, Алтыульское объединение — как часть Большой Ногайской Орды. Это суждение тем более ценно, что исходит от человека, познакомившегося лично, «изнутри» со структурой степной державы и с взаимоотношениями ее частей.
Даже в первых десятилетиях XVII века, когда Алтыулы действительно окончательно отдалились от бия, их лидеры иногда заводили разговоры о предоставлении им кековатства и, следовательно, о возвращении в структуру Орды. В 1625 году глава их Султанай стал тайбугой.
Положение левого крыла Мангытского юрта (Ногайской Орды) в Восточном Дешт-и Кыпчаке, близость его к мусульманским государствам Мавераннахра обязывали Алтыулов контролировать восточные границы ногайских кочевий и активнее, по сравнению с прочими улусами, вступать в контакты с владениями в Средней Азии и Сибири. Историки приходили к заключению о чрезвычайно тесной связи этой части Ногайской Орды с туркменами, о ее зависимости от бухарского хана Абдуллы II 38. Целая историография сложилась вокруг темы ногайско-каракалпакской исторической преемственности. В середине XVI века Алтыулы были больше связаны с Хорезмом (Ургенчем) и Ташкентом, к чьим границам они ежегодно отходили на летовки. Там же они пытались учредить постоянную базу для набегов на Ногайскую Орду во времена конфликтов с ее правителями, вступали в «братские» (равноправные) отношения с узбекскими владетелями. В периоды же замирения с биями те же улусы потомков Шейх-Мамая становились «в заставу» от набегов узбеков, своих бывших союзников 39. Столь же неровными оказывались связи с казахами, особенно в эпоху хана Хакк-Назара, с которым то заключался союз, то начинались стычки 40. В отношении далекого Московского царства Алтыулы во второй половине XVI века не проводили самостоятельной политики и, когда возобновляли дружбу с биями, для сношений с Россией использовали, как правило, дипломатические каналы последних.
Эпоха самостоятельности Алтыульского улуса
В первые два десятилетия XVII века Алтыулы, не желая иметь какие-либо отношения с бием Иштереком (1600–1619), практически вышли из подданства Большой Ногайской Орды. Правда, с ними сепаратно общался влиятельный мирза и будущий бий Канай б. Динбай, но сам Иштерек был настроен против своих восточных соседей-соплеменников и во время сотрудничества с мятежным атаманом И. Заруцким громил их улусы 41. Именно «измены» Иштерека во время русской Смуты породили у астраханских воевод планы по привлечению кочевников из-за Яика «под государеву высокую руку» с раздачей им жалованья и приведением к шерти 42. При этом степи по Эмбе служили для соперничающих большеногайских мирз одним из возможных направлений откочевки при поражении в междоусобной борьбе. В 1620 году разгромленные под Астраханью нурадином Кара Кель-Мухаммедом б. Ураз-Мухаммедом кланы Тинмаметевых и Иштерековых осуществили это намерение и присоединились к Султанаю Шихмамаеву 43. Между тем Султанай давно уже подвергался обработке со стороны промосковски настроенного Каная. В 1622 году Султанай утвердился «в свойстве и совете» с Канаем и перевел свои улусы под Астрахань, где в ноябре шертовал государю, а в сентябре 1625 года был торжественно провозглашен тайбугой Ногайской Орды 44.
Тем временем на Эмбе оставались подданные султанаева брата или кузена Шейх-Мухаммеда (Шаинека, Шагима, Шаима) б. Касыма 45. Два подразделения Алтыулов сносились друг с другом через гонцов. Султанай пытался уговорить эмбинцев тоже перебраться к Астрахани. Их лидер реагировал раздраженно, гонцов принимал сурово, отходил к хивинским 46 границам и вновь возвращался. Канай рассказывал, что Шейх-Мухаммед ловит по степи русских полонян-ников, бегущих из Хивы, и отправляет их обратно в неволю. Под началом у него пребывали «улусные невеликие люди» — триста человек, включая тридцать пищальников 47.
В начале 1627 года за подозрительные ссылки без санкции воевод с «непослушником» Шейх-Мухаммедом Султанай был посажен под стражу и находился в заточении три месяца. Канай обивал пороги Съезжей избы и воеводских теремов, доказывая, что за Султанаем он «никоторого дурна не ведает» и «порукою на нем имался». Астраханский наместник Ю. П. Буйносов, вняв наконец уговорам бия, выпустил мирзу.
По выходе из застенка, в марте, Султанай поехал в свою ставку в «юртах» (полукочевых селениях). Там из беседы с нурадином Кара Кель-Мухаммедом он узнал о зловещих планах властей выдворить его, Султаная, с семьей на поселение в глубь России — фактически в ссылку. На самом деле ничего подобного администрация не замышляла, но у всех перед глазами стоял недавний пример мирзы Урака Тинмаметева, насильно увезенного на север. Собрав родичей, Сул-танай спешно отъехал за Яик и присоединился к Шейх-Мухаммеду (хотя большинство его улусников осталось на Волге). Потрясенный таким оборотом дел, Канай, как умел, оправдывался перед князем Буйносовым, клялся, что не причастен к бегству мирзы, что сам не ожидал от него такого «воровства», а уж коли прознал бы-де о подобных планах Султаная, то «он бы, Канаи, ему, Салатанаи мурзе, своими руками голову отрезал» 48.
Посланные в погоню двести стрельцов с ногаями-добровольца-ми настигли Алтыулов в девяти днях к востоку от Яика, на Эмбе. В сражении они убили шестьдесят местных улусников, а Султанай, раненный стрелой «в спину повыше поясницы», бежал к морю. Алты-улы рассеялись. Астраханцы уже не могли на уставших конях искать их по степи. Разведчики заметили вдали только одного неприятельского пищальника, да и того не сумели поймать. С полоном и «языками» отряд вернулся домой 49.
Султанай же разыскал Шейх-Мухаммеда и снова стал кочевать вместе с ним. Знающие люди рассказывали, будто живут они «меж себя в совете, а розни меж ними нет». Соседство слабого и малочисленного Алтыульского улуса с могучей Россией, агрессивными калмыками и дружественными узбеками заставляло мирз налаживать мирные отношения со всеми ними. Рядовые улусники видели главную выгоду в контактах с русскими. Шейх-Мухаммед в целом разделял эту позицию (Алтыулы располагались на торговом пути из Мавераннахра в Башкирию и Сибирь) и заявлял, что не прочь перейти под цареву «высокую руку». Но переговоры об этом он затевал с уфимскими воеводами, а не с астраханскими, которых он боялся, особенно после истории с заточением Султаная.
Именно с русской администрацией Уфы была достигнута договоренность о взаимном обеспечении безопасности для русских, ногайских и среднеазиатских купцов. Мирза заявлял, что, «хотя... кочюет он и далеко, толко... он... великого государя холоп, а опроче... ему Ен-бы детца негде» и он готов идти на любую государеву службу и даже платить ясак — «со всякие избы по лисице, а изб у них всех с тысечю». В то же время Алтыулы находились «в миру» с калмыками и с Хивой50.
Между тем астраханские власти, с их традиционной функцией контроля над ногаями, свою активность не ослабляли. В ноябре 1627 года в степь был послан боярский сын Я. Бухаров с поручением уговорить мирз прикочевать к Астрахани. Встречные номады отговаривали гонца от опасного предприятия: Алтыулы, мол, настроены против астраханских воевод и, главное, — против Больших Ногаев; Шейх-Мухаммед и Султанай сейчас активно ссылаются с калмыками, и Бухарова может ожидать очень суровый прием.
Так и произошло. На берегу Эмбы семьсот алтыульцев окружили посольство, застрелили толмача, утопили одного стрельца, а Бухарова и всю свиту, связав, посадили под стражу. Грамоту от воевод сожгли, наказную память (инструкцию) гонцу порвали. В те же дни в улусе находились калмыцкие послы, с которыми мирзы вели переговоры о дружбе и совместном походе на Каная, а также узбекские купцы, приценивавшиеся к новым русским пленным. Бухарова секли плетьми и жгли огнем, выпытывая, отдадут ли за него воеводы ногайские семьи, полоненные стрельцами во время погони за Сул-танаем, и собираются ли русские в будущем напасть на Алтыулов. Гонец отвечал, что семьи за него не отдадут, а своими действиями мирзы сами провоцируют новые походы. Через некоторое время его выкупил приехавший жениться из-под Астрахани ногаец-канглы; он заплатил за Бухарова «10 коней ногаиских да саблю оправлену серебром рублев в дватцать», десять кафтанов, панцирь, «шапку ми-сюрскую» и сто аршин бязи (наверное, отдал весь калым). В феврале 1628 года Бухаров приехал в Астрахань 51.
На эти события наконец отреагировала Москва. В грамоте от 17 мая 1628 года воеводам был учинен жестокий разнос. Царь гневался, что за Яик снарядили не большое ногайское войско бия Ка-ная, а «послали... к таким вором Якова Бухарова с товарыщи (толко с пятью человеки!), неведомо на что смотря и неведомо чему пове- рили. Толко лише людеи потеряли, а их (Алтыулов. — В. Т.) пуще от-гонили». От воевод требовали вызвать к себе Кара Кель-Мухаммеда и допросить, что он говорил Султанаю по выходе того из тюрьмы и чем так напугал, и внушить, что «так делают изменники, а не прямые холопи, которые служат нам, великому государю». Тех же алты-ульских мирз, которые повинятся, надлежит принимать под покровительство и давать жалованье, «смотря по людем» 52. После этого выговора воеводы решились на новый рейд на восток, тем более что его требовали и местные стрельцы, и Большие Ногаи, возмущенные пленением посольства, а также сам оскорбленный Яков Бухаров. Рейд оказался успешным: в пяти «днищах» за Эмбой Алтыулы были полностью разбиты и рассеяны по степи 53.
Султанай, Шейх-Мухаммед и прочие восточные мирзы, распродав к тому времени в рабство служилых людей из астраханского посольства, задумались, что делать дальше. «Молодые» мирзы пугали старейшин новой карательной экспедицией русских. Султанай предлагал откочевать под защиту хивинских или казахских ханов; Шейх-Мухаммеду и его брату Кулаю более подходящим направлением миграции казались бухарские владения. Кроме того, была возможность присоединиться к туркменам или калмыкам. Во время этих споров произошла даже ссора между предводителями: какой юрт выбрать для переселения? Султанай и Шейх-Мухаммед стали кочевать порознь. Воеводы доносили в Посольский приказ, что «мыслят... алтыулские мурзы и улусные их люди брести розно, где кому ближе и лутче. Половина... мурз и улусных их людеи хотят идти в Казачью Орду, в Трукустан, а другая половина вь Юргенчь». В любом случае Алтыулам следовало начинать переговоры с соседями, и «наперед которои посол придет [и скажет], что им поволно будет у них кочевать, — тут де им и быть» 54.
Однако все планы рухнули из-за вмешательства калмыков. Те подошли вплотную к алтыульским становищам, и мирзам не осталось выбора ориентации. Вместе с тайшами (калмыцкими предводителями) они стали и кочевать, и нападать на Больших Ногаев. В конце 1628 или начале 1629 года один из главных алтыульских мирз Кулай б. Касым бежал в Бухару, Шейх-Мухаммед откочевал на юг, «в Шаминские пески», Султанай же остался под властью тайшей 55.
Нападения калмыков на кочевья Алтыулов фиксируются с начала 1620-х годов. Именно из-за них Султанай тогда перебрался в Астрахань и «учинился в холопстве» 56. Шейх-Мухаммед тем временем старался не задирать тайшей и поддерживать с калмыками добрые отношения, обмениваясь посольствами. Одно из них и находилось у него в тот момент, когда в Алтыульскую Орду явился Я. Бухаров. Калмыцкие послы убеждали мирз объединить усилия в нападениях на Больших Ногаев. Вскоре прибыло еще одно посольство с приглашением мирзам кочевать совместно с калмыцкими улусами. Шейх-Мухаммед и Султанай отнекивались, ссылаясь на «зимнюю пору», и обещали перейти во владения тайшей летом. А меж себя решили, что «калмыки их оманут и побьют», и «покочевали от калмыков в сторону». Это произошло в начале 1628 года. В глубине степей начались совещания и размышления о дальнейшей судьбе Алтыулов. Произошел разрыв между Шейх-Мухаммедом и Султанаем, о котором говорилось выше. На обособившиеся стойбища Султаная неожиданно обрушился Ухандар-тайши. Этой части Алтыулов удалось засесть в наспех сооруженном «городке тележном». Нападавшие не стали сражаться, а начали переговоры. Султанай дал все возможные обещания, лишь бы калмыки ушли — и те удалились, заручившись очередными заверениями мирзы с наступлением лета перебраться в калмыцкие владения 57.
Долго противостоять огромной массе монгольских кочевников, вливавшихся в казахстанские степи, было невозможно. Осенью 1628 года Султанай сам выступил инициатором объединенного кал-мыцко-алтыульского набега на Больших Ногаев (две тысячи калмыков и лишь полтораста алтыульцев). Он решил смириться и подчиниться тайшам. Русский полонянник, побывавший в калмыцкой неволе, рассказал, что мирза заключил с новыми покровителями союз: «им быть в дружбе и кочевать вместе, и дали... алтаулские мурзы калмыком надобные места и саигачьи ловли» 58.
Шейх-Мухаммед же проживал в отдалении, избегая тесных контактов с очередными владыками Дешт-и Кыпчака. Но подавать малейший повод для конфликта с ними боялся. На приглашения к походам на бия Большой Ногайской Орды Каная он отвечал якобы вынужденным отказом (он-де обещал своим улусникам не нападать на ногаев), но заявлял, что тайши и Султанай могут взять на войну его подданных. Не вызывал восторга у него и план Султаная поселиться в Волго-Яицком междуречье после вытеснения Больших Ногаев на «Крымскую» сторону Волги 59.
Удары по владениям Каная становились все сильнее. В 1628– 1630 годах состоялось несколько калмыцко-алтыульских походов за Яик. Султанай действовал в них как проводник 60. В первой половине 1630-х годов, после ухода большей части ногаев на волжское пра- вобережье, некоторые алтыульские улусы перешли в степи между Яиком и Волгой. Пребывание под властью тайшей тяготило мирз, и они вступали в тайные переговоры с Астраханью о переходе под царское покровительство. Но тайши бдительно следили за своими тюркскими подданными и всегда держали часть собственных кочевий неподалеку от Алтыулов, чтобы те не переметнулись к русским61.
С мусульманскими владениями на юге Алтыулы традиционно поддерживали дружественные отношения. В 1614 году самарский воевода отписывал, что «Казачья... Орда и Кораколпаки и Алтаулы меж собя ныне в совете... а с юргенским с Арап-ханом (хивинским ханом Араб-Мухаммедом б. Хаджи-Мухаммедом. — В. Т. ) Казачья Орда, Кораколпаки и Алтаулы в миру же» 62. В казахских пределах проживали алтыульские мирзы и улусы, откочевавшие на восток в пору ногайской смуты конца XVI века. Некоторые навсегда обосновались там, обретя пристанище «в Туркустане с Казацкою Ордою вместе» 63. Многие алтыульцы в начале XVII века нашли приют в Мавераннахре, пристав «к бухарскому» и кочуя в Хорезме «под Юргенчем» 64.
Связи между родом Шейх-Мамая и ургенчскими (хивинскими) династами сложились прочные. Среднеазиатский хронист XIX века Мунис пишет, что мирза Шейх-Мухаммед был воспитан при дворе хана Араб-Мухаммеда. Во время распри последнего с собственными сыновьями Хабашем и Ильбарсом Шейх-Мухаммед не оставался в стороне. Он схватил разгромленного отцом Хабаша, который пытался найти убежище у Алтыулов, и выдал на верную смерть Исфендиа-ру б. Араб-Мухаммеду, сохранявшему верность хану. Удел Хабаша был разорен хивинскими войсками, часть населения ушла к нога-ям 65. В конце 1620-х годов, когда вожди Алтыулов после разгрома посольства Бухарова решали к кому перейти в подданство, Шейх-Мухаммед находил более приемлемым для себя хивинский вариант, а не калмыцкий, и потому вступил в переписку с новым ханом Ис-фендиаром. Тот настойчиво призывал мирзу перебраться в Хорезм «безо всякие боязни», обещая ему «ис пяти городов любои город», и удерживал подвластных ему туркмен от набегов на Алтыулов 66.
Как нам уже известно, калмыцкие правители оказались проворнее и первыми сумели обратить под свою власть восточно-ногайские улусы. Под предводительством тайшей Алтыулы против своей воли совершали нападения в том числе и на Хивинское ханство, но при любом удобном случае старались восстановить мирные отношения с Исфендиаром 67.
В конце 1630-х годов во время обострения раздоров в Маверан-нахре в их кочевья в очередной раз хлынули беженцы-узбеки 68. Но самостоятельной политической силы Алтыульская Орда уже не представляла. Вскоре ее пастбища стали постепенно заселяться казахами. Последним всплеском значимости этого подразделения бывшей Ногайской Орды можно считать упоминание анонимного «алтаульского большого мурзы» на первом месте в перечне раздачи жалованья после планировавшегося приведения к шерти новоназ-наченного бия и мирз в 1651 году 69. Тогда в Посольском приказе созрела идея возродить ногайское единство под русским присмотром, но она так и осталась неосуществленной.
Джембойлук
Часть населения Алтыульского улуса фигурирует в источниках под именем джембойлуков. Происхождение этого слова понятно и практически общепризнано в науке. Джембойлук / Йембойлык означает «живущие по реке Эмбе» 70. Такое же объяснение давали и ногайцы в начале XX века 71. Впрочем, иногда встречаются более экзотические трактовки: например, от имени города Джамбалек, на карте каталанского атласа 1375 года показанного на правом берегу Нижней Волги (а город-де назван так по имени соборной мечети Джам) 72.
Столь раннее существование особой общности на Эмбе еще в золотоордынскую эпоху сомнительно. Некоторые намеки появляются в XV веке, когда заезжие европейцы Иоанн де Галонифонтибус и Иоганн Шильтбергер в своих описаниях Дешт-и Кыпчака упомянули похожие понятия: «Северными соседями (Великой Татарии) являются Россия и йахабри»; «...между золотыми татарами есть три поколения: кайтаки, джемболуки и монголы. Их страна имеет протяжение в три месяца ходьбы, представляя собой равнину, в которой нет ни леса, ни камней, и есть только трава и камыш» 73. В старонемецком тексте И. Шильтбергера на месте предложенных переводчиком Ф. К. Бруном «джемболуков» стоит йабу 74. П. Пельо тоже увидел в йахабри Галонифонтибуса ихабу / йабу 75. Если это отождествление верно, то река Эмба здесь ни при чем, и оба средневековых автора писали о тюрко-кыпчакском (узбекском) племени йабу (древнетюрк. ябгу / йабагу , отмеченное еще Махмудом Кашгарским в XI веке). Однако неизвестно, расселялся ли этот эль именно на Эмбе 76.
В литературе можно встретить утверждения, что джембойлуки обособились раньше Малых Ногаев и Алтыулов или будто они ушли из Большой Ногайской Орды «за междоусобною ссорою» 77. В известных мне источниках ни тот, ни другой тезис не находят подтверждения. Весной 1560 года Исмаил сообщил Ивану IV: «А отца моего юрт был по трем рекам: по Волге да по Яику, да по Емь реке (Эмбе. — В. Т. ). И которые люди на реке на Еме, тех людеи астараханские люди (русские. — В. Т. ) воюют. А которые люди улусные в моем имени, и тех воюют — то как меня воюют» 78. Следовательно, эмбинских ногаев бий считал своими улусниками, заступаясь за них перед царем.
Принципиально, что в тех же местах располагались кочевья Шихмамаевичей-Алтыулов, которые уже начали обособляться. Исмаил никогда не заявлял о потомках Шейх-Мамая как о своих безраздельных подданных, поэтому эмбинцы (джембойлуки) в грамоте 1560 года пока не могут отождествляться с Алтыулами. Однако уже в первой половине XVII века для такого отождествления, пожалуй, можно найти основания 79.
Первое упоминание разбираемого названия относится к событиям конца 1620-х годов. Калмыцкий хронист начала XIX века Батур-Убуши-Тюмен рассказывает, что тайши торгоутов Хо-Урлюк, спасаясь от усобиц среди ойратов, двинулся на запад, «напав на цжумбулаков, тюркменов и татар (мангат), пропитал своих подвластных их скотом» 80. Анонимное «Сокращенное изложение истории калмыцких ханов» XVIII века (?) гласит, что Хо-Урлюк, «не доходя до реки Урала (Зай) ... покорил Ембулуковских (Цзимбулук) татар, кочевавших при реке Ембе», а за Яиком — народы «Ногай, Хатай-хибчак, Чжитесен (то есть едисан . — В. Т. )» 81.
С учетом всей разобранной выше ногайской истории мы можем выяснить, кто же были эти жертвы калмыцкого завоевания на Эмбе. Здесь могут помочь некоторые оговорки в материалах калмыцко-русских отношений середины XVII века. В ноябре 1649 года Дай-чин-тайши говорил посланнику И. И. Онучину: «А как мы под Астараханью ногаиских, едисанских и ембулуцких мурз и улусных их татар за саблею взяли, и мы... с теми ногаицы по сю пору и кочю-ем вместе» 82. В феврале 1655 года калмыцкие послы клялись по шертной записи, в которой, в частности, содержалось обязательство тайшей не чинить насилий в отношении «государевых изменников, нагайских и едисанских, и енбулуцких мурз и татар, которые в прошлых годех, изменя государю, из-под Астарахани отошли к тай-шам... в калмыцкие улусы» 83.
Получается, что джембойлуки «изменили» и ушли от Астрахани (или, в трактовке Дайчина, были завоеваны) до 1649 года. Заметная миграция из Нижнего Поволжья на Яик случилась, вероятно, только однажды, когда весной 1627 года, едва выйдя из астраханской тюрьмы, Султанай Шихмамаев устремился на восток, к своим сородичам Алтыулам, возглавляемым Шейх-Мухаммедом. Оба мирзы стали кочевать по Эмбе, где их и настигло нашествие Хо-Урлюка. Следовательно, «джембойлуки» в документах, связанных с калмыками, — это то же самое, что Алтыулы воеводских отписок первой половины XVII века. Через полтора десятка лет эмбинские ногаи были, по словам Дайчин-тайши, «нашими холопями», с которыми калмыки кочевали по их бывшим рекам и урочищам 84. Новые правители использовали джембойлуков как военную силу в своих походах и посылали в самостоятельные набеги 85. В течение нескольких последующих десятилетий джембойлуки вместе с частью едисанов кочевали в Западном Казахстане, пока тех и других не погромил хан Аюка и не прогнал на Куму и Кубань (по другим сведениям, их сманили на Кубань крымцы и турецкий наместник) 86.
Пребывание джембойлуков под калмыцким владычеством, отказ их от борьбы с тайшами, участие в набегах на ногаев настроило последних против эмбинцев. Озлобление это ярко выражено в поэме «Джембойлук» ногайского поэта XVII века Казы-Тугана Суюнч-улы: «Эти, называемые джембойлуками, Предают отцов до шестого поколения. Когда на страну нагрянуло бедствие, Когда мои героические ногайцы, Истекая кровью, Сражаются и гибнут, Мои джембой-лукские сородичи, Словно холощеные верблюды, Отвернувшись от всех, отлеживаются» 87. Историческая песня «Казтувган» приписывает им пренебрежение устоями мусульманской веры 88. Хотя в дальнейшем это враждебное отношение угасло, джембойлуки выделились в общеногайском сознании как особая группа ( ембойлуклар ), отличная от остальных ногайцев 89.
* **
Таким образом, Алтыульское объединение закончило свое самостоятельное существование приблизительно одновременно с Большой Ногайской Ордой и Казыевым улусом — в конце первой трети XVII века. Ногаи-Алтыулы, ослабленные и раздробленные, не смогли сохранить самостоятельность и попали в зависимость от калмыков.
После ухода последних в Нижнее Поволжье к середине XVII века одна часть Алтыулы вошла в казахский Младший жуз, смешавшись с казахами, другая переселилась в причерноморские и северокавказские степи вслед за Большими и Малыми Ногаями.
В результате нескольких волн переселений XVI–XVII веков ногайский элемент прочно закрепился в составе казахского этноса. Присутствие этого элемента было особенно заметно на западе Казахстана, где до начала XX века сохранялись группы ногай и мангы-тай . Несомненным стимулом для ассимиляции послужило и то, что Младший жуз целиком расположился на бывшей территории Ногайской Орды. Полное «растворение» потомков ее жителей среди казахов произошло, видимо, в конце XVII — начале XVIII века, когда, спасаясь от джунгарского нашествия, казахи-кочевники хлынули с востока в приуральские степи.
Список литературы Алтыулы: остатки ногайской орды в казахских степях
- Султанов Т. И. Кочевые племена Приаралья в XV-XVII вв. (Вопросы этнической и социальной истории). М., 1982
- Султанов Т. И. Правители первого казахского государства. Акмола, 1993.
- Исин А. Материалы Посольского приказа Русского государства о Казахском ханстве XVI -начала XVII в.//Вопросы историографии и источнико ведения Казахстана (дореволюционный период). Алма-Ата, 1988.
- Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос: Избранные труды. Л., 1974. С. 488;
- Кочекаев Б.-А. Б. Ногайско-русские отношения в XV-XVIII вв. Алма-Ата, 1988. С. 102;
- Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татара ми в первой половине XVII века. М.-Л., 1948. С. 176
- Сафаргалиев М. Г. Ногайская Орда в середине XVI в. Канд. дисс. М., 1938. С. 163;
- Сафаргалиев М. Г. Ногайская Орда во второй половине XVI века//Сб. науч. работ Мордовского гос. пед. института. Саранск, 1949. С. 54;
- Юдин В. П. Орды: Белая, Синяя, Серая, Золотая..//Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. Алма-Ата, 1992. С. 40
- Kappeler A. Moskau und die Steppe: das Verhaltnis zu den Nogai-Tataren im 16. Jahrhundert//Forschungen zur osteuropaischen Geschichte. 1992. B. 46. S. 90.
- Иванов П. П. Очерк истории каракалпаков//Материалы по истории каракалпаков. М.-Л., 1935. С. 29;
- Сафаргалиев М. Г. Ногайская Орда в середине XVI в. С. 53
- Атласи Ћ. Себер тарихы. Соенбикэ. Казан ханлыгы (тарихы эсэрлэр). Казан, 1992. С. 67;
- Давкараев Н. Очерки по истории дореволюционной ка ракалпакской литературы. Ташкент, 1959. С. 194
- Сагитов И. Т. Каракалпакский героический эпос. Ташкент, 1962. С. 31
- Беляев И. А. Сказание об Едигее и Тохтамыше: Каракалпакская народная поэма//Протоколы заседаний и сообщения членов Закаспийского кружка любителей археологии и истории Востока. Вып. 3. Асхабад, 1917. С. 1
- История Каракалпакской АССР. Т. 1. Ташкент, 1974. С. 94
- Агаджанов С. Г. Ногайцы и туркмены: исторические и этнокуль турные связи//Историко-географические аспекты развития Ногайской Орды. Махачкала, 1993. С. 37
- Бояршинова 3. Я. Население Западной Сибири до начала русской колонизации (виды хозяйственной деятельности и общественный строй местного населения). Томск, 1960. С. 118.
- Трепавлов В. В. Приход калмыков на Волгу//История и культура монгольских народов: источники и традиции. Элиста, 1999. С. 116
- Гвоздецкий Н. А., Михайлов Н. И. Физическая география СССР. Азиатская часть. М., 1978. С. 81
- Бартольд В. В. Сочинения. Т. 3. М., 1965. С. 65.
- Богоявленский С. К. Материалы по исто рии калмыков в первой половине XVII в.//Исторические записки. Т. 5. 1936. С. 67
- Aboul-Ghazi Behadour Khan. Histoire des mogols et des tatares. T. 1. St.-Petersbourg, 1871. P. 290.
- Баскаков Н. А. Ногайский язык и его диалекты. Грамматика, тексты и словарь. М.-Л., 1940. С. 136
- Калмыков И. X., КерейтовР. X., СикалиевА. И.-М. Ногайцы: историко-этнографический очерк. Черкесск, 1983. С. 26
- Пашин П. Из поездки к ногайцам с антропологическою целью//Русский антропологический журнал, 1912. № 1. С. 39.
- Брун Ф. К. Перипл Каспийского моря по картам XIV столетия. Одесса, 1872. С. 11, 16
- Ланнуа Ж. Пу тешествие Гильбера де Ланнуа по Южной России в 1421 году. Одесса, 1852. С. 8
- Скальковский А. О ногайских татарах, живущих в Таврической губернии//Журнал Министерства народного просвещения, 1843. Ч. 40. С.110
- Галонифонтибус И. Сведения о народах Кавказа (1404 г.) (из сочинения «Книга познания мира»). Баку, 1980. С. 13;
- Шилыпбергер И. Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 года по 1427 год. Баку, 1984. С. 45-46.
- Бутков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Ч. 1. СПб., 1869. С. 170
- Bennigsen A., Lemercier-Quelquejay Ch. La Grande Horde Nogay et le probleme des communications entre I'Empire Ottoman et 1'Asie Centrale en 1552-1556//Turcica. Revue d'etudes turques. 1976. T. 8. № 2. P. 206, 209
- Георги И. И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Ч. 4. СПб., 1799. С. 38
- Тунманн [И.] Крымское ханство. Симферополь, 1991. С. 46.
- Сикалиев А.И.-М. Ногайский героический эпос. Черкесск, 1994. С. 49-50.
- Керейтов Р. X. Ногайский этнос и его соседи в условиях широкого пространственного расселения (северо-кавказские и нижнеповолжские группы)//Проблемы взаимодействия национальных культур. Ч. 1. Астрахань, 1995. С. 35.