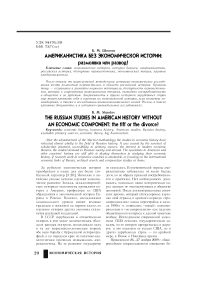Американистика без экономической истории: размолвка или развод?
Автор: Шпотов Борис Михайлович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Актуальный дискурс
Статья в выпуске: 4 (11), 2010 года.
Бесплатный доступ
После отказа от марксистской методологии историко-экономические исследования почти полностью переместились в область российской истории. Причины тому - сохранение и развитие научного потенциала, доступность первоисточников, интерес к современным экономическим теориям, очевидная востребованность в обществе и за рубежом. Американисты и другие историки зарубежных стран еще могут проявить себя в изучении их экономической истории, если возможна командировка, а также в исследовании внешнеэкономических связей России, в поиске архивных документов, и в историко-сравнительных исследованиях.
Экономическая история, история бизнеса, американистика, российская история, доступные первоисточники, экономическая теория, крупные предприниматели, еconomic history
Короткий адрес: https://sciup.org/14723553
IDR: 14723553 | УДК: 94(470):338
Текст научной статьи Американистика без экономической истории: размолвка или развод?
За рубежом экономическая история приобретает в наши дни все более глобальный характер [3; 20;]. Японские и китайские ученые активно изучают экономическое развитие Запада, западноевропейские историки-экономисты проявляют интерес к Америке, профессора из США обращаются к экономической истории Европы и России. Конечно, исследования национального уровня имеют вековые традиции и остаются на первом плане, но изучение истории других экономик становится растущей тенденцией.
В СССР зарубежная и отечественная история, в том числе экономическая, обладали равным статусом, использовали одну и ту же марксистско-ленинскую теорию, обе вели борьбу с буржуазной историографией, а на переднем крае по политико-идеологическим причинам возвышалась американистика. На ее развитие государство не скупилось. В постсоветский период американистика избавилась от части былых догм, но не обрела прежней востребованности и престижа. Нет необходимости доказывать, насколько наша историческая наука зависит от господствующих в обществе ценностей. После антиамериканизма советских времен, который стимулировал изучение этой страны, и краткого периода «проамериканизма» конца перестройки и начала 1990-х гг. появились «новый» антиамериканизм и «не-американизм» как падение общественного интереса к данной тематике вообще. Исследование современной экономики США осталось государственным заказом, но ее история превратилась в раритет, и это касается не только США, но и других зарубежных стран — по крайней мере, в Новое и Новейшее время.
Проведенное 26—27 ноября 2009 г. общероссийское координационное совещание бо- лее 70 историков-американистов с отчетами о том, чем занимаются их научные центры, факультеты или кафедры, со всей очевидностью показало недостаточность, а в ряде случаев — и отсутствие экономического компонента в контексте изучаемых и преподаваемых предметов. В общем потоке выступлений об экономике если и говорилось, то мимоходом, хотя «очередные задачи» руководство поставило [2]. Однако экономическая история почти полностью переместилась в сферу российских исследований. Такое размежевание нуждается в объяснении.
Я имею в виду не то эпизодическое обращение к историко-экономическим сюжетам, которое делается попутно или предваряет другую тему, и не комплексные программы, где экономическая тематика перемешана с политической, социальной, культурологической и т. д., а специализацию и систематическую работу в этом направлении. Как научная отрасль с выраженной и, надо признать, модернизированной социально-политической и культурной доминантой, американистика не усвоила азов современных историко-экономических знаний, хотя качество, например, учебников безусловно страдает от этого [5; 17]. Между тем экономическая история и одно из ее главных направлений — история бизнеса — относятся к «мэйнстриму» мировой науки. Международные конгрессы по экономической истории (WEHC) теперь, как известно, проводятся не раз в четыре, а раз в три года, международные конференции по истории бизнеса — каждый год. Из них наиболее представительные проходят под эгидой Европейской ассоциации истории бизнеса (EBHA) [15].
Но кто из России участвует в этих форумах? Из всеобщих историков — 1—2 человека, и то не в каждом, а на конгрессы приезжают человек 15 и больше, в основном специалисты по истории экономики и бизнеса Российской империи пореформенного и предреволюционного периода. На ней сфокусировалось внимание десятков исследователей из ряда научных и образовательных центров, прежде всего Центра экономической истории Исторического факультета МГУ (ЦЭИ) и Института российской истории РАН. В общероссийских конференциях участвуют ученые и преподаватели из Москвы, Петербурга, Волгограда,
Калуги, Саранска, Барнаула, Екатеринбурга и др. Профильные центры экономической истории — фактически российской, множатся год от года, и, насколько мне известно, без взаимодействия с историками зарубежных стран. Научный совет РАН по проблемам российской и мировой экономической истории под руководством академика В. А. Виноградова разработал комплексную программу и перспективные направления исследований, в центре которых — Россия [5; 12]. Для США или других стран там отдельного места нет, но это понятно. В данной номинации американистика себя не проявила, что можно объяснить, проведя некоторые сопоставления.
Приоритет и перевес истории Отечества — нормально ли это? На мой взгляд — да, а лучше сказать, естественно. При возрастании объема транснациональных исследований в каждой стране изучается главным образом ее история: в Германии — германская, в Англии — британская, в Соединенных Штатах — американская и т. д., хотя и там есть центры русистики, востоковедения и т. п. В теперешней России утвердился (и с этим не поспоришь!) повышенный интерес к дореволюционному деловому опыту и ценностям. Достаточно взглянуть на полки книжных магазинов или посмотреть телепередачи. Но главное не в этом.
Причины застоя в изучении экономической истории США — в отсутствии тех условий, которые благоприятствовали прогрессу экономической истории России. Во-первых, в ней уже более 40 лет существует сильная научная школа, основанная академиками И. Д. Ковальченко и Л. В. Миловым и продолженная, причем без перерыва, профессорами В. И. Бовы-киным, Л. И. Бородкиным и их учениками. Еще в конце 1970-х гг. удалось завязать плодотворные связи с американскими исследователями — на уровне совместных симпозиумов и издания коллективных трудов с применением количественных методов [1; 10]. Аналогичной школы не было и не появилось во всеобщей истории.
Ведущие советские американисты завоевали уважение в Соединенных Штатах. Нельзя не вспомнить о профессоре МГУ Н. В. Сивачеве, занимавшемся политической и рабочей историей США Новейшего времени и избранном иностранным членом Американской исторической ассоциации. Другие мэтры американистики: А. В. Ефимов, Н. Н. Болховитинов, А. А. Фурсенко, Г. П. Куропятник, И. А. Белявская уделяли внимание экономическим сюжетам, но не положили начало специализации в этой области. Видимо, такая задача не ставилась. Научные заслуги академика С. Д. Сказки-на, докторов исторических наук Н. А. Ерофеева, М. А. Барга, Е. Б. Черняка, А. Н. Чистозвонова в изучении экономической истории Европы забылись в годы отречения от марксистских установок.
Традиционная экономическая история, содержавшая больше всего «железных» постулатов марксизма, перенесла своего рода «шок без терапии». Можно было отказаться от прежних подходов, но чем их заменить? Известный исследователь средневековой культуры, специалист по методологии истории А. Я. Гуревич назвал этот период временем «методологической растерянности». Старые специалисты не могли или не хотели овладевать новыми теориями, а молодое поколение занялось далекими от экономики сюжетами. Быть может, наступила усталость от «закономерностей».
Сыграл роль и «человеческий фактор» в руководстве. Академик Н. Н. Болховитинов, возглавлявший сектор истории США и Канады (впоследствии — Центр североамериканских исследований ИВИ РАН) с 1989 по 2008 г., стал автором непревзойденного труда по социально-экономической истории Соединенных Штатов доиндустриального периода, который остался единственным в своем роде (Болховитинов Н. Н. США: проблемы истории и современная историография. М., 1980). Ученый полностью переключился на изучение начального этапа русско-американских отношений и Русской Америки. Его примеру последовал доктор исторических наук Г. П. Куропятник, ранее занимавшийся аграрной историей США второй половины XIX в. Талантливый и перспективный исследователь американской экономической истории профессор Саратовского университета А. А. Кредер в 2000 г. безвременно скончался на 53-м году жизни. Выпускник исторического факультета МГУ, теперь доктор исторических и юридических наук профессор А. Ю. Са- ломатин (Пенза), занимавшийся возникновением крупных корпораций США и руководивший школой бизнеса в своем городе, переквалифицировался в историка американской печати. Правда, в сферу разработок его кафедры входят, помимо прочих, деловые, коммерческие и социально-критические публикации в США периода становления индустриального капитализма, их контент-анализ. В области истории экономики и бизнеса США я остался, насколько мне известно, в одиночестве, а один человек погоды не делает.
Школа экономической истории России выжила и получила импульс к развитию, хотя ценой преодоления серьезных трудностей [7, с. 12—14]. Это принесло свои плоды. Историки российской экономики и предпринимательства стали интегрироваться в мировую науку, участвуя в стажировках и других научных мероприятиях за рубежом и в коллективных трудах, выходивших в США и Западной Европе в конце XX — начале XXI в. Некоторые издали там индивидуальные монографии [18; 19; 21]. Как и следовало ожидать, российская история интересует иностранных исследователей и издателей гораздо больше, чем их собственная в русской интерпретации.
При всех реальных трудностях, выпавших на долю историков в современной России — проблемах с финансированием, с обновлением кадров, с условиями работы в архивах, — второе важное естественное преимущество исследователей российской экономики — это неограниченный доступ к источникам как к основному познавательному ресурсу. Известными экономическими историками стали не только некоторые выпускники кафедр по различным периодам отечественной истории, но и кафедры источниковедения истфака МГУ. В советские времена специализация на источниках выглядела куда скромнее, чем по истории США, а теперь времена изменились. Оригинальный вклад ученого высоко ценится на «рынке знаний»: хоть небольшое открытие, да свое! Теперешний историк-американист, съездивший один-два раза в США на несколько месяцев исследовательской работы за счет американского гранта, считает, что ему крупно повезло. Программа Фулбрайта более двух ко- мандировок не оплачивает, а эффективная работа в архивах не мыслится иначе как на постоянной основе и в любой момент, когда потребуется.
Третье условие развития экономической истории — применение экономической теории, понятий и категорий к историческому материалу. Разумеется, это зависит от полученного образования — исторического или экономического, хотя запас знаний можно и пополнить. Вотчина экономистов — это, как правило, анализ экономической динамики или проблем эффективности в разные исторические периоды, сфера интересов историков — экономическая политика, институциональная история, история бизнеса. В зависимости от избранной темы необходимо постижение основ истории коммерческого права, технологий, банковского дела и др. Историческое образование, в отличие от экономического с его высоким уровнем абстракции, дает возможность мобилизовать конкретные познания в области политики, культуры, религии и «человеческого фактора», помогает встроить исследование в контекст эпохи. Выявление материальных и нематериальных переменных, влияющих на экономический результат и издержки по его достижению, является миссией историка. В широком смысле, экономическая история — это «почти вся» история.
Развитие экономической истории или следование иными путями зависит в итоге от вкусов и желаний сотрудников и руководителей институтов или университетов. Готовить кадры по экономической истории, не имея «заделов» в прошлом — трудно, и успех не гарантирован. Пробные попытки создать в ИВИ РАН в начале 1990-х гг. группы по изучению экономической истории вначале под руководством доктора экономических наук Ю. М. Розалиева, затем доктора исторических наук М. В. Бибикова, не удались. Желающих почти не нашлось, а в организационном отношении возникло «двойное подчинение» — руководителю группы и руководству своих секторов или отделов, уходить из которых никто не хотел. Сказался, конечно, и фактор конкуренции — завоевавший популярность и авторитет ЦЭИ МГУ с собственными периодическими изданиями, участием в его семинарах крупных ученых, c международными проектами стал настоящим «центром притяжения» для экономических историков.
Образовавшиеся на периферии университетские центры экономической истории — разумеется, российской, используют слабо освоенные областные архивы, да и столичные и зарубежные архивы и библиотеки им вполне доступны.
Что же все-таки отпугивает всеобщих историков от изучения экономической истории? Разумеется, речь идет не о сложившихся исследователях, проявивших себя в других областях, а о научной молодежи, выбирающей сферу будущих занятий. Проблема доступности архивных и других оригинальных источников? Источники — это действительно серьезная проблема, но настойчивые поиски материалов о деятельности, например, иностранных фирм в России могут увенчаться ценными находками. Историки российской экономики уже доказали это [8; 14].
Требуется знание основ экономической теории, важнейших экономических процессов, понятий и категорий? Например, механизма ценообразования, эффекта от масштаба или многотоварности, эволюции рыночных связей. Экономический ликбез не вредит никому, причем для этого не обязательно быть дипломированным экономистом. Сохранение преемственности в научных коллективах? Это серьезное обстоятельство. Ученые, занимающиеся, например, социально-политическими исследованиями, прививают ученикам и последователям свои знания, вкусы и представления, предлагают ту же тематику. Преемственность — это норма, и никакие административные перетряски, уговоры и призывы — занимайтесь тем-то и тем-то — не помогут.
В конце концов все дело в сознательном выборе. Лично я набирался опыта на семинарах Ковальченко, Бовыкина и Бородкина, ибо в родной американистике не мог почерпнуть ни теоретических познаний, ни прочесть достаточно профессиональных историко-экономических трудов. Но продолжить статью я хотел бы на более конструктивной ноте.
Имеются сюжеты, в которых экономические историки чувствуют себя достаточно уверенно. Это, например, история предприятий, государственных или частных, государственной экономической политики, экономические результаты миграций, патернализма и трудовой этики в различные эпохи, экономические аспекты колонизации и деколонизации, международные хозяйственные связи, институциональные изменения [13]. Приведу несколько примеров.
Почему «великие стройки социализма» 1930-х гг. обходились гораздо дороже и требовали больше времени и работников, чем сооружение аналогичных объектов на Западе? Откуда высокие издержки? Исследователь-историк обнаружит из различных источников, что трудовая дисциплина была низкой, текучесть рабочей силы — высокой, вследствие чего приходилось нанимать дополнительных рабочих. Импортную технику использовали неумело, она часто ломалась и простаивала, а дефицит вынуждал производить необходимые материалы прямо на стройке, что требовало дополнительных затрат. Историк вспомнит и о советском обычае сдавать объекты к праздничным датам досрочно, а значит, с недоделками, которые приходилось устранять позже, что и стоило дороже, и задерживало пуск предприятия на проектную мощность. Имели место прямые потери и порча материалов и техники от небрежного хранения вследствие экономии на складских помещениях, потери рабочего времени вследствие плохо налаженного снабжения. Об этих недостатках открыто писали тогда все советские газеты. «История повседневности» как разновидность современной социальной истории помогает установить причины недовыполнения заданий первых пятилеток и невероятной, по западным меркам, затрат на эти стройки.
Сложную и неоднозначную роль в развитии экономики играл патернализм, т. е. желание предпринимателя самому регулировать отношения на производстве, без рабочих союзов и инициатив «снизу». Если патернализм в Европе и России принимал форму благотворительности, «подарков» рабочим в виде школ, больниц, дешевых столовых, а предприниматель точно не знал, насколько окупятся эти затраты, то Генри Форд в США в 1914—1917 гг. практиковал «расчетливую» форму патернализма. Он ввел надбавку к зарплате, которая вдвое повысила средние заработки рабочих— до 5 долл. в день, но социальная служба компании установила слежку за тем, как они эти деньги использовали. Форд расценивал результаты надбавок по известному принципу измерения отдачи на вложенный капитал (return on investment): если рабочий приучался рационально тратить заработок, копил сбережения в банке, приобретал недвижимость, вел здоровый образ жизни, а следовательно, лучше работал, то вложения в рабочих («раздел прибылей») себя оправдывали. Если нет — рабочего лишали надбавки и могли уволить. Так в масштабе своей компании предприниматель продемонстрировал способ решения «рабочего вопроса».
Историку вполне под силу исследовать имевшие место в прошлом примеры государственно-частного партнерства (publicprivate partnership) — участившихся в современной экономике методов взаимодействия государства и бизнеса [16, с. 830— 854]. Обращаясь к частным инвесторам, государство изыскивает недостающие средства, а бизнес получает новые возможности приложения капитала. Образование совместных предприятий или взаимодействие на контрактной основе — промежуточный вариант построения экономических отношений, позволяющий избежать крайностей огосударствления и приватизации, основанных на смене собственника с вытекающими отсюда повышенными рисками. К контрактным формам относятся концессии, сдача государственного имущества в лизинг (аренду), различные подряды и так называемая техническая помощь — госзаказы на проектирование крупных промышленных, энергетических и т. п. объектов с передачей заказчику лицензий и патентов и обучением работников. Фирма-исполнитель получала компенсацию понесенных расходов плюс оговоренное в контракте вознаграждение, составлявшее ее прибыль.
Может показаться, сухая это тема. Но есть и эмоционально окрашенные сюжеты, связанные с «человеческим фактором» в экономике. От участия человека зависят результаты труда, отдача от капиталовложений и др. Известный русский экономист конца XIX в. И. И. Янжул вполне обоснованно относил трудовую этику к числу основных факторов производства наряду с землей, капиталом, рабочей силой. Охотно изучаемый всеобщими историками социально-культурный компонент, присутствующий в любой организации или коллективе, всегда влияет на исход деятельности — от вдохновенного творчества до техногенных катастроф. Надо лишь постараться связать все это с экономикой, а экономисты редко занимаются такими сюжетами.
Таким образом, существует не только разделение труда между экономистами и историками, есть «ниши», где больше возможностей у историков. Экономическая история — не узко-страноведческая, а широкая, взаимообогащающая область знания, по сути, — междисциплинарная. Если воспользоваться имеющимся опытом, поискать незаполненные ниши, то и американисты получат шансы на успех, изучая, например, экономические связи США с Россией и СССР, важные с точки зрения общественного интереса к этой теме и обеспеченности источниками.
Американисты и другие «зарубежники» вполне могут при желании заняться экономической или бизнес-историей, внести свой вклад в сравнительные исследования. Изучение российской истории нередко замыкается в себе, что оборачивалось либо недооценкой ее созидательных сил, либо, чаще, идеализацией, особенно пореформенного времени, при наложении его на теперешнюю действительность. Этим, конечно, серьезные историки не грешат, но достижения отдельных российских предпринимателей XVIII—XIX вв. иногда подаются в настолько «превосходной степени», что порождает вопросы: разве в Англии или Германии или Америке промышленники и промышленность были хуже? В чем? Это одна из причин научной актуальности историко-сопоставительных исследований российского и современного ему зарубежного предпринимательства с позиций эффективности и организации бизнеса, а также сопоставления экономик [4; 9].
Есть смысл подумать совместно со специалистами по России и о причинах поразительного расхождения между образами крупных российских и американских предпринимателей в эпоху перехода к индустриальному капитализму. Это вопрос не только к истории, но и к историкам. Для многих теперешних авторов работ по экономической истории России отечественные купцы и промышленники — это цвет нации: у них образцовое управление предприятиями, гуманное обхождение с рабочими, щедрое меценатство, гражданская позиция — словом, все, что отличает лучшую часть общества. Для современных американистов верхушка предпринимательского класса США в период появления крупных интегрированных компаний — наоборот, отъявленные злодеи, а опирается такая посылка на результаты журналистских расследований в США в последней трети XIX — начала XX столетия. (Здесь не все ясно. Например, Рокфеллеру инкриминировались поджоги нефтепроводов конкурирующих компаний, однако еще в советской литературе по истории нефтяного бизнеса в США указывалось, с соответствующими ссылками, что поджигателями были владельцы некоторых железных дорог и гужевого транспорта. Первые лишились заработка от перевозки нефти поездами, а вторые — к станциям и пристаням в герметичных деревянных бочках на фермерских подводах.) [11].
Излишне говорить, что эту точку зрения целиком и полностью восприняли советские американисты, увидев в ней подтверждение ленинского постулата, что империализм есть «реакция по всей линии». Советская оценка российской буржуазии была такой же. Русская духовная традиция осуждала богатство, но и средний класс США с немалым подозрением относился к богатым и влиятельным лицам и организациям, которые могли подорвать «равенство возможностей», «честную конкуренцию», разрушить традиционные устои и ценности. Однако в России произошла пролетарская революция, а в США общество примирилось с теми, кого называли «баронами-грабителями» (robber barons), и этим промышленным, банковским и железнодорожным воротилам удалось безболезненно в него интегрироваться. Отражает ли разница в образах предпринимателей что-то реальное и существенное в истории обеих стран?
Получение грантов на командировки в США непредсказуемо, но в российских архивах имеется немало документов иностранного происхождения, а далеко не каждый зарубежный исследователь станет их искать— настолько велика разница в условиях работы у нас и за рубежом. Помимо неопубликованных материалов, есть редкие издания, материалы прессы. Вышла в свет документальная серия в пяти томах под общим названием «Отечественный опыт концессий», трехтомное издание документов по советско-американским экономическим отношениям 1900—1941 гг. и др. Постоянно лавировать и обходить историко-экономические «рифы» будет со временем все труднее, всеобщая история рискует полностью утратить экономический компонент — точнее, людей, способных над ним работать. Непре одолимых препятствий к участию американистов в разработке экономической истории, на мой взгляд, нет. Но без определенного настроя, целеустремленности и подготовки, без всестороннего изучения накопленного зарубежного и отечественного опыта достичь успеха, конечно же, не удастся.
Список литературы Американистика без экономической истории: размолвка или развод?
- Аграрная эволюция России и США в XIX -начале XX века/под ред. И. Д. Ковальченко и В. А. Тишкова. -М.: Наука, 1991. -359 с.
- Американский ежегодник. 2008-2009. -М.: ИВИ РАН, 2010. -319 с.
- Бородкин, Л. И. Экономическая история сегодня: к итогам XV Мирового конгресса/Л. И. Бородкин, Ю. А. Петров//Эконом. история. Ежегодник. -2010. -С. 5-12.
- Бокарев, Ю. П. СССР и становление постиндустриального общества на Западе, 1970-1980-е годы./Ю. П. Бокарев. -М.: Наука, 2007. -381 с.
- Вестник Института Кеннана в России. -2009. -Вып. 16. -С. 79-80.
- Виноградов, В. А. Экономическая история и современность: к 20-летию Научного совета РАН по проблемам российской и мировой экономической истории/В. А. Виноградов, Н. М. Арсентьев, Л. И. Бородкин. -Саранск: Издат. центр ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева, 2009. -156 с.
- Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: очерки/рук. Бовыкин В. И. -М.: РОССПЭН, 1997. -328 с.
- Калмыков, С. В. Американское предпринимательство в России/С. В. Калмыков//Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: очерки. -М., 1997. -С. 243-288.
- Керов, В. В. Этические концепции эффективного менеджмента в США и России в конце XIX -начале ХХ века. Опыт сравнительного анализа/В. В. Керов, Б. М. Шпотов//Амер. ежегодник. 1999. -М., 2001. -С. 167-193.
- Количественные методы в советской и американской историографии/под ред. И. Д. Ковальченко и В. А. Тишкова. -М.: Наука, 1983. -427 с.
- Лисичкин, С. М. Нефтяная промышленность США/С. М. Лисичкин. -М.: Недра, 1969. -320 с.
- Новая и новейшая история. -2008. -№ 6. -С. 3-23.
- Поткина, И. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России, XIX -первая четверть XX в./И. В. Поткина. -М.: Норма, 2009. -302 с.
- Поткина, И. В. Транснациональная корпорация «Компания Зингер» в России/И. В. Поткина//Материалы Междунар. науч. конф. -СПб., 2007. -Вып. 3. С. 152-170.
- Поткина, И. В. XIV ежегодная конференция Европейской ассоциации истории бизнеса. Шотландия, Глазго, 26-28 августа 2010 г./И. В. Поткина, Б. М. Шпотов//Экон. история. -№ 8. -2010/1. -С. 86-95.
- Приватизация: глобальные тенденции и национальные особенности/отв. ред. акад. В. А. Виноградов. -М.: Наука, 2006. -854 с.
- Шпотов, Б. М. Экономика и бизнес США в советских и постсоветских учебниках истории/Б. М. Шпотов//Россия и США на страницах учебников: опыт взаимных репрезентаций/под ред. В. И. Журавлевой и И. И. Куриллы. -Волгоград, 2009. -С. 207-229.
- American Firms in Europe, 1880-1980. Strategy, Identity, Perception and Performance/еd. by H. Bonin and F. de Goey. -Genеve: Droz, 2009. -Р. 283-298; 435-455.
- Merchant Moscow: Images of Russia's Vanished Bourgeoisie/еd. by J. L. West and Yu. A. Petrov. Princeton Univ. Press, 1998. -189 p.
- Programme of the XVth World Economic History Congress. Utrecht, the Netherlands, August 3-7, 2009. -Website: www.wehc2009.org
- Ulianova, G. N. Female Entrepreneurs in Nineteenth-Century Russia/G. N. Ulianova. -London: Pickering & Chatto, 2009. -272 p.