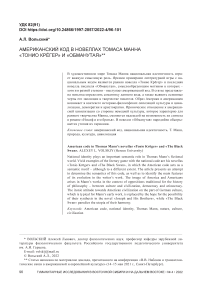Американский код в новеллах Томаса Манна "Тонио Крёгер" и "Обманутая"
Автор: Вольский Алексей Львович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 4 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
В художественном мире Томаса Манна национальная идентичность играет важную смысловую роль. Яркими примерами литературной игры с национальным кодом являются ранняя новелла «Тонио Крёгер» и последняя новелла писателя «Обманутая», смыслообразующим мотивом в которых - хотя и в разной степени - выступает американский код. В статье представлена попытка определить семантику данного кода, а также выявить основные черты его эволюции в творчестве писателя. Образ Америки и американцев возникает в контексте историко-философских оппозиций культуры и цивилизации, демократии и аристократии. Ироническое отношение к американской цивилизации со стороны немецкой культуры, которое характерно для раннего творчества Манна, сменяется надеждой на возможность их синтеза в романе «Иосиф и его братья». В новелле «Обманутая» пародийно обыгрывается утопия их гармонии.
Американский код, национальная идентичность, т. манн, природа, культура, цивилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/170196150
IDR: 170196150 | УДК: 82(91) | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-4/96-101
Текст научной статьи Американский код в новеллах Томаса Манна "Тонио Крёгер" и "Обманутая"
При всей внутренней несхожести художественных миров В. Набокова и Т. Манна между ними немало внешних биографических аналогий. Вот некоторые из них. Оба писателя происходили из богатых патрицианских семей. Оба, будучи лишены всего, в том числе и гражданства, отправились в вынужденную эмиграцию. Оба покинули Европу и прожили в США существенную часть жизни: Т. Манн – с 1938 по 1952 гг., В. Набоков – с 1940 по 1961 гг. Оба преподавали в американских университетах и почти одновременно получили американское гражданство (Манн – в 1944 г., Набоков – в 1945 г.). Оба были женаты на еврейках, преданно служивших их таланту. И, наконец, оба закончили свои дни в Швейцарии: Томас Манн – в немецкоязычном Кильхберге, Набоков – в франкоязычном Монтрё.
Антипатия Набокова к Томасу Манну – известный факт. Одной из ее причин является преувеличенный, с точки зрения Набокова, интеллектуализм манновской прозы, трансформация литературы в философию или квазифилософию, превращение художественного образа из цели в средство выражения идей. Напомню, что и Гёте такое не нравилось: философских поэтов он называл «форсированными талантами».
Напротив, создатель интеллектуального романа, Т. Манн считал идейность произведения особенностью реализма XX в., когда потребность в философской интерпретации жизни становится сильнее потребности в ее изображении. Более того, он считал интеллектуализм тенденцией развития всей немецкой литературы, восходящей через Ницше к романтикам и, прежде всего, к Шиллеру с его теорией наивной, чувственной и сентиментальной, идейной поэзии. Применяя терминологию Шиллера, Набокова можно назвать наивным поэтом современности, Т. Манна – сентиментальным.
У Манна трудно провести границу между его чисто философской эссеистикой и художественной прозой, которые образуют общее дискурсивное пространство, а структуры сюжетов и образы персонажей нередко воспроизводят мыслительные ходы абстрактной философии, хотя и не сводятся к таковым. «Можно думать в духе философа, не следуя его духу, то есть пользоваться его мыслями, но при этом думать так, как он, безусловно, не хотел думать... Так обходятся художники со всякой философией, – они “понимают” ее на свой лад, на эмоциональный лад» [1, с. 44].
Одним их аспектов интеллектуальной кодировки у Т. Манна является национальная идентичность, которая всегда или почти всегда идейно нагружена.
Американский кодв новелле «Тонио Крёгер»
Ярким примером литературной игры с национальным кодом является новелла Т. Манна «Тонио Крёгер» (1903), в которой описан путь духовных исканий немецкого писателя. И хотя автору важна именно «немецкость» его героя, в качестве оттеняющего ее фона он задействует богатую национальную и интернациональную символику: наряду с антитезой бюргерского Любека и богемного Мюнхена здесь так или иначе присутствуют и Италия, и Франция, и Россия, и Дания – Север и Юг, Восток и Запад, которые выступают не столько как локусы географии, сколько как логосы культуры, образуя подчас прихотливые смысловые сочетания. И это касается не только центральных персонажей, но и эпизодических. Например, чудовищный учитель танцев Франсуа Кнаак не просто всем своим гротескным видом и поведением, но одним только именем, в котором комично для немецкого уха сочетается французское с нижненемецким, воплощает собой претензию глухой провинциальности на версальское изящество и, более того, всю ту топорную галломанию немцев, над которой потешался еще Лессинг.
Как мы знаем, центральной для этой новеллы является антитеза немецкого и русского искусства, представленная образами немецкого писателя и русской художницы, за которыми легко угадывается шиллеровская антиномия наивного и сентиментального искусства.
Какое искусство выше – «святое», т.е. буквально «целостное», иными словами, наивное русское искусство Лизаветы (а мы бы сказали – и Набокова) или проблематичное, раздвоенное между реальностью и идеалом немецкое искусство Крёгера? Однозначного ответа автор не дает, хотя его эстетические надежды воплощает, безусловно, Тонио Крёгер. Финальное письмо Тонио Лизавете, подводящее итог его духовных исканий, фактически является художественным парафразом теоретических построений Шиллера.
И вот на фоне этого «шиллеровско-ман-новского» идейного сюжета возникает (хотя и эпизодически) американская тема. Американцев Тонио неожиданно встречает в курортной датской деревушке, достигая финальной точки своего путешествия.
Напомню, что после разговора с Лизаветой, в котором она назвала его «заблудшим в искусство бюргером», Тонио отправляется в путешествие, которое становится не столько перемещением в пространстве, сколько самопознанием, путешествием к истокам своей личности и своего искусства. Таких истоков здесь, на мой взгляд, три. Первый исток – личный, родной Любек, в котором он не чувствует себя дома. Попытка вернуться в детство терпит крах, здесь все чужое, и эпизод с полицейской проверкой это подчеркивает.
Затем следует путешествие по Балтике, как бы переносящее героя в мир надличностных форм. Второй исток – это датский Хельсингёр, известный всем как Эльсинор, символ крёге-ровского гамлетизма1. Но и родина его литературного прототипа – все еще не конечная точка его исканий. Ибо оттуда герой направляется в курортную деревушку Аальсгарде2, название которой прозрачно намекает на Асгард, мифологическую прародину германских богов-асов. Только там Тонио, наконец, обретает самопознание. Т. Манн описывает первозданность и элементарную стихийность этого места, гулкий рокот вечного моря и тот свет, который озаряет героя. Именно здесь, а не в отцовском Любеке, Тонио «упивается забвением и свободно парит над временем и пространством» [2, с. 247], ибо здесь ему открывается его вечная прародина. В Аальсгарде разыгрывается мистерия «вечного возвращения того же самого», где ему и являются боги его детства – современные асы Ганс Ганзен и Ингеборг Хольм. Но, как это нередко бывает у Манна, утопия иронично оттеняется антиутопией: «Кроме него, здесь жили еще только три американских юнца то ли с гувернером, то ли с домашним учителем, который молча поправлял очки и с утра до вечера играл с ними в футбол. У юнцов были рыжие волосы, причесанные на прямой пробор, и длинные неподвижные лица. “Please, give me the колбаса, there” – говорил один. “That’s not колбаса; that’s ветчина” – отвечал другой. Этим ограничива- лось участие молодых американцев и их учителя в застольной беседе; все остальное время они сидели молча и пили только кипяток» [2, с. 245–246].
Больше об этих добрых людях не говорится ни слова, но и сказанного довольно. Вместо обаяния молодости Инги и Ганса перед нами скука, вместо целомудренной чистоты – стерильность, вместо божественной грации – угрюмая инфантильность, граничащая с идиотизмом. Гамлетовский вопрос Крёгера «жизнь или дух» сведен здесь к дилемме «the колбаса или the ветчина».
Американский код в контексте оппозиции демократии и аристократии
Скептическое отношение Манна к Америке, которое явно звучит и здесь, и на страницах «Размышлений аполитичного», конечно, эволюционировало в годы демократических преобразований Веймарской республики и особенно в годы его жизни в США, всесторонне описанные в ряде научных работ, прежде всего – в обширной и глубокой монографии американского германиста Ханса Рудольфа Важэ «Томас Манн, американец» (2011) [5]. Важэ указывает, что американские годы не были просто случайным интермеццо, но являлись самобытным этапом творческой эволюции писателя, плодами которого стало завершение «Лотты в Веймаре», «Иосифа и его братьев» и создание «Доктора Фаустуса», а также многочисленные эссе, доклады и радиопередачи, в которых Т. Манн выступил уже не только как писатель-интеллектуал, но как политический писатель и антифашист.
Но и проживая в Америке, Т. Манн продолжал ощущать себя немцем, что выразил в знаменитой фразе «Where I am, there is Germany», когда 21 февраля 1938 г. он, как «the greatest living man of letters», впервые прибыл в Нью-Йорк. И хотя путь его духовных исканий подсказывался логикой не американской, а немецкой культуры, многие традиционные для него темы под влиянием американского опыта и войны с фашизмом были продуманы им заново.
В частности, исконно немецкий дуализм плоти и духа, природы и культуры, осмысляется сквозь призму соотношения демократизма и аристократизма. Т. Манн задается вопросом, возможен ли синтез этих принципов. Возможна ли такая демократизация общества, которая исключала бы триумф пошлости, упадок высокой культуры, профанизацию сакрального? Возможна ли аристократическая демократия, которая не допустила бы превращение народа в разнузданное стадо, как это уже произошло в Германии? Иными словами, возможно ли одухотворение социальной плоти?
Вряд ли Т. Манн серьезно верил в триумф подобной утопии, однако по мере сил способствовал хотя бы частичной ее реализации. Индивидуальным примером такого синтеза стал для него американский президент Рузвельт, которого он назвал «Цезарем в инвалидной коляске». Томас Манн усматривал в Рузвельте «гер-месовскую натуру» и «олицетворение ловкого, радостно-умелого посредничества , духовное начало, которое, если и идет на уступки материи, то только ради осуществления в ней высоких целей» [1, с. 151]. Поэтому не случайно, что Иосиф Прекрасный его тетралогии наделен чертами американского лидера, а проводимые им в Египте реформы проникнуты духом «Нового курса» Рузвельта.
Но Т. Манн не мог не замечать и другую, пошлую сторону американской жизни. Проживая в фешенебельном «Пасифик Палисейдс», он с грустью отмечает «добродушное варварство американцев, их непроникнутость историческим опытом, неподготовленность к возлагаемой на них исторической миссии» [1, с. 155]. Цитируя одного американского солдата, он пишет своей подруге и протектору Агнесе Майер: «Всюду dancing, эротика, равнодушие, полная неосведомленность» [1, с. 156]. В дневнике постоянно звучат жалобы на «варварскую инфантильность» этих «boys». Все это означает для Манна смерть культуры, которая, однако, предстает в веселом и беззаботном обличии, можно сказать, в образе некой «ложной естественности».
Американский кодв новелле «Обманутая»
Воплощением такой ложной естественности становится молодой американец из последней новеллы «Обманутая» (другое ее название – «Черный лебедь»), которая, как и «Смерть в Венеции», тематизирует недостойную страсть3. Ее сюжет вкратце состоит в следующем. Во времена Веймарской республики и свободных нравов в Дюссельдорфе проживает почтенная вдова, полковница Розалия фон Тюммлер, мать двух взрослых детей. Она ведет подобающий ее статусу степенный образ жизни, пока в их городе не появляется некое новое лицо. «Этим новым лицом был некто Кен Китон, двадцатичетырехлетний американец.... Во время войны он застрял в Дюссельдорфе, где давал уроки английского, а в иных домах за вознаграждение просто болтал с женами богатых коммерсантов на своем родном языке» [3, с. 399]. «У Кена были густые светлые волосы, не слишком красивое, но не лишенное приятности, открытое лицо типичного англосакса, здесь, в Дюссельдорфе, поражавшее своей оригинальностью. Превосходно сложенный, что угадывалось, несмотря на широкую, свободную одежду, он был крепок, длинноног, узкобедр» [3, с. 400].
Руки у него тоже были красивые, на левой он носил довольно безвкусное кольцо. Простые, непринужденные, но не лишенные изящества манеры, потешный немецкий язык, в его устах безнадежно сходствовавший с английским, как, впрочем, и крохи итальянского и французского (он побывал во многих европейских странах), – все нравилось Розали.
Вскоре Розали осознает, что страстно влюблена в американца. И тут с ее стареющим организмом происходит необъяснимое чудо: ее менопауза внезапно отступает, к ней возвращается женская молодость, в которой ей видится «женская пасха», торжество молодости над увяданием.
Спустя некоторое время Розали вместе с детьми и Кеном совершают загородную прогулку в увеселительный замок, во время которой она признается американцу в любви и назначает ему свидание. Этому свиданию, однако, не суждено состояться, поскольку той же ночью у нее случается кровоизлияние и экстренно проведенное обследование диагностирует метастатическую стадию рака матки, от которого Розали умирает через несколько дней. Новелла потому и называется «Обманутая», что Розали ошибочно приняла симптомы наступающей смерти за возвращение юности. Оперировавший ее перед смертью хирург высказал гипотезу, что острая форма болезни могла быть спровоцирована вспышкой ее либидо.
И в этой новелле американский код определяется полем напряжения между природой и духом, олицетворением которых выступают Розали и ее дочь Анна. Томас Манн постоянно подчеркивает, что Розали – дитя природы, которая влюблена в жизнь и грезит, чтобы ее «хлестали розгой жизни». К природе она испытывает поистине религиозное чувство. Ее хромая и свыкшаяся с ролью старой девы дочь, художница-абстракционистка, напротив, стоически отвергает все притязания природы во имя искусства и духа. Вся новелла проходит под знаком дискуссий о первенстве, которые ведут морально нестойкая мать-природа и ее морально устойчивая дочь-культура.
Так, признаваясь дочери в своих чувствах к американцу, Розали говорит: «Я горда ущербной весной своей души [3, с. 420]. … То, что сделала со мной природа, – красиво. Только красоты жду я от нее и впредь» [3, с. 431]. Анна возражает: «Гармония между духом и телом, несомненно, хорошая, необходимая вещь. … Но гармония между образом жизни и прирожденными нравственными убеждениями (курсив мой. – прим. авт. ) еще более необходима человеку. Там, где она нарушена, нарушен весь духовный строй, и это приводит к несчастью» [3, с. 434].
Слова Анны есть не что иное, как переформулировка кантовского категорического императива, преломленная сквозь рассуждения Шиллера о достоинстве человека, Шопенгауэра о героической резиньяции и Ницше о т.н. пафосе дистанции, суть которых состоит в господстве моральной силы над инстинктами и духовной аскезе. Неумение владеть собой приведет Розали к внутреннему разладу, разрушению личности, а в итоге – к гибели.
И Розали, хотя и не без внутреннего сопротивления, сначала честно пытается следовать увещеваниям дочери и обуздывать свои страсти, однако не находит в себе сил. Почему? Т. Манн показывает страсть Розали не просто как субъективный эксцесс, но как нечто фатальное и предначертанное, как судьбу, «бытие к смерти», что связывает эту новеллу с немецким дискурсом иррационализма от Шопенгауэра и Ницше до Фрейда и Хайдеггера.
Ссылаясь в одной из статей на Шопенгауэра, Т. Манн говорит: «Так же, как во сне наша собственная воля, не ведая того, предстает неумолимо-объективной судьбой, как во сне все исходит от нас и каждый есть тайный режиссер своих сновидений, – точно так же и в действительности, в этом большом сне, который вместе со всеми нами видит одно-единственное существо, сама воля, наши судьбы суть производное нашей сути – нашей воли, и мы, следовательно, сами, в сущности, устраиваем то, что кажется нам просто случившимся...» [4, с. 73].
Все, что происходит с Розали, есть на самом деле экстериоризация ее бессознательных волевых импульсов, которая находит свое выражение прежде всего в богатой танатологической символике, которую она толкует превратно, принимая знамения смерти за символы жизни.
Одним из наиболее ярких символов смерти является хищный черный лебедь из замкового пруда, увидеть которого Розали почему-то очень хочется. «Я истосковалась по черным лебедям», – говорит она, не ведая, какой трагический смысл вкладывает в эти слова. Другим зловещим предзнаменованием становится тонкий мускусный аромат, который привлекает гуляющих по парку дам. Оказывается, что его источает разлагающийся труп животного. Путем Розали в небытие становится увеселительная прогулка по Рейну, символическим склепом – красивый замок рококо, могилой – потайная комната для наслаждений и т.д.
Квинтэссенцией подмены выступает американец Кен Китон, человек-иллюзия, появляющийся ниоткуда и исчезающий в никуда. Проницательная Анна это чувствует и предупреждает мать. Конечно, в отличие от всезнающего рассказчика она не дает метафизической интерпретации, но и она видит, что за привлекательной внешностью скрыта заурядная личность или даже некая безличная сила. Кен, который ведет бесцельный, пошлый образ жизни бездельника на содержании жен богатых коммерсантов, есть пародия на вольтеровского Простодушного и симуляция естественного человека. Не случайно, что именно Кен запускает в действие механизм разрушения Розали.
Сама структура трех главных персонажей фактически воспроизводит фрейдовскую схему личности, в которой Розали воплощает Я, Анна – Сверх-Я, Кен – Оно. Кен – проекция бессознательного Розали.
В частности, одним из симптомов такого бессознательного является безличность его речи. Кен, как и Тадзио из «Смерти в Венеции», не наделен собственной прямой речью: на фоне диалогов Розалии и Анны все слова Кена передаются косвенной речью. Его жизнь, мысли, намеренья – потемки. Разговоры матери и дочери, в которых они пытаются разобраться в истинных намереньях Кена, напоминают сеанс на кушетке психоаналитика.
Несмотря на жестокую развязку, финал новеллы проникнут светлой грустью. Розали воздается по вере ее. На краю гибели она принимает смерть и примиряется с ней, ибо природа, которой она поклонялась всю свою жизнь, открывается ей, наконец, во всей своей трагической истине, которая есть двуединство бытия и ничто.
Список литературы Американский код в новеллах Томаса Манна "Тонио Крёгер" и "Обманутая"
- Апт С. Томас Манн. М.: Молодая гвардия, 1972.
- Манн Т. Собрание сочинений: в 10-ти т. Т. 7. Рассказы. Тонио Крёгер. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960.
- Манн Т. Собрание сочинений: в 10-ти т. Т. 8. Повести и рассказы. Обманутая. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960.
- Манн Т. Фрейд и будущее // Иностранная литература. 1996. № 6. 66-78.
- Vaget, H.r., 2011. Thomas Mann, der Amerikaner. Leben und Werk im amerikanischen Exil 1938-1952. Frankfurt am Main: Fischer.
- Vaget, H.r., 1984. Thomas Mann. Kommentar zu sämtlichen Erzählungen. München: Winkler.