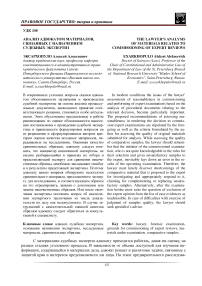Анализ адвокатом материалов, связанных с назначением судебных экспертиз
Автор: Эксархопуло Алексей Алексеевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 1 (47), 2017 года.
Бесплатный доступ
В современных условиях вопросы оценки адвокатом обоснованности назначения и производства судебной экспертизы на основе анализа процессуальных документов, касающихся принятия соответствующего решения, становятся особо актуальными. Этим обусловлены предлагаемые в работе рекомендации по оценке обоснованности вынесения постановления о проведении судебной экспертизы и правильности формулировки вопросов на ее разрешение и сформулированные автором критерии оценки качества исходных материалов, передаваемых на исследование. Оценивая качество сравнительных образцов, адвокату следует помнить, что инициатор назначенной экспертизы, не вполне разбирающийся в правилах их отбора и представляющий эксперту для сравнения некачественные образцы, неизбежно закладывает ошибку и в результаты предстоящей экспертизы. Поэтому адвокату важно вовремя обнаружить недостатки сравнительного материала, предложенного эксперту для исследования, и соответствующим образом на это отреагировать, заявляя о дополнении или замене некачественных образцов. Или после окончания экспертизы поставить вопрос об исключении экспертного заключения из числа доказательств по делу как недопустимого. В случае затруднений с самостоятельной оценкой качества образцов адвокату следует обратиться за консультацией к специалисту.
Адвокат, судебная экспертиза, исследуемые материалы, сравнительные образцы
Короткий адрес: https://sciup.org/142232717
IDR: 142232717 | УДК: 340
Текст научной статьи Анализ адвокатом материалов, связанных с назначением судебных экспертиз
С материалами судебных экспертиз адвокату приходится работать, давая им оценку, на разных стадиях уголовного процесса. В зависимости от объема доступной для изучения информации, содержащейся в материалах дела, адвокат решает и различные задачи, связанные с защитой прав и интересов представляемого им лица. На этапе предварительного расследова-

ния возможности адвоката в этом смысле ограничены теми материалами, с которыми адвокат (защитник) вправе знакомиться. Среди них, прежде всего, постановление о назначении экспертизы (п.1 части 1 ст. 198 УПК РФ). Из текста постановления (из описания обстоятельств дела во вводной его части или из формулировки вопросов эксперту) всегда можно понять, были ли у следователя правовые основания для назначения судебной экспертизы, определяемые потребностью в специальных познаниях, или возникший вопрос можно решить без обращения к сведущим лицам.
Профессионально подготовленному следователю оценить потребность в специальных познаниях обычно не составляет особого труда. Тем не менее, некоторые следователи обращаются к экспертизе для ответа на вопросы, необходимость постановки которых трудно бывает объяснить даже с точки зрения здравого смысла. Поэтому в вынесенных ими постановлениях можно встретить, к примеру, и такие шедевры следственного «творчества»:
«Назначить по настоящему уголовному делу комплексную судебно-медицинскую экспертизу… На разрешение экспертов поставить следующие вопросы:
˗ Каковы параметры полового члена П. (длина, толщина …) в эрегированном и не эрегированном состоянии?
˗ Имеются ли на половом члене П. какие-либо отличительные особенности? ... расположение сосудов, наличие крайней плоти, родинок, шрамов и иных примет. 1
Вряд ли этот абсурд нуждается в комментариях.
И постановление о назначении экспертизы и протокол ознакомления с ним участников процесса содержат, как правило, достаточно информации, чтобы оценить, прежде всего, соблюдение прав, закрепленных в ч. 1 ст. 198 УПК РФ. Среди них важнейшее – это право знакомиться с постановлением о назначении экспертизы до начала ее производства. Любая необоснованная задержка с выполнением данного требования закона лишает их возможности реализовать и другие права, предусмотренные ст. 198 УПК (право заявлять отвод эксперту, дополнять перечень вопросов и др.), и поэтому должна расцениваться как нарушение прав обвиняемого (подозреваемого) на защиту [7, с. 418–419].
Разумеется, если задержка не была вызвана причинами, объективно препятствующими реализации прав участников процесса. Например, когда заинтересованное лицо, на момент вынесения постановления о назначении экспертизы еще не имело статус ни подозреваемого, ни обвиняемого. В таких случаях следователь обязан ознакомить их с постановлением сразу после задержания либо вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого, что вытекает из п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам» № 28 от 21.12.2010 г. [2].
Ознакомившись с вынесенным постановлением, адвокат еще до начала экспертизы может получить информацию, достаточную для заявления ходатайств, способных повлиять на будущее ее производство. В частности, об отводе назначенному следователем эксперту и его замене другим экспертом, о производстве экспертизы в конкретном экспертном учреждении, о дополнении перечня поставленных на ее разрешение вопросов и т.д. (ст. 198 УПК РФ).
Особое внимание адвокату следует обращать на формулировки вопросов, поставленных на разрешение эксперта. Диапазон ошибок, которые при этом допускаются, причем, не только следствием, но и судом, в том числе рассматривающим гражданские дела, весьма широк: от просто безграмотных формулировок, до постановки абсурдных или в принципе не решаемых экспертным путем вопросов. Приведу пример.
Так, по делу № … для установления признаков подделки подписей арбитражный суд назначил судебно-техническую экспертизу, на разрешение которой поставил ряд вопросов, в том числе и такой: «Соответствуют ли подписи, учиненные на договоре аренды №…, приложениях №№ 1, 2 и Плане поэтапной передачи помещений, подписям заместителя генерального директора г-на С.?».
Не нужно быть экспертом, чтобы понять бессмысленность предложенной судом формулировки, поскольку рассуждать о «соответствии» подписей, без конкретизации, что следует понимать под «соответствием» и по каким параметрам это соответствие эксперт должен установить, бессмысленно. Ответом на вопрос будет, к примеру, утверждение о соответствии сравниваемых подписей друг другу по цвету красителя, которым они исполнены, по транскрипции, по месту расположения отдельных штрихов, по конфигурации росчерка, и так до бесконечности. Для установления подобного «соответствия» специальные познания не требуются, а полученный ответ никак не приблизит суд к решению проблемы распознавания подлога подписей.
Возвращая в суд полученные материалы без исполнения, руководитель судебноэкспертного учреждения совершенно обоснованно указала, что судебная экспертиза вопросы «соответствия» подписей друг другу не решает.
Помимо обоснованности постановки перед экспертом вопросов, анализ постановления о назначении экспертизы дает информацию и для проверки законности получения и достоверности тех исходных материалов, которые следователь предоставляет эксперту для исследования. Если для экспертизы представлены материалы, полученные в результате проведения тех или иных следственных действий, то адвокату желательно ознакомиться с содержанием соответствующих протоколов. Такая возможность у адвоката существует всегда, если к проведению данного следственного действия был привлечен его подзащитный.
По протоколу можно судить о соблюдении правил, следование которым при работе с доказательствами не только гарантируют достоверность полученной в результате проведения следственного действия информации, но и позволяет предотвратить возможность подмены или смешения обнаруженных следов [5, с. 174] , совершаемых умышленно или непреднамеренно. Протокольное описание хода и результатов следственного действия после его сопоставления с текстом постановления о назначении экспертизы, где перечислены исследуемые материалы, позволяет убедиться в том, что следователь намерен передать эксперту на исследование именно те документы, материалы и вещественные доказательства, которые были обнаружены при производстве осмотра, обыска и т.д.
Поэтому адвокату важно оценить работу следователя, прежде всего, с позиций возможного влияния допущенных им ошибок на результаты предстоящей экспертизы. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с описанием в протоколе всего, что, так или иначе связано с обнаружением, фиксацией и изъятием доказательств, передаваемых на экспертное исследование, учитывая при этом:
Во-первых, обязательность описания места обнаружения следов. Это требование вытекает из содержания ч. 2 ст. 180 УПК РФ, где говорится, что в протоколе описывается все обнаруженное при осмотре…и в том виде, в каком оно наблюдалось в момент осмотра, то есть непосредственно на месте обнаружения. Более конкретно требование обязательного указания в протоколе места обнаружения следов и иных вещественных доказательств сформулировано в Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам… [1]. В параграфе 8 настоящей Инструкции особо отмечается, что в протоколе должны быть указаны точные сведения о «местах их обнаружения».
Во-вторых, обязательность полного и подробного описания самих обнаруженных следов. Это положение также содержится в упомянутой выше Инструкции, требующей, чтобы в протоколе указывались «точные наименования, количество, мера, вес, серия и номер, другие отличительные признаки каждого изымаемого объекта» (параграф 8 Инструкции) [1].
Следует помнить, что существенные расхождения в описании обнаруженных следов и иных вещественных доказательств с их описанием в постановлении о назначении экспертизы способны породить сомнения в том, что эксперт исследовал именно те объекты, которые ра-
нее были обнаружены при производстве следственного действия и затем переданы эксперту для исследования.
В-третьих, протокол должен содержать сведения о средствах и методах, с помощью которых следы были обнаружены и закреплены (зафиксированы). Это требование сформулировано в ч. 5 ст. 166 и ч. 3 ст. 180 УПК РФ.
Для наглядности приведу пример того, как несоблюдение перечисленных правил дали повод сомневаться в достоверности изъятых при проведении следственного действия материалов, ставших позже объектами экспертизы, и соответственно основание говорить о недопустимости использования полученного экспертного заключения в качестве средства доказывания.
По делу о грабеже следователем была назначена трассологическая экспертиза следов обуви, обнаруженных на месте происшествия. Протокольная запись в описательной части ограничивалась только ориентировочным указанием на место их обнаружения («площадка 4 этажа») и описанием цвета («следы обуви бурого цвета»).
Никаких иных сведений описательная часть протокола не содержала. Ни количество, ни размеры, ни форма, ни особенности отобразившегося в следах строения подошвенной части обуви в протоколе указаны не были. Не были описаны в протоколе ни способы их выявления, закрепления, копирования, ни конкретные технические средства, использованные для этих целей.
Содержание заключительной части протокола, не добавив к имеющейся информации о следах ничего нового, породило лишь дополнительные вопросы, и первым среди них стал вопрос о том, куда делись обнаруженные на «площадке 4 этажа» следы «бурого цвета». Вопрос возник именно потому, что в заключительной части протокола имелась запись о приобщении к нему только «трех светлых дактилопленок» с фрагментами следов обуви, изъятых с лестничной площадки 4 этажа, без описания их цвета. При этом в протоколе появились новые сведения об изъятой с места происшествия еще одной дактилопленке – со следами обуви из прихожей, о которых ранее ничего не было известно, впрочем, как и о том, когда, кем и с применением каких технических средств «следы из прихожей» были обнаружены и зафиксированы.
И только из текста сопроводительного письма, направленного в экспертное учреждение вместе с подлежащими исследованию следами, стало ясно, что эксперту предстояло исследовать вовсе не те следы, которые были обнаружены на месте происшествия, и упоминавшиеся в протоколе как следы «бурого цвета». Из сопроводительного письма следовало, что на экспертизу передавались дактилопленки, на которых имелись следы, «образованные веществом серого цвета», а не «бурого».
И, тем не менее, трассологическая экспертиза сомнительных следов неизвестного происхождения, была назначена и проведена [8, с. 206–220], что, впрочем, не помешало суду использовать ее результаты для вынесения обвинительного приговора.
Надо сказать, что далеко не всегда адвокату на предварительном следствии предоставляется возможность ознакомиться с протоколами следственных действий, результаты которых впоследствии становились объектами экспертного исследования. И, тем не менее, даже располагая ограниченным кругом документов, связанных с назначением судебных экспертиз, у адвоката остается немало возможностей для выполнения своих функций по защите интересов тех участников процесса, которых он представляет [4].
Так, анализ постановления о назначении судебной экспертизы еще до начала ее проведения позволяет выявить противоречия в реквизитах документов, представляемых эксперту для исследования, которые дают основания поставить вопрос о достоверности исходных данных. Выявление таких противоречий может быть использовано адвокатом для заявления ходатайств об исключении сомнительных документов из числа исследуемых объектов. А в случае отказа в их удовлетворении, у адвоката появляются основания для заявления требований о признании недопустимым доказательством экспертного заключения как полученного с использованием недостоверных исходных данных.
Приведу пример. В одном из постановлений о назначении судебно-медицинской экспертизы, вынесенном следователем 06 июля 2011 года по уголовному делу № …, среди указанных в нем материалов, представленных в распоряжение эксперта, оказался акт судебномедицинского обследования № 394 «А» от 11 июля 2011 года. Иными словами следователь вынес постановление о назначении экспертизы, приложив к нему документ, который мог быть оформлен только через пять дней.
Ничем иным кроме изготовления указанного постановления задним числом, объяснить противоречия в датах было невозможно. Как невозможно их объяснить и технической ошибкой или опечаткой, поскольку в деле был подшит и сам акт № 394 «А», датированный 11.07.2011 года, и как минимум два протокола, в которых упоминалось постановление о назначении экспертизы и именно от 06 июля 2011 года.
В криминалистике это называется «виновной осведомленностью» (в данном случае «осведомленностью» следователя о еще не наступившем событии), которая служит надежным признаком лжи или подлога. При обнаружении таких признаков всегда можно ожидать, что фальсификацией постановления о назначении экспертизы дело не ограничилось. И действительно, анализ экспертных материалов показал, что акт судебно-медицинского обследования № 394 «А» эксперт дословно переписал в свое Заключение. Из чего следовало, что по назначенной задним числом экспертизе никто никакого исследования не проводил, а постановление, датированное по глупости или недосмотру следователя шестым июля 2011 года, послужило ему лишь «прикрытием» для оправдания нарушения закона.
При изучении постановления о назначении экспертизы не менее важно для адвоката обращать внимание на данные об эксперте (специальность, квалификация, опыт экспертной работы и др.) и на сведения о специализации того учреждения, которому поручено проведение экспертного исследования. Это тем более важно при назначении экспертизы в учреждении, которое по своему профилю экспертным не является. Давая заключения и формулируя выводы, эксперты, не обладающие нужной квалификацией и опытом, способны ввести в заблуждение и следствие и суд. Особенно, когда ни тот ни другой не отличаются компетентностью в области судебной экспертизы, либо просто готовы закрыть глаза на ошибки эксперта, поскольку сформулированные им выводы вполне согласуются с их собственной позицией. Таким экспертам необходимо вовремя заявлять отвод, поскольку они, сами того, порой, не понимая, дают заключения, в которых ответы на поставленные вопросы создают лишь иллюзию их решения. Прежде всего, это относится к исследованиям, требующим знания теоретических основ и методологической сути идентификационных экспертиз. Приведу пример.
При расследовании уголовного дела по обвинению П. в сексуальном насилии над несовершеннолетней К. возник вопрос о том, каким конкретно фотоаппаратом снимались кадры с обнаженной потерпевшей? У обвиняемого П. при обыске был изъят телефон «Нокия 73», оснащенный фотокамерой. Требовалось установить, данным ли фотоаппаратом или каким-то иным делались порнографические снимки, фигурирующие в деле в качестве вещественных доказательств. Несмотря на то, что и в городе, где расследовалось дело, и в областном центре имелись специализированные экспертно-криминалистические учреждения, располагающие всем необходимым для производства фототехнической экспертизы, следователь назначил ее проведение в М-ском Государственном Университете, поручив специалистам в области компьютерной техники. Проводил экспертизу заведующий «Медиацентром» г-н М., имеющий высшее образование по специальности «Учитель информатики».
Вполне естественно, что эксперт дал заключение в полном соответствии с уровнем своей профессиональной подготовки. Из формулировки полученного от него ответа на поставленный перед ним идентификационный вопрос следовало, что «все фотографии сняты

камерой телефона модели «NOKIA № 73». Но так может ответить только человек, не понимающий разницы между индивидуальным тождеством и групповой принадлежностью.
Для любого специалиста, знакомого с теорией криминалистической идентификации, вывод эксперта вовсе не означал, будто бы для съемки обнаженной К. использовался именно тот телефон, который следователь изъял у обвиняемого. Им мог оказаться любой телефон, указанной экспертом модели.
Плохо, когда эксперт не разбирается в теории идентификационной экспертизы, но еще хуже, когда судья, решающий судьбу человека, не понимает, что эксперт, отвечая на вопрос об индивидуальном тождестве телефона, фактически установил лишь его групповую принадлежность. На криминалистическом языке это означает не более чем вероятность использования для съемки К. камеры телефона, принадлежащего обвиняемому. Не заметив криминалистического невежества эксперта, судья с готовностью восприняла выводы «учителя информатики» как источник достоверных сведений. Сославшись на « заключение судебнотехнической экспертизы телефона..., о том, что ... с помощью фотоаппарата данного телефона сделаны снимки тыловой камерой со вспышкой …», чего реально в заключении не было, судья констатировала в приговоре: «Обвиняемый происходящее снимал на камеру своего сотового телефона «Нокия» …» (выделено мной – А.Э).
При анализе постановления о назначении экспертизы особого внимания от адвоката требуют сравнительные образцы, представляемые для производства идентификационных исследований. Они также подробно описываются в постановлении. По этому описанию можно высказать некоторые суждения об их качестве, прежде всего, с точки зрения соответствия предъявляемым к образцам требованиям сопоставимости, несомненности происхождения и достаточности. Соблюдение этих требований полностью зависит от следователя или суда, на которых лежит обязанность готовить материалы для проведения назначаемой ими экспертизы, особенно почерковедческой, для которой, как правило, требуется подготовить значительное число отличающихся большим разнообразием образцов: свободных, условно-свободных и экспериментальных. Пренебрежительное отношение к этим требованиям или непонимание их важности, негативно сказывается на результатах экспертного исследования.
Авторы научно-практического комментария к УПК РФ, подготовленного под общей редакцией Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева, предупреждали, что «недоброкачественность образцов, представленных эксперту для сравнительного исследования, может подорвать доказательственное значение заключения эксперта» [6, с. 279].
К чему может привести использование некачественных образцов иллюстрирует следующий пример:
В гражданском деле, рассмотренном одним из районных судов С.-Петербурга, истец А. заявила требования к должнику К. (ответчику) о возврате суммы, переданной ему по договору займа. В свою очередь ответчик представил в суд расписку, из которой следовало, что сумма долга была кредитору возвращена незадолго до начала рассмотрения искового заявления. Истица же, настаивая на существовании долга, утверждала, что никаких расписок не подписывала и денег не получала. Суд назначил почерковедческую экспертизу, отобрав у истицы образцы ее подписей прямо в зале суда. Проведение экспертизы было поручено одной из наиболее опытных экспертов – почерковедов с более чем 30-летним стажем работы по данной экспертной специальности. По результатам проведенного исследования эксперт дала вероятностное отрицательное заключение, отчасти подтверждавшее слова А. о подделке ее подписи под распиской, представленной ответчиком.
Позже выяснилось, что долг ответчик возвращал истице осенью, встретившись с ней в открытом кафе у метро. Истица ставила свою подпись под распиской, будучи одета в меховое пальто, при температуре около +6 градусов, положив тонкий лист расписки непосредственно на пластиковый стол, то есть на жесткую подложку.
Ничего этого эксперт, проводившая исследование, разумеется, не знала. Через какое-то время после дачи ею заключения, эксперт, узнав про то, в каких условиях могло происходить подписание спорного документа, заявила, что, если бы она была изначально осведомлена об этих условиях, то она непременно отказалась бы давать заключение на основании исследования лишь тех образцов, которые были отобраны судом в зале заседаний. И такое решение эксперта имело бы все основания, поскольку изготовление рукописных текстов в условиях низких температур, не говоря уже про иные необычные условия их выполнения, ведет к таким изменениям признаков почерка, которые легко перепутать с признаками подражания почерку другого лица. В частности, к снижению координации движений, которая выражается в изломах и извилистости штрихов, в угловатости овалов; к снижению темпа движений; к неравномерной протяженности движений по горизонтали и вертикали и другим изменениям признаков привычного письма [3].
Вся эта информация на очередном заседании была доведена до сведения судьи, которая при вынесении окончательного решения отказалась принимать во внимание результаты проведенной почерковедческой экспертизы, посчитав их не вполне достоверными.
Доказательственное значение результатов почерковедческой экспертизы оказалось сомнительным именно потому, что эксперт вынуждена была использовать только те сравнительные образцы, которые ей были переданы судом, не зная, что они не отвечают предъявляемым требованиям. Именно это обстоятельство и привело к даче ошибочного заключения, притом, что само исследование проводилось на должном научно-методическом уровне и с использованием научно обоснованных методов и методик. Причина подобных непреднамеренных ошибок в том, что, эксперт, получив готовые материалы и не имея достаточных оснований запрашивать дополнительные сведения об условиях, определяющих сопоставимость и несомненность происхождения сравнительных образцов, обязана была исходить из доброкачественности тех, которые ей были представлены. То есть, полагаясь на компетентность в этом вопросе суда.
Оценивая качество сравнительных образцов, адвокату следует помнить, что инициатор назначенной экспертизы, не вполне разбирающийся в правилах их отбора, и представляющий эксперту для сравнения некачественные образцы, неизбежно закладывает ошибку и в результаты предстоящей экспертизы. Поэтому адвокату важно вовремя обнаружить недостатки сравнительного материала, предложенного эксперту для исследования, и соответствующим образом на это отреагировать, заявляя о дополнении или замене некачественных образцов. Либо, дождавшись окончания экспертизы, поставить вопрос об исключении экспертного заключения из числа доказательств по делу как недопустимого. В случае затруднений с самостоятельной оценкой качества образцов адвокату следует обратиться за консультацией к специалисту, тем более, что такую возможность ему предоставляет закон (п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).
Список литературы Анализ адвокатом материалов, связанных с назначением судебных экспертиз
- Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания, судами (утверждена Прокуратурой СССР, МВД, КГБ, Верховным Судом СССР № 34/15 18.10.89 г. с изменениями, внесенными совместным приказом МВД России, Минюста России, Минздрава России, Минэкономики России, ГТК России, ФСБ России, ФПС России от 9 ноября 1999 года. NN 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585. URL: http:/www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1205854/#ixzz4VoNWX5nx.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам» № 28 от 21.12.2010 г. / Российская газета. Федеральный выпуск № 5375 (296). 2010. 30 декабря.
- Бродская А.Б. О возможности установления факта выполнения рукописи в условиях низких температур / Криминалистика и судебная экспертиза: Межведомственный научно-методический сборник. Вып.7. Киев: Минюст Украины, 1970.
- Макаренко И.А. Защитник как гарант соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетнего обвиняемого / Закон и право. 2006. № 12. С. 29-30.
- EDN: HVVQLD
- Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. Изд. 2-е, перераб. и доп. / под общ. ред. Предс. Верховного Суда РФ В.М. Лебедева; науч. ред. засл. деят. науки РФ, проф. В.П. Божьев. М.: Издательство «Спарк», 1997.
- Научно-практический комментарий к УПК РФ. 4-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. Предс. Верховного Суда РФ, засл. юриста РФ, д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; науч. ред. засл. деят. науки РФ, проф. В.П. Божьев. М.: Издательство «Юрайт», 2008.
- Научно-практический комментарий к УПК РФ. 9-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. Предс. Верховного Суда РФ, засл. юриста РФ, д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; науч. ред. засл. деят. науки РФ, проф. В.П. Божьев. М.: Издательство «Юрайт», 2014.
- Эксархопуло А.А. Специальные познания и их применение в исследовании материалов уголовного дела. СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005.
- EDN: QWGQSB