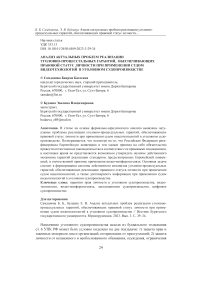Анализ актуальных проблем реализации уголовно-процессуальных гарантий, обеспечивающих правовой статус личности при применении судом видеотехнологий в уголовном судопроизводстве
Автор: Самданова Б.Б., Будаева Э.В.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция @vestnik-bsu-jurisprudence
Рубрика: Актуальные вопросы уголовного права, уголовного процесса
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе формально-юридического анализа выявлены актуальные проблемы реализации уголовно-процессуальных гарантий, обеспечивающих правовой статус личности при применении судом видеотехнологий в уголовном судопроизводстве. Подчеркивается, что несмотря на то, что Российская Федерация ратифицировала Европейскую конвенцию и тем самым приняла на себя обязательство привести отечественное законодательство в соответствие с ее правовыми положениями, в настоящее время не представляется возможным утверждать наличие действенного механизма гарантий реализации стандартов, предусмотренных Европейской конвенцией, в отечественной практике применения видео-конференц-связи. Основная задача состоит в формировании системы действенного механизма уголовно-процессуальных гарантий, обеспечивающих реализацию правового статуса личности при применении судом видеотехнологий, а также достоверность информации при применении судом видеотехнологий в уголовном судопроизводстве.
Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве, видеотехнологии, видеоконференцсвязь, дистанционное судопроизводство, цифровое судопроизводство
Короткий адрес: https://sciup.org/148327717
IDR: 148327717 | УДК: 353.13 | DOI: 10.18101/2658-4409-2023-3-29-34
Текст научной статьи Анализ актуальных проблем реализации уголовно-процессуальных гарантий, обеспечивающих правовой статус личности при применении судом видеотехнологий в уголовном судопроизводстве
Самданова Б. Б., Будаева Э. В. Анализ актуальных проблем реализации уголовнопроцессуальных гарантий, обеспечивающих правовой статус личности при применении судом видеотехнологий в уголовном судопроизводстве // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2023. Вып. 3. С. 29–34.
Назначение уголовного судопроизводства исходя из буквального толкования ст. 6 УПК РФ может быть условно поделено на две подзадачи: 1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 2) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Достижению назначения уголовного судопроизводства способствуют уголовно-процессуальные гарантии прав лиц, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства.
Вопросам гарантий прав личности в уголовном судопроизводстве посвящено значительное число научных исследований представителей отечественной уголовно-процессуальной доктрины [2, 5–6].
Вместе с тем, несмотря на достаточную степень научной разработанности института уголовно-процессуальных прав личности в уголовном судопроизводстве, представляется важным отметить, что применительно к их реализации в условиях цифровизации уголовного судопроизводства по-прежнему имеются отдельные пробелы, нуждающиеся в устранении.
В контексте изложенного представляется справедливой точка зрения И. П. Поповой относительно того, что «в условиях современной цифровизации уголовного судопроизводства объективно необходимым является формирование действенного механизма уголовно-процессуальных гарантий участников уголовного судопроизводства и иных лиц и организаций, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства» [7, с. 4].
Проведенный формально-юридический анализ норм действующего уголовно-процессуального законодательства позволил прийти к выводу о том, что правовые положения, регламентирующие основания и процедуру применения видеотехнологий в уголовном судопроизводстве, бессистемны, размыты и не отличаются четкостью изложения. Приведенные обстоятельства на практике порождают проблемы в их применении и, как следствие, приводят к нарушению прав и законных интересов лиц и организаций, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства.
Правовую основу формирования системы уголовно-процессуальных гарантий прав личности в процессе применения судом видео-конференц-связи в уголовном судопроизводстве составляют правовые положения, содержащиеся в ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — Европейская конвенция)1 .
Несмотря на то, что Российская Федерация ратифицировала Европейскую конвенцию и тем самым приняла на себя обязательство привести отечественное законодательство в соответствие с ее правовыми положениями, сегодня не представляется возможным подтверждать наличие действенного механизма гарантий реализации стандартов, предусмотренных Европейской конвенцией, в отечественной практике применения видео-конференц-связи.
В силу ограниченности объема исследования рассмотрим лишь некоторые возникающие в правоприменительной практике актуальные проблемы реализации уголовно-процессуальных гарантий, обеспечивающих правовой статус личности при применении судом видеотехнологий в уголовном судопроизводстве.
Первая проблема, имеющая место при реализации уголовно-процессуальных гарантий, обеспечивающих правовой статус личности при применении судом видеотехнологий в уголовном судопроизводстве, состоит в отсутствии правовой определенности в вопросе об основаниях применения видео-конференц-связи на этапе судебного разбирательства по уголовному делу.
В связи с этим представляется справедливым замечание Е. А. Артамоновой относительно того, что «исходя из буквального толкования 278.1 УПК РФ допрос свидетеля (потерпевшего) может проводиться с применением видео-конференцсвязи лишь в случае наличия объективных препятствий к их явке непосредственно в зал судебного заседания» [3, с. 15].
С формально-юридической точки зрения также возникает вопрос о том, требуется ли для реализации обозначенной в части 1 статьи 278.1 УПК РФ процедуры учет мнения сторон, предшествующий принятию судьей процессуального решения о применении видео-конференц-связи.
Решение обозначенной проблемы видится нам в установлении в отдельной статье УПК РФ исчерпывающего перечня правовых ситуаций, при возникновении которых допускается применение видео-конференц-связи. Представляется, что подобная законодательная новелла позволит установить гарантию того, что будет исключена произвольная возможность применения опосредованной формы участия в судебном разбирательстве, зависящая исключительно от судейского усмотрения.
Еще одна проблема, имеющая место при реализации уголовно-процессуальных гарантий, обеспечивающих правовой статус личности при применении судом видеотехнологий в уголовном судопроизводстве, состоит в допросе по видео-конференц-связи лиц, имеющих дефекты зрения, слуха и речи, которые могут возникнуть как в случае дистанционного участия обвиняемого, страдающего соответствующими заболеваниями, так и иных лиц или же дистанционном нахождении обвиняемого.
Проведенный формально-юридический анализ положений действующего уголовно-процессуального законодательства позволил прийти к выводу о том, что в нем отсутствуют нормы, устанавливающие особенности механизма проведения допроса лиц, имеющих дефекты зрения, слуха и речи, в обычном судебном заседании. Учитывая приведенные обстоятельства, следует отметить, что применение видео-конференц-связи при допросе таких лиц не меняет правовой ситуации, как следствие, он может проводиться в соответствии с общими правилами.
Вместе с тем в отечественной уголовно-процессуальной доктрине ставится вопрос относительно того, «не происходит ли вследствие применения системы видео-конференц-связи нарушение права участников уголовного судопроизводства с дефектами зрения, слуха и речи» [1, с. 12].
По мнению большинства представителей отечественной уголовно-процессуальной доктрины, «допрос лиц, обладающих различными дефектами восприятия (речи, слуха, зрения), является допустимым. Производство такого допроса существенно упрощается вследствие возможности применения субтитров, сурдоперевода и др. при условии присутствия соответствующего специалиста, причем как непосредственно в судебном заседании, где рассматривается уголовное дело, так и около допрашиваемого, который участвует в рассмотрении посредством видеоконференц-связи» [4, с. 571].
Как справедливо отмечает Е. В. Селина, «в каждой отдельной правовой ситуации возможность проведения допроса лиц, имеющих дефекты речи, слуха и голоса, посредством видео-конференц-связи подлежит разрешению судом» [8, с. 13].
Следующей проблемой является вопрос о том, где должен находиться защитник (представитель) участника уголовного судопроизводства — подсудимого (потерпевшего) — в судебном заседании посредством видео-конференц-связи.
Полагаем, что потребность в присутствии защитника (представителя) подсудимого (потерпевшего) в зале судебного заседания не подлежит обсуждению вследствие того, что это является гарантией полноценного участия в оказании квалифицированной юридической помощи. Подобный подход должен быть применим и в отношении обеспечения взаимодействия подсудимого (потерпевшего) с переводчиком, экспертом и специалистом [9, с. 88].
Следующая проблема заключается в реализации прав лица, принимающего дистанционное участие в уголовном судопроизводстве, на участие в доказывании по уголовному делу. Обозначенное право может быть нарушено, в частности, вследствие невозможности исследования предметов и видеозаписей, а также представления всех доказательств, которые обладают овеществленной формой (предметов, фотографий, рисунков, аудио- и видеозаписи и т. п.). Так, лицо, принимающее дистанционное участие в судебном разбирательстве, лишено объективной возможности взять в руки орудие преступления, рассмотреть его вблизи, ознакомиться с его деталями, идентификационными признаками.
В приведенных обстоятельствах применение видео-конференц-связи ставит подсудимого перед необходимостью приобщения полученных им предметов и документов до судебного разбирательства, что приводит к раскрытию имеющихся у него доказательств стороне обвинения, все это в отдельных случаях нецелесообразно с точки зрения тактики защиты. Также в отдельных правовых ситуациях подсудимый вынужден передавать предметы и документы посредством третьих лиц, например защитника. Подобный подход также приводит к нарушению права подсудимого на представление доказательств, а равно право на защиту, что подсудимый может осуществлять самостоятельно.
Определенные трудности имеют место в правовой ситуации, когда право на предоставление дополнительных доказательств реализуется подсудимым, который содержится под стражей и принимает дистанционное участие в производстве по уголовному делу. Действующее уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает каких-либо ограничений на реализацию вышеназванного права и представляется недопустимым. Таким образом, обозначенное право подсудимого должно быть обеспечено процессуальными гарантиями. Имеющийся в этой части законодательный пробел подлежит устранению.
В отечественной уголовно-процессуальной доктрине предложено несколько способов решения существующей проблемы. Вместе с тем, как показал проведенный анализ научной литературы, ни один из предложенных способов не будет способствовать эффективному разрешению обозначенной проблемы.
Сходная проблема имеет место и в правовой ситуации, связанной с правом участника уголовного судопроизводства на дистанционное заявление письменных ходатайств и отводов. Такая возможность отсутствует, а обозначенное право может быть реализовано только в устной форме.
В заключение представляется важным подчеркнуть, что в условиях современной отечественной правовой действительности отмечается объективная необходимость в формировании на основе комплексного системного подхода эффективного механизма реализации правового статуса личности в случае применения судом видеотехнологий в уголовном судопроизводстве, что требует разрешения обозначенных проблем и устранения имеющих место пробелов в уголовно-процессуальном законодательстве.
Список литературы Анализ актуальных проблем реализации уголовно-процессуальных гарантий, обеспечивающих правовой статус личности при применении судом видеотехнологий в уголовном судопроизводстве
- Алексеева Л. Б. Видео-конференц-связь в суде: технические проблемы решены, остались процессуальные // Российская юстиция. 2000. № 6. С. 12-16. Текст: непосредственный. EDN: WNDSMB
- Апостолова Н. Н. Система гарантий прав и свобод граждан при применении мер уголовно-процессуального принуждения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 5. С. 3-7. Текст: непосредственный. EDN: XSVLMD
- Артамонова Е. А. Отдельные проблемы производства допроса свидетеля и потерпевшего путем использования систем видео-конференц-связи в современном уголовном процессе // Администратор суда. 2012. № 1. С. 14-17. Текст: непосредственный. EDN: PFDJTX
- Астафьева А. А. Проблемы применения видео-конференц-связи на судебных стадиях уголовного судопроизводства // Перспективы государственно-правового развития России в XXI веке: материалы всероссийской научно-теоретической конференции курсантов и слушателей вузов МВД России, студентов гуманитарных вузов, адъюнктов, аспирантов и соискателей. 2017. С. 570-573. Текст: непосредственный. EDN: ZHVTVB
- Вилкова Т. Ю. Реализация конституционной обязанности государства обеспечить доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 8. С. 155-163. Текст: непосредственный. EDN: ATUOFW
- Головинская И. В., Крестинский М. В., Савельев И. И. Отдельные проблемы реализации конституционных и уголовно-процессуальных гарантий прав лиц в ходе производства по уголовным делам // Современное право. 2019. № 3. С. 42-46. Текст: непосредственный. EDN: ZCEJBR
- Попова И. П. Автоматизация уголовного процесса: зло или благо для общества? // Мировой судья. 2019. № 11. С. 3-14. Текст: непосредственный. EDN: CBUSTL
- Селина Е. В. Электронное и дистанционное правосудие: вызовы времени и перспективы // Администратор суда. 2016. № 3. С. 12-15. Текст: непосредственный. EDN: WJATJP
- Юркевич М. А. Акты Европейского союза, регулирующие статус потерпевшего: динамика развития // Фестиваль права: сборник трудов всероссийского молодежного форума (г. Ставрополь, 17-18 декабря 2015 г.): в 2 частях / под редакцией М. С. Трофимова. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. Ч. 2. С. 54-61. Текст: непосредственный.