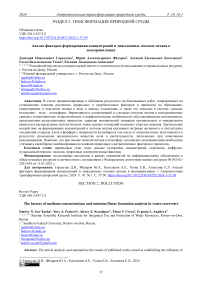Анализ факторов формирования концентраций и эмиссионных потоков метана в водохранилищах
Автор: Гарькуша Дмитрий Николаевич, Фдоров Юрий Александрович, Косолапов Алексей Евгеньевич, Усова Елена Валентиновна, Анпилова Евгения Леонидовна
Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu
Рубрика: Трансформация природной среды
Статья в выпуске: 1 т.10, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы и обобщены результаты опубликованных работ, направленных на установление влияния различных природных и антропогенных факторов и процессов на образование, концентрацию и окисление метана в воде и донных отложениях, а также его эмиссию в системе «донные отложения - вода - атмосфера». Вариативность концентраций и удельных потоков метана в водохранилищах связана с изменчивостью гидрологических и морфологических особенностей, обуславливающих интенсивность продукционно-деструкционных процессов, характер механической миграции органического и минерального вещества и распределение литологических типов донных отложений на разных участках водоема. Значительное воздействие на формирование концентраций и потоков метана оказывают ветровая активность и поступление соединений углерода, азота и фосфора с поверхности водосбора (в том числе от антропогенных источников) и в результате разложения органического вещества почв и растительности, затопленных при наполнении водохранилища. Показано, что при оценке эмиссии метана в атмосферу для каждого водохранилища необходимо учитывать своеобразие комбинированного влияния природных и антропогенных факторов и процессов.
Парниковые газы, вода, донные отложения, концентрация, окисление, диффузия, пузырьковый перенос, эмиссия, природные и антропогенные факторы
Короткий адрес: https://sciup.org/147244106
IDR: 147244106 | УДК: 556.5:547.211 | DOI: 10.17072/2410-8553-2024-1-37-50
Текст обзорной статьи Анализ факторов формирования концентраций и эмиссионных потоков метана в водохранилищах
Глобальное изменение климата, связанное с увеличением концентраций в атмосфере Земли климатически активных (парниковых) газов (СО 2 , СН 4 , N 2 O и др.) является актуальной экологической проблемой. Оно обуславливает повышение температуры воздуха в тропосфере, таяние вечной мерзлоты, повышение уровня Мирового океана, увеличение частоты и интенсивности гидрометеорологических стихийных бедствий [46].
Если межрезервуарный обмен диоксида углерода (СО 2 ) между различными экосистемами исследован более или менее хорошо, то метан (CH 4 ) и закись азота (N 2 O) в этом отношении изучены слабо [38]. Метан является следующим по значимости после СО 2 парниковым газом, однако его «парниковый потенциал» в расчете на 100 лет в 21 раза сильнее, чем у СО 2 [46].
Общая эмиссия метана в атмосферу оценивается в 500–600 Тг/год, причем среднегодовые скорости его поступления и выведения из окружающей среды могут сильно варьировать [66]. Вклад метана в общий парниковый эффект по разным оценкам составляет от 16% [32] до 18–19% [34], при этом скорость увеличения его содержания в атмосфере в 2–4 раза выше, по сравнению с диоксидом углерода. Так, современная (измеренная в декабре 2023 года) средняя концентрация метана в атмосфере составила 1932,23 ppb [52], что в 2,68 раза выше, чем в доиндустриальные времена – 720 ppb.
Большая часть атмосферного метана имеет бактериальное (биогенное) происхождение и полностью контролируется его потоками с земной поверхности [34]. Около 40% метана поступает в атмосферу от природных источников, например, высокоэвтрофных ветлендов (болот), тропических влажных лесов, термитов, и около 60% – из антропогенных источников (например, свалок промышленных и бытовых отходов, рисовых полей, при неполном сжигании биомассы, выращивании крупного рогатого скота, добычи и эксплуатации ископаемого топлива) [60].
В последние десятилетия особое внимание ученых направлено на изучение водохранилищ, как антропогенного источника метана [3; 13; 14; 16; 44; 47]. Это связано с тем, что водохранилища, являясь крупными резервуарами – накопителями автохтонного и аллохтонного органического вещества, обладают высоким потенциалом к образованию метана в донных отложениях и его эмиссии в атмосферу.
В первые годы после заполнения чаши водохранилища затопленные почвы и растительность представляют собой значимый внутренний источник органических веществ и биогенных элементов, поддерживающих высокий уровень продуктивности экосистемы [15]. Для этого периода характерна особенно высокая бактериальная активность, способствующая разложению как затопленной, так и продуцированной фитопланктоном органики. Это, даже при относительно слабой стратификации водной толщи, может приводить к истощению в ней запасов кислорода и, как следствие, к интенсивному протеканию анаэробных процессов с образованием метана и его эмиссией в атмосферу. Длительность разложения основной массы затопленного наземного органического вещества после наполнения водохранилища зависит от особенностей почв и растительности, режима заполнения чаши водохранилища, климатических условий и интенсивности водообмена и обычно составляет от одного до десяти лет [15; 39]. В последующее время дно водохранилища покрывается иловыми отложениями, его экосистема стабилизируется, и генерация метана поддерживается за счет разложения аллохтонного органического вещества, поступающего с речными притоками и с поверхности водосбора, а также автохтонной органики, образующейся непосредственно в водохранилище. При этом основное количество метана выделяется в атмосферу спорадически в так называемые “горячие моменты” (“hot moments”) [47], во время которых в водохранилищах создаются благоприятные условия для образования и эмиссии газа [29]. На продолжительность формирования таких условий влияют сезонные особенности поступления и образования органических веществ, стратификации водной толщи и колебания уровня воды [28; 44; 65].
Имеющиеся ориентировочные оценки вклада водохранилищ в глобальную эмиссию метана [26; 36; 41; 53; 54; 64] существенно разнятся (от 2–4 Тг СН4/год [53] до 95–122 Тг СН4/год [41]), что обусловлено, как различием в методологиях оценки [14], так и большей, чем в естественных водоемах и водотоках, вариативностью внутригодовых изменений скорости потоков метана. Последнее связано с тем, что водохранилища - это сложные природно-техногенные системы, по характеру водообмена, занимающие промежуточное положение между реками и озерами [15], в которых на природные факторы и процессы, обуславливающие пространственно-временную динамику образования, окисления и эмиссии метана, накладывается значимое влияние искусственного регулирования стока и уровенного режима. Это приводит к существенным годовым вариациям площади акватории водохранилища, зон его периодической осушки и затопления, глубин, скорости течений и ветроволновых процессов. В свою очередь, это обуславливает сильную изменчивость интенсивности абразионных процессов в береговой зоне, скорости аккумуляции донных отложений, их гранулометрического и вещественного составов, термического, гидрохимического и гидробиологического режимов водной массы.
В настоящей работе проанализированы и обобщены известные данные о влиянии различных природных и антропогенных факторов на образование, окисление и концентрацию метана в воде и донных отложениях водохранилищ, а также на его эмиссию в системе «донные отложения - вода - атмосфера».
Природные факторы формирования концентраций и эмиссионных потоков метана
В водохранилищах, как и в других водных экосистемах, метан в основном образуется метанообразующими археями (метаногенами) – специализированной группой прокариотных облигатно-анаэробных микроорганизмов, для которых реакция образования метана является единственным источником энергии, доступным только для них [17; 33]. Согласно классическому механизму образования метана, работа метаногенов начинается только тогда, когда в анаэробных условиях, вследствие разрушения органического вещества гидролитическими, ферментативными и ацетогенными микроорганизмами, появляются следующие субстраты: водород, диоксид углерода, закись углерода, формиат, ацетат, метилированные соединения (такие как метанол, метиламины и диметилсульфид), а также первичные и вторичные спирты [25; 30]. По термодинамическим соображениям образование СН4 может служить источником энергии лишь при очень низких значениях окислительновосстановительного потенциала, близких к разложению воды с образованием водорода. То есть метанобразующие бактерии являются наиболее строгими анаэробами и начинают доминировать численно лишь тогда, когда другие потенциальные источники энергии (Fe3+, Mn4+, нитриты, нитраты, сульфаты) исчерпываются. Именно поэтому максимумы их численности, а также концентраций метана приходятся на наиболее восстановленные, как правило, расположенные на некоторой глубине от поверхности, горизонты донных осадков и гидроморфных почв [5; 25]. Обычно концентрация метана в поверхностном 0–5 см слое отложений водных объектов ниже, чем в более глубоких горизонтах и на 1–2 порядка выше, чем в водной толще [25]. В результате неравномерного распределения метана в толще осадков и на границе раздела «дно– вода» возникают и поддерживаются градиенты концентраций, что определяет существование его диффузионного потока как в самих осадках, так и из осадков в придонную воду. Этим и обусловлены характерные для многих водных объектов тесные корреляционные связи между концентрациями метана в этих двух средах [25]. В водоемах и водотоках с незначительными глубинами тесная связь наблюдается также между содержаниями метана в поверхностном и придонном слоях воды, в то время как на глубоководных участках данная связь не прослеживается. Последнее связано с тем, что, диффундируя из донных отложений сквозь мощную толщу воды к поверхности, большая часть растворенного метана окисляется метанотрофными бактериями. При этом скорость метаноокисления зависит от концентрации растворенного кислорода [25], которая связана как с интенсивностью аэрации водной толщи, так и с процессами фотосинтеза и деструкции органического вещества. По данным [27] от 51 до 80% СН4, образующегося в глубоководных отложениях озер, окисляется в толще воды, так и не поступив в атмосферу. Совокупность вышеуказанных факторов обуславливает снижение концентраций CH4 по направлению от придонных к поверхностным слоям воды, характерное для многих водных объектов [25]. В то же время, при существовании дополнительных источников поступления метана в водную толщу концентрации метана у поверхности воды или на некоторой глубине от нее могут заметно превышать таковые в придонном горизонте. К таким источникам может относится: поступление метана в составе вод притоков, сточных вод или его непосредственная генерация в анаэробных микрозонах, образующихся во взвешенных в воде остатках отмерших организмов, а также в пищеварительном тракте и фекальных выделениях (пеллетах) зоопланктона [5].
Молекулярная диффузия метана является не единственным путем его выноса в атмосферу. При интенсивно идущих процессах разложения органического вещества в донных отложениях, возможно перенасыщение газами их порового пространства и, в случае превышения давления газа в отложениях над гидростатическим давлением, может происходить его высачивание (или выброс) из отложений в виде газовых пузырьков и перенос метана в их составе через водную толщу в атмосферу. Считается, что пузырьковый перенос, несмотря на свою эпизодичность, вносит существенно больший вклад в эмиссию СН4, чем молекулярная диффузия [26; 69], поскольку скорость всплывания пузырьков гораздо выше и содержащийся в них СН4 не окисляется напрямую, а только после того, как происходит его растворение в воде. В целом за счет растворения пузырьков газа может наблюдаться локальное повышение концентрации метана в водной массе, окружающей газовый пузырьковый поток [9]. Здесь мы не рассматриваем возможную подводную метановую разгрузку в виде струйных газовыделений, фиксируемых в тектонически ослабленных зонах и областях дегазации над залежами углеводородов, в том числе газогидратов и грязевых вулканов, поскольку это не характерно для водохранилищ.
Если для водной экосистемы характерно сильное развитие водной растительности, имеющей аэренхиму (тростник, рогоз, камыш и т.д.), образующей непрерывное воздушное пространство внутри растения, то пассивный транспорт метана из грунтов корнями через растение в атмосферу может иметь доминирующее значение, поскольку этот путь гораздо быстрее, чем его диффузия и позволяет избежать окисления значительной части метана [1; 5; 37; 60]. Помимо этого, растения выделяют в грунты растворы и легкодоступные органические соединения – корневые экссудаты, которые легко разлагаются, быстро утилизируются и обеспечивают соединениями углерода различные микроорганизмы, тем самым стимулируя их активность и скорость разложения ранее захороненного органического вещества [1; 5; 48]. Следовательно, высокая продуктивность растений в прибрежной зоне, сопровождающаяся их отмиранием и разложением, обеспечивает условия для генерации парниковых газов [37], а наличие аэренхимы у растений, способствует быстрому переносу газов из грунтов в атмосферу [1; 5]. Именно поэтому прибрежная зона часто является «горячей точкой» эмиссии парниковых газов [67]. Особенно интенсивная эмиссия наблюдается в вегетационный период, когда на долю прибрежной зоны относительно небольших водоемов может приходиться более 50% от общего потока СО 2 и СН 4 [37; 48; 49]. И даже в таком крупном водном объекте, как Азовское море, по оценкам [7], суммарная суточная эмиссия СН 4 тростниковой формацией побережья в летний период составляла 34,5% от общей его суточной эмиссии открытой водной поверхностью моря, при этом площадь побережья, заросшая тростниковой формацией не превышала 2,5% от площади его акватории.
Таким образом, в водных экосистемах СН 4 , образовавшийся в донных отложениях, может мигрировать в атмосферу тремя путями: в результате транспорта через растения, пузырькового и диффузионного переноса через водную толщу. Рассмотрим основные факторы и процессы, контролирующие интенсивность эмиссии СН 4 для каждого из данных путей миграции.
Основными факторами, от которых зависит диффузионный поток метана из водного объекта в атмосферу является его концентрация в поверхностном слое воды, температура, влияющая на скорость молекулярной диффузии газа, и ветровые условия, определяющие интенсивность волнения [5]. При отсутствии волн (штиль) или слабом волнении общий коэффициент газообмена на границе раздела «вода – атмосфера» в основном обусловлен термической конвекцией, несколько сдерживающей поток метана на границе «вода – атмосфера», вследствие чего в поверхностных водах происходит повышение концентрации метана за счет его переноса из зон генерации. Сильное волнение вызывает динамическое перемешивание водной массы, тем самым способствуя ускорению молекулярнодиффузного механизма газообмена, как за счет увеличения площади поверхности границы «вода – атмосфера», вследствие образования брызг и схлопывания газовых пузырьков, возникающих при обрушении волн, так и за счет активизации транспорта газа от зон генерации к поверхности [20]. При сильном ветре в затронутых волновым перемешиванием слоях воды происходит очень быстрое снижение содержания метана, иногда (при сильных и продолжительных штормах) до концентраций равновесных с атмосферой [5]. Таким образом, после штилевых условий усиление ветра и волнения в первое время приводит к резкому увеличению потока метана в атмосферу, а затем, из-за быстрого снижения его концентрации в воде, поток метана уменьшается до минимальных значений [5]. При этом, наряду со снижением содержания метана, происходит и гомогенизация его концентраций как по площади акватории, так и по вертикали затронутых перемешиванием водных масс.
В водохранилищах, в которых наблюдается зимняя и летняя стратификация вод, возможно ускорение молекулярно-диффузного механизма газообмена, вследствие сезонного «опрокидывания» (перемешивания) вод, как это происходит в озерах [26]. В результате метан, накопившийся в более глубоких горизонтах воды в течение зимы и лета, высвобождается посредством молекулярной диффузии при конвективном перемешивании вод весной после схода льда и осенью после разрушения летней температурной стратификации [63]. По оценкам [57] до 40% годовой эмиссии метана из небольших озер может выделяться во время весеннего перемешивания.
Для пузырькового переноса метана из донных отложений в атмосферу основными факторами будут являться интенсивность выделения со дна пузырьков газа, степень их растворения при подъеме, зависящая от температуры воды, размеров пузырьков, уровня насыщенности метаном водной толщи и глубины, с которой поднимаются пузырьки [58]. С изменением этих факторов будет меняться и доля метана, достигающего атмосферы. Выделение со дна газовых пузырьков, обусловленное превышением давления газа в отложениях над гидростатическим давлением водной толщи, может провоцироваться снижением уровня воды [44] и атмосферного давления [51]. Особенно интенсивные выделения пузырьков газа могут наблюдаться при регулируемом сбросе вод в водохранилищах [44], а также в естественных водоемах и водотоках, в которых сильно выражено влияние сгонно-нагонных и приливно-отливных явлений [5]. Считается [61], что для мелководных выходов пузырьков газа, расположенных на глубинах менее 20 м, почти весь выделяющийся из донных отложений метан достигает границы вода – атмосфера. Для более глубоководных (порядка 50 м) выходов до 50% газовых пузырьков, причем определенного размера (диметром ~ 10 мм), достигают поверхностных горизонтов; более мелкие пузырьки быстро растворяются, более крупные разбиваются на мелкие, после чего также растворяются [55]. Подводные струйные выходы газа, расположенные на глубинах свыше 100–300 м, практически не достигают поверхностных слоев воды [61], как и метан, диффузионно выделяющийся в водную толщу из глубоководных отложений.
Для транспорта метана через водные растения в атмосферу основными факторами будут являться концентрация газа в ризосфере (узкий слой почвы, толщиной до 5 мм, прилегающий к корням растения и попадающий под непосредственное действие корневых выделений) и состав растительного сообщества [1; 5]. Согласно [62], такие водные растения как меч-трава ( Cladium jamaicense ) , болотница ( Eleocharis interstincta ) , манник (Glyceria striata), ситник ( Juncus effuses ) , кувшинка ( Nymphaea odorata ) , кубышка ( Nuphar luteum ) , пельтандра ( Peltandra virginica ) , понтедерия ( Pontederia cordata ) , стрелолист ( Sagittaria graminea и S. lancifolia ) , рогоз (Typha latifolia) способны обеспечить скорость эмиссии метана от 0.1 до 14.8 мг/на растение в сутки. Наибольшей способностью к транспорту метана обладают водные растения, имеющие аэренхиму (тростник, рогоз, камыш и т.д.), в то время как плавающая, не прикрепленная ко дну растительность (например, ряска) очень слабо транспортирует метан [1; 5], поскольку не имеет ни аэренхимы, ни канала связи с донными отложениями – основным источником метана в водных объектах [25].
Концентрации метана в поверхностном слое воды, от которых во многом зависит его диффузионный поток на границе вода – атмосфера, контролируются соотношением приходных и расходных частей (элементов) баланса метана [5]. В приходную часть входят: объем диффузии метана в воду из донных отложений и поднимающихся со дна газовых пузырьков; образование (продукция) метана в водной толще; поступление с поверхности водосбора с речным и подземным стоком, с талыми и дождевыми водами, в составе промышленных и хозяйственнобытовых сточных вод, а также при абразии берегов. В расходную часть баланса метана входят: объемы его окисления метанотрофами в воде и диффузии из воды в атмосферу.
Концентрация метана в верхних горизонтах донных отложений и ризосфере растений, являющаяся одним из основных факторов, определяющих интенсивность диффузионного и пузырькового потоков на границе дно – вода, а также корневой эмиссии метана растениями, зависит от соотношения следующих элементов баланса метана [5]. В приходную часть баланса входят: объемы непосредственного образования метана (продукция) в верхних горизонтах отложений метаногенными археями и его диффузионного потока из нижезалегающих слоев. В расходную часть входят: объем аэробного и анаэробного окисления метана в донных отложениях и ризосфере; объем диффузионного стока в нижезалегающие горизонты; объем суммарной его эмиссии из донных отложений в воду, включающей диффузию, пузырьковый перенос и транспорт растениями в системе «донные отложения – вода – атмосфера» и «донные отложения (гидроморфные почвы) - ризосфера - растение - атмосфера».
На перечисленные приходные и расходные элементы баланса метана в воде и отложениях оказывают влияние как физико-географические и климатические условия водного бассейна, обуславливающие гидробиологический и гидрологический режимы, и связанные с ними сезонную и суточную динамику физико-химических и биохимических процессов, так и накладывающееся на эти природные факторы антропогенное воздействие [2; 5; 25]. Детальному анализу роли и значимости различных природных и антропогенных факторов в формировании концентраций метана и его потоков в водной толще и донных отложениях водных экосистем посвящена монография [5]. Далее кратко отметим основные результаты, проведенного в ней анализа.
Интенсивность продуцирования метана метаногенными археями в верхних горизонтах отложений и водной толще напрямую зависит от температуры, окислительно-восстановительных условий, количества органических веществ и, прежде всего, лабильных, а также взаимоотношений с другими анаэробными микроорганизмами, во многом обусловленными термодинамикой биогеохимических процессов [5, 25].
Гидрологические условия водного объекта обуславливают характер механической миграции органического и минерального вещества (вынос, транспортировка, аккумуляция), и, как следствие, распределение литологических типов донных отложений на различных участках [5]. Обычно фиксируется рост концентраций метана при переходе от песчаных к алевритово-глинистым илам. Минимальные его концентрации в песчаных осадках связаны с тем, что развитие анаэробных бактерий в них часто бывает подавлено вследствие приуроченности к участкам активного гидродинамического режима, что способствует выносу органических веществ, сохранению относительно высоких концентраций растворенного кислорода у дна и, в результате, предопределяет высокий окислительновосстановительный потенциал отложений. В тонкозернистых осадках возникает благоприятная физико-химическая обстановка для биохимической трансформации аккумулированного в них органического вещества, с образованием in situ метана [5].
Поступление повышенных количеств соединений азота и фосфора с поверхности водосбора и/или в результате разложения органического вещества почв и растительности, затопленных при наполнении водохранилищ, благоприятствует эвтрофикации и интенсивному развитию как высшей водной растительности (макрофитов), так и фитопланктона. Образующийся в водной толще в процессе фотосинтеза кислород способствует окислению метана и, как следствие, снижению его концентраций и потоков, особенно в условиях интенсивного «цветения» воды и пересыщения ее поверхностного слоя кислородом [13]. После отмирания водорослей часть их минерализуется в водной толще в основном под действием пула аэробных бактерий с образованием СО2 и потреблением О2. В эфтрофных озерах и водохранилищах, где наблюдается сильное «цветение» воды, важную роль в формировании содержания метана в его водной толще могут играть процессы метаногенеза, протекающие в анаэробных микрозонах, создаваемых внутри взвешенных в воде органических частиц разлагающегося фитопланктона. В этом случае активное образование метана в воде будет приурочено к зоне термоклина, где ниже подошвы интенсивного развития хлорофилльных водорослей, вследствие задержки их оседающих остатков и массового развития бактерий на этом субстрате, происходит заметное снижение содержания растворенного кислорода [5]. В целом вклад данного источника в формирование концентраций метана в водных экосистемах слабо изучен. По данным натурного мезокосменного эксперимента [5], проведенного на расположенном в пойме Дона рыбоводном пруду, доля протекающего во взвешенном веществе метаногенеза в формирование концентраций метана в воде достигает 25–30%.
Оставшаяся после минерализации в водной толще часть органического вещества поступает в донные отложения, где продолжает разлагаться при содействии аэробных и анаэробных микроорганизмов с образованием СО 2 , H 2 S, СН 4 и других газов. Например, для Азовского моря до 93% фитопланктона разлагается в ходе деструкции органического вещества в водной толще, остальная часть – в основном за счет анаэробных процессов в донных отложениях [21]. Ввиду того, что метаногены являются облигатными анаэробами, для роста которых требуется низкий окислительно-восстановительный потенциал (диапазон роста от +100 до –500 мВ), то среда, лишенная свободного кислорода и содержащая большое количество органики, будет наиболее благоприятной для развития этих бактерий. Исчерпание свободного кислорода на окисление органических веществ приводит к активизации в отложениях анаэробных процессов, в ходе которых такие акцепторы электронов как NO 2 -/NO 3 -(денитрификация), Mn4+, Fe3+, SO 4 2- (сульфатредукция) и Н 2 +СО 2 (метаногенез) в соответствии с термодинамикой (снижением выхода энергии в направлении от денитрификации к метаногенезу) последовательно используются для анаэробного окисления органического вещества [40]. Не все эти процессы активно протекают в анаэробной среде донных осадков и, в случае отсутствия или небольшого количества перечисленных акцепторов электронов, некоторые из процессов могут либо полностью подавляться, либо идти в небольшом по мощности слое. Как правило, в биохимической деградации органического вещества в верхних (0–15 см) анаэробных слоях отложений водоемов и водотоков ведущая роль принадлежит процессу восстановления сульфатов сульфатредуцирующими бактериями, тогда как образование СН 4 метаногенами обычно интенсифицируется в более глубоких слоях, где органические вещества еще содержатся в достаточном количестве, а NO 3 -, Mn4+, Fe3+ и SO 4 2- истощены [18; 21;
-
25] . Таким образом, в анаэробных условиях NO 2 -, NO 3 , Mn4+, Fe3+, SO 4 2- действуют как акцепторы электронов и ингибиторы процесса метаногенеза и, следовательно, способствуют снижению продукции и эмиссии метана [56].
Метаногены очень чувствительны к изменениям температуры [68]. При низких температурах из-за ослабления активности гидролитических, ферментативных и ацетогенных микроорганизмов снижается скорость анаэробного разложения органического вещества и количество питательных субстратов для метаногенов, и, как следствие, уменьшается интенсивность образования метана [31]. С повышением температуры растет разнообразие и численность метаногенов [45], что приводит к значительному увеличению скорости генерации газа. При этом оптимальная температура для метаногенеза обычно составляет 35–40°C [35]. Именно поэтому, более высокие концентрации и удельные потоки метана обычно фиксируются в летний период, а также в светлое время суток – в часы, когда вода максимально прогрета [2].
Большинство чистых культур метанобразующих бактерий развиваются в диапазоне значений рН 6 – 8 [17; 56], хотя отдельные культуры метаногенов (ацидофильные и алкалофильные) могут осуществлять метаногенез как в кислых болотах с рН до 3, так и в содовых озерах с рН до 10. Поскольку для донных отложений и воды большинства пресноводных водоемов и водотоков характерны нейтральные и слабощелочные условия, то этот фактор не оказывает лимитирующего или стимулирующего влияния на продукцию метана в них [5].
На примере нижнего течения реки Дон и Азовского моря показано, что вклад поступления метана с поверхности водосбора в составе подземного стока, талых и дождевых вод [5] в формирование его концентраций в воде неглубоких водоемов и водотоков степной зоны является незначительным и носит подчиненный характер. Это обусловлено, как малым объемом поступления этих вод в водные объекты, так и низкими концентрациями метана в них. Влияние абразии берегов на формирование концентраций метана в водных экосистемах также незначительно [5].
В процессе диффузионного переноса метана от мест его образования в донных отложениях, ризосфере и воде он может окисляться аэробными или анаэробными путями, что является основным механизмом, снижающим его поток в атмосферу [5; 69]. Аэробное окисление метана осуществляется метанотрофным сообществом бактерий в средах, где сосуществуют метан и кислород. Это, обычно, поверхностный слой донных отложений, ризосфера, водная толща, внутренние ткани растений [5; 18; 19; 31]. В целом, чем больше концентрация растворенного кислорода и глубина водной толщи, тем интенсивнее и в большем объеме в ней окисляется метана, и тем меньше его поступает в атмосферу [5; 69]. При этом метанотрофы менее чувствительны к температуре, чем метаногены, проявляя существенную активность и при низких температурах [69]. Показано [59], что в почвенных, пресноводных и морских экосистемах метанотрофы способны потреблять до 80% образующегося в донных отложениях метана. Поскольку нитрифицирующие бактерии (нитрификаторы), осуществляющие аэробное окисление NH4+ в воде и донных отложениях, имеют термодинамическое преимущество в конкуренции за активный центр метанмонооксигеназы с метанотрофами, то окисление СН4 начинается только после того, как NH4+ израсходован [43]. Поэтому высокие концентрации NH4+ в отложениях и воде, сопровождающиеся увеличением количества нитрификаторов, могут приводить к сдерживанию роста и активности метанотрофов, и тем самым способствовать накоплению CH4 [43].
Анаэробное окисление метана осуществляется консорциумом анаэробных микроорганизмов с использованием таких акцепторов электронов как NO 2 -/NO 3 - (нитрит/нитрат-зависимое анаэробное окисление СН 4 с образованием СО 2 и N 2 (денитрификация)), оксиды Mn4+ и Fe3+ (металл-зависимое анаэробное окисление СН 4 с образованием HCO 3 - и закисных форм Mn2+ и Fe2+), SO 4 2- (сульфат-зависимое анаэробное окисление СН 4 с образованием СО 2 и HS-(сульфатредукция)) [42; 6 9]. На примере пресных водно-болотных угодий установлено [42], что анаэробное окисление метана может быть ответственно за более чем 50% снижение эмиссии метана в атмосферу.
Вышеописанным объясняется существование в донных отложениях различных водных объектов тесной положительной связи между концентрациями СН 4 и С орг и обратных связей между концентрациями СН 4 и значениями Eh в отложениях и концентрациями СН 4 в верхнем горизонте отложений и растворенного О 2 в придонном слое воды [2; 5; 25]. Также установлены тесные прямые зависимости между концентрациями СН 4 в воде и отложениях и температурой воды [5; 25], разработана математическая модель, связывающая температуру воды и удельный поток метана в атмосферу [22]. Проведено изучение роли минерализации (солености) и ионного состава вод в формировании концентраций метана в водных экосистемах, которое показало, что их влияние не является определяющим [5].
По данным исследований водных объектов различного типа, в том числе водохранилищ, построены регрессионные модели, аппроксимирующие прямолинейные зависимости между концентрациями СН4 и скоростью его метаноокисления в воде и донных отложениях, а также между концентрациями и удельными потоками СН4 на границах раздела «донные отложения – вода» и «вода – атмосфера» [8]. С использованием этих эмпирических формул были рассчитаны элементы баланса метана (суммарная эмиссия из донных отложений в воду и из воды в атмосферу, количество окислившегося метана в воде и отложениях) в Мировом океане, Азовском и Черном морях [4; 8]; выполнена оценка эмиссии метана водными объектами Ростовской области, включая водохранилища [10]. Адекватность полученных зависимостей скорости удельного потока метана в атмосферу от его концентраций в поверхностном слое воды и грунтов (донных отложений, торфа, почв, кека иловых площадок) была подтверждена на примере таких объектов, как реки Дон, Темерник и Мертвый Донец [2], рисовые чеки [11], Иласский, Полистово-Ловатский и Радиловский болотные массивы [23; 24], иловые площадки Ростовской станции аэрации [6] и почвы Ростовской области [12].
Антропогенные факторы формирования концентраций и эмиссионных потоков метана
На формирование концентраций и потоков метана в водных объектах оказывают воздействие антропогенные факторы, среди которых можно особо выделить зарегулирование стока рек и озер, а также сброс с недостаточной степенью или без очистки промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных сточных вод [5; 25].
Зарегулирование стока рек и озер, создание водохранилищ приводит к изменению водного баланса и гидрологического режима, что, в свою очередь, сказывается на направленности естественных биогеохимических процессов и изменении газового режима водных объектов, в том числе, концентраций метана [5; 16; 47]. Резкое падение гидростатического давления на дне при регулируемом сбросе воды и понижении ее уровня в водохранилище способствует увеличению интенсивности выделения пузырьков газа из донных отложений [44; 47]. Определенный вклад в общую эмиссию метана из водохранилищ, связанных с гидроэлектростанциями, может вносить дегазация метана из потока воды, сбрасываемого через плотину в нижний бьеф [16; 47]. Для глубоких водохранилищ с повышенным водообменом количество дегазируемого метана при сбросе вод может составлять до 70% от общей его эмиссии водохранилищем в атмосферу [50].
Сброс сточных вод, с одной стороны, может приводить к непосредственному повышению концентраций метана в природных водах, вследствие сброса обогащенных газом сточных вод, с другой стороны, привносить в водные объекты «антропогенные» вещества, стимулирующие или подавляющие образование метана.
В ходе исследований Шекснинского плёса Рыбинского водохранилища, куда поступают сточные воды Череповецкого металлургического комбината [25], а также участков рек Большая Крепкая и Тузлов (Ростовская область) вблизи прорыва нефтепровода Лисичанск – Тихорецк [2] в донных отложениях выявлены прямолинейные связи между концентрациями метана с одной стороны и нефтяных углеводородов, смолистых компонентов и их суммы, с другой. Связь между СН 4 и органическими веществами фиксируется и косвенно – по приуроченности максимальных концентраций и потоков СН 4 к очагам мощного антропогенного загрязнения в водных объектах [2; 5; 25].
Прямое влияние загрязняющих веществ различного типа на образование и создание зон повышенных концентраций метана было установлено также в ходе модельных мезокосменных экспериментов на природных водных объектах [2; 5; 25]. Показано, что при поступлении в водные объекты загрязняющих органических веществ, в частности, нафталина, хинолина, бифенила, фенола, СПАВ, сточных вод, содержащих значительные количества метанола, наблюдается увеличение концентраций метана. При этом вначале, вследствие окисления поступивших органических соединений, происходит уменьшение концентрации растворённого в воде О2, в результате чего активизируются анаэробные процессы в поверхностном слое ила, в том числе метаногенез. Внесение в воду мезокосмов кадмия в самой токсичной ионной форме и концентрациях, значительно превышающих ПДК (в 50–150 раз) [5], вызвало гибель и существенную перестройку структуры естественного сообщества фито- и зоопланктона, в сторону доминирования видов, толерантных по отношению к загрязнению. Вследствие гибели и деструкции погибшего фито- и зоопланктона произошло снижение концентраций растворенного в воде О2, что активизировало анаэробные процессы в отложениях, как за счет непосредственного разложения остатков погибших организмов, так и изменения Eh среды в сторону благоприятную для деятельности метаногенов. Добавка в мезокосмы минерального азота и фосфора (вместе и врозь) в концентрациях, характерных для сильнозагрязненных вод, привела к снижению концентраций метана в первые двое – четверо суток, после чего отмечался небольшой рост его содержания (более значительный при одновременном внесении азота и фосфора) [25]. Анализ данных экспедиционных исследований также показал [2; 5; 25], что связь концентраций СН4 с соединениями азота и фосфора весьма сложна и не всегда характеризуется высокими коэффициентами корреляции.
Заключение
Представленный в настоящей статье анализ опубликованных данных показывает, что концентрации и удельные потоки СН4 в водохранилищах связаны с влиянием гидрологических и морфологических особенностей (уровня воды и температуры, рельефа дна и глубины), обуславливающих интенсивность продукционно-деструкционных процессов, характер механической миграции органического и минерального вещества и распределение литологических типов донных отложений на разных участках водоема. Значительное воздействие оказывают также ветровая активность и поступление соединений углерода, азота и фосфора с поверхности водосбора (в том числе от антропогенных источников) и/или в результате разложения органического вещества почв и растительности, затопленных при наполнении водохранилища. Изменчивость гидрологических и метеорологических условий, а также режим регулирования водохранилищ обуславливает значительную динамику концентраций СН4 в водной толще и его удельных потоков в атмосферу, что может создавать определенные сложности при оценке годовой суммарной эмиссии данного газа. В целом, при оценке эмиссии СН4 в атмосферу для каждого водохранилища необходимо учитывать своеобразие комбинированного влияния природных и антропогенных факторов и процессов.
Сведения об авторском вкладе
Д.Н. Гарькуша – сбор опубликованных источников, написание статьи.
Ю.А. Фёдоров – сбор опубликованных источников, написание статьи.
А.Е. Косолапов – идея, научное руководство, научное редактирование текста.
Е.В. Усова – написание около 10% текста статьи, научное редактирование текста.
Анпилова Е.Л. – написание около 10% текста статьи, научное редактирование текста.
Contribution of the authors
D.N. Garʹkusha – collection of published sources, writing an article.
Yu.A Fedorov. – collection of published sources, writing an article.
A.E. Kosolapov – idea, scientific guidance, scientific text editing
E.V. Usova – writing about 10% of the text of the article, scientific editing of the text.
E.L. Anpilova – writing about 10% of the text of the article, scientific editing of the text.
Список литературы Анализ факторов формирования концентраций и эмиссионных потоков метана в водохранилищах
- Гарькуша Д.Н., Фёдоров Ю.А. Влияние растений на процессы цикла метана в донных отложениях и ризосфере почв // Сибирский экологический журнал. 2016. № 6. С. 919-934.
- Гарькуша Д.Н., Федоров Ю.А. Метан в устьевой области реки Дон. Ростов-на-Дону – Москва: ЗАО «Ростиздат», 2010. 181 с.
- Гарькуша Д.Н., Федоров Ю.А. Метан и сероводород в донных отложениях водохранилищ и прудов бассейна Азовского моря // Известия Вузов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. 2022. № 3. С. 37-53. https://doi.org/10.18522/1026-2237-2022-3-45-61
- Гарькуша Д.Н., Фёдоров Ю.А. Оценка общего объема, эмиссии и окисления метана в воде и донных отложениях Черного моря // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 12(102). Часть 2. Декабрь. С. 6-13. https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.102.12.035
- Гарькуша Д.Н., Фёдоров Ю.А. Факторы формирования концентраций метана в водных экосистемах. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета. 2021. 366 с.
- Гарькуша Д.Н., Федоров Ю.А., Плигин А.С. Эмиссия метана на основных этапах технологического цикла очистки сточных вод канализации Ростовской станции аэрации (по экспериментальным данным) // Метеорология и гидрология. 2011. № 7. С. 40-48.
- Гарькуша Д.Н., Федоров Ю.А., Сухоруков В.В. Эмиссия метана тростниковой формацией побережья Азовского моря // Вода: химия и экология. 2019. № 3-6. С. 78-85.
- Гарькуша Д.Н., Фёдоров Ю.А., Тамбиева Н.С. Расчет элементов баланса метана в водных экосистемах Азовского моря и Мирового океана на основе эмпирических формул // Метеорология и гидрология. 2016. № 6. С. 48-58.
- Гарькуша Д.Н., Фёдоров Ю.А., Тамбиева Н.С., Андреев Ю.А., Аджиев Р.А. Распределение метана по акватории и глубине озера Байкал // Водные ресурсы. 2023. Т. 50, № 3. С. 308-328.
- Гарькуша Д.Н., Фёдоров Ю.А., Тамбиева Н.С., Крукиер М.Л., Калманович И.В. Оценка эмиссии метана водными объектами Ростовской области // Известия Вузов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. 2015. № 3. С. 83-89.
- Гарькуша Д.Н., Фёдоров Ю.А., Тамбиева Н.С., Мельников Е.В. Эмиссия метана рисовыми полями Ростовской области // Почвоведение. 2023. № 8. С. 889-902.
- Гарькуша Д.Н., Фёдоров Ю.А., Трубник Р.Г., Крукиер М.Л. Концентрация и эмиссия метана в различных типах почв Ростовской области // Вопросы степеведения. 2022. № 4. С. 13-24. https://doi.org/10.24412/2712-8628-2022-4-13-24
- Гречушникова М.Г., Репина И.А., Фролова Н.Л., Агафонова С.А., Ломов В.А., Соколов Д.И., Степаненко В.М., Ефимов В.А., Мольков А.А., Капустин И.А. Содержание и потоки метана в Волжских водохранилищах // Известия РАН. Серия географическая. 2023. T. 87, № 6. С. 899-913.
- Гречушникова М.Г., Школьный Д.И. Оценка эмиссии метана водохранилищами России // Водное хозяйство России. 2019. № 2. С. 58-71. https://doi.org/10.35567/1999-4508-2019-2-5
- Даценко Ю.С. Особенности и различия абиотических компонентов экосистем озер и водохранилищ (обзор) // Российский журнал прикладной экологии. 2022. №1 (29). С. 39-47. https://doi.org/10.24852/2411-7374.2022.1.39.47
- Елистратов В.В., Масликов В.И., Сидоренко Г.И., Молодцов Д.В. Выбросы парниковых газов с водохранилищ ГЭС: анализ опыта исследований и организация проведения экспериментов в России // Альтернативная энергетика и экология. 2014. № 11(151). С. 146-159.
- Заварзин Г.А. Бактерии и состав атмосферы. Москва: Наука, 1984. 199 с.
- Намсараев Б.Б., Самаркин В.А., Нельсон К., Кламп В., Бухгольц Л., Ремсен К., Майер Ч. Микробиологические процессы круговорота углерода и серы в донных осадках озера Мичиган // Микробиология. 1994. Т. 63, № 4. С. 730-839.
- Саввичев А.С., Русанов И.И., Пименов Н.В., Мицкевич И.Н., Байрамов И.Т., Леин А.Ю., Иванов М.В. Микробиологические исследования северной части Баренцева моря в начале зимнего сезона // Микробиология. 2000. Т. 69, № 6. С. 819-830.
- Савенко В.С. Химия водного поверхностного микрослоя. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1990. 184 с.
- Студеникина Е.И., Толоконникова Л.И., Воловик С.П. Микробиологические процессы в Азовском море в условиях антропогенного воздействия. Москва: ФГУП «Нацрыбресурсы», 2002. 188 с.
- Федоров Ю.А., Гарькуша Д.Н., Крукиер М.Л. Температура и ее влияние на эмиссию метана из водных объектов (по результатам экспериментального и математического моделирования) // Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. 2012. № 6. С. 99-101.
- Федоров Ю.А., Гарькуша Д.Н., Хромов М.И. Эмиссия метана с торфяных залежей Иласского болотного массива Архангельской области // Известия Русского географического общества. 2008. Т. 140, Вып. 5. С. 40-48.
- Фёдоров Ю.А., Гарькуша Д.Н., Шипкова Г.В. Эмиссия метана торфяными залежами верховых болот Псковской области // География и природные ресурсы. 2015. № 1. С. 88-97.
- Федоров Ю.А., Тамбиева Н.С., Гарькуша Д.Н., Хорошевская В.О. Метан в водных экосистемах. 2-е изд., пере-раб. и доп. Ростов-на-Дону; Москва, 2007. 330 с.
- Bastviken D., Cole J., Pace M., Tranvik L. Methane emissions from lakes: Dependence of lake characteristics, two regional assessments, and a global estimate // Global Biogeochem. Cycles. 2004. Vol. 18. Is. 4. https://doi.org/10.1029/2004GB002238
- Bastviken D., Cole J., Pace M., Van de Bogert M. Fates of methane from different lake habitats: Connecting whole-lake budgets and CH4 emissions // J. Geophys. Res. 2008. Vol. 113. Is. G2. P. 2024-2037. https://doi.org/10.1029/2007JG000608
- Beaulieu J.J., Balz D.A., Birchfield M.K., Harrison J.A., Nietch C.T., Platz M.C., Squier W.C., Waldo S., Walker J.T., White K.M., Young J.L. Effects of an experimental water-level drawdown on methane emissions from a eutrophic reservoir // Ecosystems. 2018. Vol. 21. P. 657-674. https://doi.org/10.1007/s10021-017-0176-2
- Bernhardt E.S., Blaszczak J.R., Ficken C.D., Fork M.L., Kaiser K.E., Seybold E.C. Control points in ecosystems: Moving beyond the hot spot hot moment concept // Ecosystems. 2017. Vol. 20. P. 665-682. https://doi.org/10.1007/s10021-016-0103-y
- Bhaduri D., Mandal A., Chakraborty K., Chatterjee D., Dey R. Interlinked chemical-biological processes in anoxic waterlogged soil – A review // Indian J. Agric. Sci. 2017. Vol. 87. P. 1587-1599. https://doi.org/10.56093/ijas.v87i12.76483
- Bonetti G., Trevathan-Tackett S.M., Hebert N., Carnell P.E., Macreadie P.I. Microbial community dynamics behind major release of methane in constructed wetlands // Appl. Soil Ecol. 2021. Vol. 167. 104163. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.104163
- Ciais P., Sabine C., Bala G. Bopp L., Brovkin V., Canadell J., Chhabra A., DeFries R., Galloway J., Heimann M., Jones C., Le Quere C., Myneni R.B., Piao S., Thornton P. Carbon and other biogeochemical cycles // Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. MA: Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, 2013. P. 465-570.
- Cicerone R.J., Oremland R.S. Biogeochemical aspects of atmospheric methane // Global Biogeochemical Cycles. 1988. Vol. 2. Р. 299-327.
- Conrad R. Contribution of hydrogen to methane production and control of hydrogen concentrations in methanogenic soils and sediments // FEMS Microbiology Ecology. 1999. Vol. 28, No. 3. Р. 193-202.
- Conrad R. Microbial ecology of methanogens and methanotrophs // Advances in Agronomy. 2007. Vol. 96. Р. 1-63. https://doi.org/10.1016/S0065-2113(07)96005-8
- Deemer B.R., Harrison J.A., Li S., Beaulieu J.J., del Sontro T., Barros N., Bezerra-Neto J.F., Powers S.M., dos Santos M.A., Vonk J.A. Greenhouse gas emissions from reservoir water surfaces: a new global synthesis // BioScience. 2016. Vol. 66 (11). P. 949-964. https://doi.org/10.1093/biosci/biw117
- Desrosiers K., DelSontro T., del Giorgio P.A. Disproportionate contribution of vegetated habitats to the CH4 and CO2 budgets of a boreal lake // Ecosystems. 2022. Vol. 25. Р. 1522-1541. https://doi.org/10.1007/s10021-021-00730-9
- EPA, 2010. Methane and Nitrous Oxide Emissions from Natural Sources. U.S. Environmental Protection Agency Office of Atmospheric Programs, Washington, DC, USA. 2010. 194 р.
- Felix-Faure J., Gaillard J., Descloux S., Chanudet V., Poirel A., Baudoin J.M., Avrillier J.N., Millery A., Dambrine E. Contribution of flooded soils to sediment and nutrient fluxes in a hydropower reservoir (Sarrans, Central France) // Ecosystems. 2019. Vol. 22. Р. 312-330. https://doi.org/10.1007/s10021-018-0274-9
- Froelich P.N., Klinkhammer G.P., Bender M.L., Luedtke G.R., Heath G.R., Cullen D., Dauphin P., Hammond D., Hartman B., Maynard V. Early oxidation of organic matter in pelagic sediments of the eastern equatorial Atlantic: suboxic diagenesis // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1979. Vol. 43. Р. 1075-1090. https://doi.org/10.1016/0016-7037(79)90095-4
- Giles J. Methane quashes green credentials of hydropower // Nature. 2006. Vol. 444. P. 524-525. https://doi.org/10.1038/444524a
- Guerrero-Cruz S., Vaksmaa A., Horn M.A., Niemann H., Pijuan M., Ho A. Methanotrophs: Discoveries, Environmental Relevance, and a Perspective on Current and Future Applications // Front. Microbiol. 2021. Vol. 12. 678057. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.678057
- Guo K., Hakobyan A., Glatter T., Paczia N., Liesack W. Methylocystis sp. Strain SC2 Acclimatizes to Increasing NH4+ Levels by a Precise Rebalancing of Enzymes and Osmolyte Composition // Msystems. 2022. Vol. 7. e00403-22. https://doi.org/10.1128/msystems.00403-22
- Harrison J.A., Deemer B.R., Birchfield M.K., O’Malley M.T. Reservoir water-level drawdowns accelerate and amplify methane emission // Environmental Science Technology. 2017. Vol. 51. Р. 1267-1277. https://doi.org/10.1021/acs.est.6b03185
- Hoj L., Olsen R.A., Torsvik V.L. Effects of temperature on the diversity and community structure of known methanogenic groups and other archaea in high Arctic peat // ISME J. 2008. Vol. 2. Р. 37-48. https://doi.org/10.1038/ismej.2007.84
- IPCC Climate Change 2014. Synthesis Report // Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, Switzerland, 2014. 151 p.
- Jager H.I., Pilla R.M., Hansen C.H., Matson P.G., Iftikhar B., Griffiths N.A. Understanding how reservoir operations influence methane emissions: a conceptual model // Water. 2023. Vol. 15. 4112. https://doi.org/10.3390/w15234112
- Juutinen S. Methane fluxes and their environmental controls in the littoral zone of boreal lakes. PhD Dissertations in Biology. University of Joensuu, 2004. 110 p.
- Kankaala P., Huotari J., Tulonen T., Ojala A. Lake-size dependent physical forcing drives carbon dioxide and methane effluxes from lakes in a boreal landscape // Limnol. Oceanogr. 2013. Vol. 58. Р. 1915-1930. https://doi.org/10.4319/lo.2013.58.6.1915
- Kemenes A., Melack J., Forsberg B. Downstream emissions of CH4 and CO2 from hydroelectric reservoirs (Tucuruí, Samuel, and Curuá-Una) in the Amazon basin // Inland Wat. 2006. Vol. 6. Р. 295-302. https://doi.org/10.1080/IW-6.3.980
- Kettunen A., Kaitala V., Alm J., Silvola J., Nykanen H., Martikainen P.J. Cross-correlation analysis of the dynamics of methane emissions from a boreal peatland // Global Biogeochemical Cycles. 1996. Vol. 10, № 3. P. 457-471. https://doi.org/10.1029/96GB01609
- Lan X., Thoning K.W., Dlugokencky E.J. Trends in globally-averaged CH4, N2O, and SF6 determined from NOAA Global Monitoring Laboratory measurements. Version 2024-04, https://doi.org/10.15138/P8XG-AA10 (дата обращения: 11.04.2024).
- Lima I., Ramos F., Bambace L., Rosa R. Methane emissions from large dams as renewable energy resources: a developing nation perspective // Mitigation Adaptation Strategy Global Change. 2006. Vol. 13. P. 1381-1386. https://doi.org/10.1007/s11027-007-9086-5
- Louis V.L., Kelly C.A., Duchemin E., Rudd J.W.M., Rosenberg D.M. Reservoir surfaces as sources of greenhouse gases to the atmosphere: a global estimate // Bioscience. 2000. Vol. 50. P. 766-775.
- MacDonald I.R., Leifer I., Sassen R., Stine P., Mitchell R., Guinasso N. Transfer of hydrocarbons from natural seeps to the water column and atmosphere // Geofluids. 2002. Vol. 2(2). Р. 95-107. https://doi.org/10.1046/j.1468-8123.2002.00023.x
- Malyan S.K., Singh O., Kumar A., Anand G., Singh R., Singh S., Yu Z., Kumar J., Fagodiya R.K., Kumar A. Greenhouse gases trade-off from ponds: an overview of emission process and their driving factors // Water. 2022. Vol. 14. 970. https://doi.org/10.3390/w14060970
- Michmerhuizen C.M., Striegl R.G., McDonald M.E. Potential methane emission from north-temperate lakes following ice melt // Limnology and Oceanography. 1996. Vol. 41. Р. 985-991.
- Miller B., Arntzen E., Goldman A., Richmond M. Methane ebullition in temperate hydropower reservoirs and implications for US policy on greenhouse gas emissions // Environmental Management. 2017. Vol. 60. Р. 1-15. https://doi.org/10.1007/s00267-017-0909-1
- Reeburg W.S., Whalen S.C., Alperin M.J. The role of methylotrophy in the global methane budget // Microbial growth on C1-compounds. 1993. Р. 1-14.
- Saunois, M., Stavert, A., Poulter, B., Bousquet, P., Canadell, J., Jackson, R., Raymond, P., Dlugokencky, E., Houweling, S., Patra, P., Ciais, P., Arora, V., Bastviken, D., Bergamaschi, P., Blake, D., Brailsford, G., Bruhwiler, L., Carlson, C., Carrol, M., Castaldi1, S., Chandra, N., Crevoisier, C., Crill, P., Covey, K., Curry, C., Etiope, G., Frankenberg, C., Gedney, N., Hegglin, M., Höglund-Isaksson, L., Hugelius,, G., Ishizawa, M., Ito, A., Janssens-Maenhout, G., Jensen, K., Joos, F., Kleinen, T., Krummel, P., Langenfelds, R., Laruelle, G., Liu, L., Machida, T., Maksyutov, S., McDonald, K., McNorton, J., Miller, P., Melton, J., Morino, I., Müller, J., Murguia-Flores, F., Naik, V., Niwa, Y., Noce, S., O’Doherty, S., Parker, R., Peng, C., Peng, S., Peters, G., Prigent, C., Prinn, R., Ramonet, M., Regnier, P., Riley, W., Rosentreter, J., Segers, A., Simpson, I., Shi, H., Smith, S., Steele, P., Thornton, B., Tian, H., Tohjima, Y., Tubiello, F., Tsuruta, A., Viovy, N., Voulgarakis, A., Weber, T., van Weele, M., van der Werf, G., Weiss, R., Worthy, D., Wunch, D., Yin, Y., Yoshida, Y., Zhang, W., Zhang, Z., Zhao, Y., Zheng, B.,Zhu, Q., Zhu, Q. and Zhuang, Q. The Global Methane Budget 2000-2017, Earth System Science Data, 2019. https://doi.org/10.5194/essd-2019-128 (дата обращения: 11.04.2024).
- Schmale O., Greinert J., Rehder G. Methane emission from high-intensity marine gas seeps in the Black Sea into the atmosphere // Geophysical Research Letters. 2005. Vol. 32(7). https://doi.org/10.1029/2004GL021138
- Sebacher D.I., Harriss R.C., Bartlett К.B. Methane emissions to the atmosphere through aquatic plants // Environmental Quality. 1985. Vol. 14. P. 40-46. https://doi.org/10.2134/jeq1985.00472425001400010008x
- Striegl R.G., Michmerhuizen C.M. Hydrological influence on methane and carbon dioxide dynamics at two north-central Minnesota lakes // Limnology and Oceanography. 1998. Vol. 43. Р. 1519-1529.
- Varis O., Kummu M., Härkönen S., Huttunen J.T. Greenhouse gas emissions from reservoirs / In: Impacts of Large Dams: A Global Assessment. Water Resources Development and Management. Berlin, Heidelberg. 2012. P. 69-94.
- Waldo S., Beaulieu J.J., Barnett W., Balz D.A., Vanni M.J., Williamson T., Walker J.T. Temporal trends in methane emissions from a small eutrophic reservoir: The key role of a spring burst // Biogeosciences. 2021. Vol. 18. Р. 5291-5311. https://doi.org/10.5194/bg-18-5291-2021
- Wallenius A.J., Martins Pa.D., Slomp C.P., Jetten M.S.M. Anthropogenic and Environmental Constraints on the Microbial Methane Cycle in Coastal Sediments // Front. Microbiol. 2021. Vol. 12. 631621. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.631621
- Wang H., Wang W., Yin C., Wang Y., Lu J. Littoral zones as the “hotspots” of nitrous oxide (N2O) emission in a hyper-eutrophic lake in China // Atmos. Environ. 2006. Vol. 40. Р. 5522-5527.
- Wu X.L., Chin K.J., Conrad R. Effect of temperature stress on structure and function of the methanogenic archaeal community in a rice field soil // FEMS Microbiol. Ecol. 2002. Vol. 39. Р. 211-218. https://doi.org/10.1111/j.1574-6941.2002.tb00923.x
- Yin X., Jiang C., Xu S., Yu X., Yin X., Wang J., Maihaiti M., Wang C., Zheng X., Zhuang X. Greenhouse gases emissions of constructed wetlands: mechanisms and affecting factors // Water. 2023. Vol. 15. 2871. https://doi.org/10.3390/w15162871