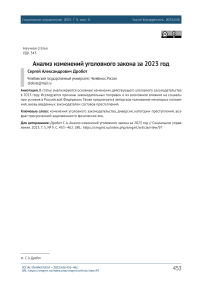Анализ изменений уголовного закона за 2023 год
Автор: Дробот С. А.
Журнал: СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: Т. 5, вып. 9, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются основные изменения действующего уголовного законодательства в 2023 году. Исследуются причины законодательных поправок и их возможное влияние на социальные условия в Российской Федерации. Также предлагается авторское толкование некоторых положений, вновь введенных законодателем составов преступлений.
Изменения уголовного законодательства, диверсия, категории преступлений, возврат просроченной задолженности физических лиц
Короткий адрес: https://sciup.org/14128233
IDR: 14128233 | УДК: 343
Текст статьи Анализ изменений уголовного закона за 2023 год
За период с 1 ноября 2022 года по 30 октября 2023 года было принято значительное количество изменений уголовного закона. Эти изменения следует условно разделить на несколько групп:
-
1) совершенствование уголовного законодательства с целью систематизации правовой системы РФ;
-
2) развитие уголовной политики РФ с целью реализации ранее сложившихся тенденций;
-
3) реагирование на сложившиеся социально-проблемные ситуации;
-
4) усиление уголовно-правового противодействия посягательствам на общественную безопасность, безопасность государства и основы конституционного строя.
Первая группа поправок уголовного законодательства имеет вполне ординарный характер, то есть они отражают текущие процессы, происходящие в социальногосударственной системе РФ. Данные изменения постоянно осуществляются, так как уголовный закон должен приводится в соответствие с изменяющимся законодательством РФ. В качестве обозначенного типа изменений уголовного законодательства следует назвать поправки в редакцию ст. 76.1
УК РФ1, ст. 104.1 УК РФ2 и ст. 53.1 УК РФ3. В данном случае расширяется перечень оснований для освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба (ст. 76.1 УК РФ) и перечень преступлений, в отношении которых применяется конфискация имущества (ст. 104.1 УК РФ). Обозначенные поправки УК РФ связаны с другими изменениями УК РФ. Правка ст. 53.1 УК РФ «Принудительные работы» предполагает использование специализированных терминов из законодательства о пенсионном и иных видах страхования, вместо уголовно-правовых терминов. При этом содержательно норма не изменилась, цель—исключить нестыковки с законодательством об обязательном страховании.
Также следует отметить, что в ст. 92 УК РФ «Освобождение от наказания несовершеннолетних» были исключены ч. 3 и ч. 4 1 . Эти части регламентировали возможность продления содержания несовершеннолетнего в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по просьбе самого несовершеннолетнего. В данном случае законодатель регламентирует данное продление п. 7 ст. 15 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-нолетних»2. В данном случае законодатель исходит из того, что возникают отношения административно-правового характера, а не уголовно-правового. Данное решение представляется оправданным, в связи с тем, что продление содержания в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа для окончания профессионального обучения не следует рассматривать как часть отношений уголовной ответственности. Здесь имеют место отношения скорее образовательно-административного свойства.
Также уточняющий характер имеют новые редакции ст. 189 и 226.1 УК РФ3. В отношении ст. 226.1 УК РФ в качестве предмета контрабанды добавились занесенные в Красную Книгу растения и грибы, а также отдельно уточняется в качестве предмета — оружие массового поражения. В целом принципиально сущность и назначение нормы изменений не претерпело. В ст. 189 УК РФ также уточняются формулировки с целью исключения некорректного толкования признаков состава закрепленного в указанной норме преступления. Так вместо получателя вооружений указывается не иностранная организация, а иностранное лицо, что больше соответствует внешнеторговому законодательству РФ и позволяет рассматривать в качестве получателей вооружений и физических лиц.
Вторая группа изменений уголовного законодательства РФ направлена на достижение ранее декларируемых высшим политическим руководством страны перспективных задач. Указанные законодательные правки отражают последовательную и систематическую работу по приведению социально-правового механизма РФ к состоянию необходимому для дальнейшего развития. Эти изменения имеют долгосрочный характер. К таким правкам уголовного закона следует отнести изменение санкций ст. 199-199.2 УК РФ и ст. 199.4 УК РФ4. В данном случае законодатель уменьшил размер наказания в виде лишения свободы на определенный срок, и, таким образом, преступления, закрепленные в указанных статьях УК РФ, стали относится к категории преступлений средней тяжести. Выведя обозначенные преступления из числа тяжких, законодатель допустил применение всех возможных оснований для освобождения от уголовной ответственности. При этом, очевидно, что к данным преступлениям уместнее всего будет применять положения ст. 76.1 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба». Здесь законодатель демонстрирует желание того, чтобы хозяйствующие субъекты полностью выполняли обязанности налогоплательщиков, желание привлечь кого-либо к уголовной ответственности — не главное. За счет налогов государство получает ресурсы для своей деятельности, а реализация уголовной ответственности через наказание — деятельность затратная, то есть сплошной убыток. Кроме того, предоставление возможности легально и эффективно разрешить свои налоговые проблемы будет способствовать и снижению коррумпированности отношений предпринимателей с сотрудниками государственных служб (ФНС РФ, правоохранительные органы). Будет проще и дешевле решить проблему легально, чем использовать коррупционные связи.
В отношении преступлений в сфере экономической деятельности и раньше законодатель демонстрировал некий либерализм, направленный на защиту сферы коммерческой деятельности от деструктивного государственного влияния. В данном случае высшее политическое руководство страны демонстрирует понимание особенностей организации рыночной экономики и важность сектора экономики для стабильности политического режима и развития государства. Экономический базис определяет существование государственной надстройки [1].
Важно отметить, что тенденция желания «заработать» на сфере экономической деятельности проявляется и в отношении введения ч. 1.1 ст. 171.3 УК РФ1. В прежней редакции ст. 171.3 УК РФ в качестве предмета незаконного экономического оборота предусматривала алкогольную и иную спиртосодержащую продукцию. С учетом того, что ст. 171.3 УК РФ закреплена в главе 22 УК РФ, то общественная опасность описанного в ней преступления видится в отсутствии контроля за оборотом экономически ценного ресурса. Контроль за рынком алкоголя представляет для государства очевидный интерес с точки зрения пополнения бюджета (налоги, акцизы, лицензионные сборы и т. д.). Теперь действующая редакция указанной статьи дополняется еще одним экономически ценным ресурсом в качестве предмета преступления: табачная продукция, никотинсодержащая продукция и сырьё для их производства. Как представляется, государство устраняет ранее допущенное упущение, когда «забыли» установить специальную уголовную ответственность за незаконный оборот табачной продукции (как это было сделано для алкогольной продукции).
Ко второй группе изменений уголовного законодательства также представляется правильным отнести введение новой ст. 260.1 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Фе-дерации»2. В данной норме законодатель предусмотрел ответственность за причинение вреда экологически ценным растениям и грибам. В данном случае следует отметить, что эта норма является продолжением идеи, реализованной через ст. 258.1 УК РФ, которая предусмотрела причинение вреда экологически ценным животным и птицам. В результате появления ст. 260.1 УК РФ уголовно-правовая защита интересов экологии в сфере сохранения находящихся на грани исчезновения живых существ приобретает комплексный и системный характер. Свои намерения ввести соответствующую норму публичная власть РФ ранее уже озвучивала [2], соответственно появление ст. 260.1 УК РФ не может рассматриваться как неожиданность. Такой подход к организации уголовно-правовой защиты со стороны государства можно только приветствовать, хотя и появление указанной нормы сопровождалось критикой [3]. Оценивая ситуацию, можно с уверенностью утверждать, что появление ст. 260.1 УК РФ было правовой необходимостью. Все критические замечания, как представляется, связаны не с наличием уголовно-правого запрета, например, на сбор некоторых грибов, а с опасением того, как этот запрет будет выполняться правоохранительными органами. Подобные страхи к уголовно-правовой норме отношения не имеют и в целом в данном случае не оправданны.
К третьей группе изменений уголовного законодательства следует отнести попытки законодателя разрешить те проблемные для общества ситуации, которые назревали постепенно. Соответственно уголовно-правовое реагирование на социальный запрос — есть следствие уже давно развивающихся общественных процессов. К таким поправкам уголовного закона следует отнести появление новой нормы — ст. 172.4 УК РФ «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Указанные положения уголовного закона являются реакцией на, так называемую, коллекторскую деятельность. Данный вид деятельности в целом понимается как вид предпринимательской деятельности, осуществляемый негосударственными организациями, занимающимися взысканием просроченной задолженности. Часто такая деятельность сопровождалась жестким воздействием на должников, а иногда и откровенно криминальными проявлениями. Некоторые «коллекторы» не гнушались использовать методы в стиле «утюга и паяльника» [4]. Всё это не могло не сформировать некую тревожную для граждан среду, появился страх о возвращении отношений из подзабытых 90-х. Возникли требования о запрете любой коллекторской деятельности.
Однако данный запрет не был введен по совершенно объективным причинам — в России огромная задолженность по долгам [5]. Кто имеет отношение в сфере взыскание задолженности, тот понимает, что выиграть судебный процесс гораздо проще, чем взыскать назначенные судом выплаты. ФССП России является единственной организацией уполномоченной государством принудительно взыскивать, признанные судом долги. В результате и суды, и судебные приставы-исполнители «захлебываются» перед огромным количеством исков по взысканию задолженностей. Поэтому государство предпринимает усилия для поиска альтернативных путей разрешения долговых споров, желательно без привлечения ресурсов государства. Одним из таких способов — это деятельность коллекторских структур. Поэтому было принято решение: с одной стороны навести порядок в сфере коллекторской деятельности, с другой — максимально поощрить этот вид деятельности. В результате появился специальный закон регулирующий порядок взыскания долгов с физических лиц1. Но кто может гарантировать что все желающие зарабатывать на коллекторской деятельности будут надлежащим образом выполнять данный закон? Такой гарантии нет, соответственно и понадобилась уголовно-правовая норма подкрепляющая желание уважать данный закон.
Не оспаривая важность и нужность ст. 172.4 УК РФ следует заметить, что она очевидно конкурирует со ст. 330 УК РФ «Самоуправство». Исходя из того, что видовым объектом состава преступления, закрепленного в ст. 172.4 УК РФ выступают интересы экономического характера, то субъектом данного преступления должен выступать тот, кто профессионально занимается взысканием долгов, то есть само физическое лицо — первичный кредитор им не является. Он субъект самоуправства. В целом надо понимать, что состав, описанный в ст. 172.4 УК РФ, предполагает выход за пределы прав и возможностей коллектора. В целом, оценивая введенную законодателем норму уголовного закона, следует сказать, что она необходима, но при этом она содержит больше вопросов, чем ответов. Например, субъектом какого состава будет считаться лицо, взыскивающее долг по выкупленному и просроченному векселю физического лица? Кто запрещает зарабатывать на скупке вексельных обязательств как физическое лицо? Полагаю, что многие ответы даст нам складывающаяся практика, но она заведомо будет не простой. Норма сформулирована законодателем слишком обобщенно и недостаточно конкретно, здесь явная не качественная работа законодателя.
Другой новой нормой интересной с точки зрения третьей группы законодательных поправок выступает ст. 234.2 УК РФ «Незаконный оборот метилового спирта (метанола), метанолсодержащих жидко-стей»1. Данная норма закреплена в главе 25 УК РФ о по мысли законодателя должна предусматривать посягательство на здоровье население. Здесь наблюдается попытка уголовно-правовыми средствами противодействовать массовым отравлениям людей веществами, употребляемыми в качестве алкоголя [6]. За последние 10 лет наблюдалось периодическое массовое отравление суррогатным алкоголем, поэтому появление соответствующей нормы стало естественной реакцией на это. При этом следует отметить, что и ранее действовавших уголовно-правовых механизмов было вполне достаточно (ст. 234 УК РФ, ст. 238 УК РФ и т. п.), проблемы в контроле за рынком алкоголя и последовательном применении соответствующих юридических средств. Появление специальной нормы против метанола само по себе вряд ли коренным образом устранит проблему.
Интересным изменением уголовного закона видится отказ от п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ «совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел»2. Указанное обстоятельство, отягчающее наказание, появилось в 2010 году как средство противодействия использованию своих служебных возможностей сотрудниками полиции и другими сотрудниками органов внутренних дел для совершения преступлений. Вроде бы благое начинание, но которое изначально было спорно как с юридической точки зрения, так и с точки зрения здравого смысла.
Преступление, совершенное должностным лицом, а тем более сотрудником правоохранительного органа, обладает повышенной общественной опасностью. В данном случае подрывается доверие к государству, его способности выполнять свои функции, порождается чувство беззащитности — всё это следствие участия правоохранителей в преступной деятельности. Однако из этого не следует, что есть разница в том, сотрудник какого правоохранительного ведомства совершил преступление. Разве преступление, совершенное полицейским, опаснее аналогичного преступления, совершенного сотрудником прокуратуры или органов ФСБ России? Очевидно, что опасность одинаковая. Но тогда зачем особо выделять сотрудников органов внутренних дел? То, что они больше контактируют с населением и то, что их больше числом, чем сотрудников других ведомств? Так это вообще не аргумент. В целом появление п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ причинило больше вреда, чем повлекло пользы. Конституция РФ гарантирует равенство в правах и обязанностях, но с точки зрения уголовной ответственности сотрудники полиции оказались больше обязанными в сравнении с другими правоохранителями. Кроме того, сама данная норма выглядела как публичная стигматизация всего МВД России и всех сотрудников органов внутренних дел, им нет доверия, они склонны к преступлениям. «Ату их!». Что это как не общественный остракизм по служебно-профессиональной деятельности. О каком уважении к полиции в целом и конкретным сотрудникам со стороны населения может идти речь при таком подходе? И последнее. А в чем эффективность обозначенной нормы? Где польза в том, что сотрудников полиции будут привлекать к уголовной ответственности используя п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ, а сотрудников других ведомств применяя п. «м» ч. 1 ст. 63 УК РФ?
Всё сказанное, указывает на изначальную ошибочность введения в уголовный закон положений, изложенных в п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ, поэтому их изъятие из уголовного закона необходимое и разумное законодательное действие. Жалко только, что это не сделано было ранее.
К четвертой группе изменений уголовного закона следует отнести поправки, вызванные особыми политическими условиями, в которых находится Российская Федерация в связи с проведением Специальной военной операции и другими важными решениями международного характера. Данные особые условия вызваны резким обострением внешнеполитической ситуации, попыткой группы стран организовать торгово-экономическое эмбарго России, провокацией внутреннего социального конфликта в стране и многое иное, то, что происходит сейчас и, что называется, «на наших глазах». Российская Федерация вынуждена реагировать различными мерами, в том числе, и уголовно-правового характера. Многие такие меры были достаточно быстрыми и из-за этого пострадало законотворческое качество принимаемых норм. Такая ситуация имеет вынужденный характер, поэтому необходимо уточнять некоторые формулировки в недавно принятых нормах. Так, в ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах» в ч. 1 вводится административная преюдиция и вводится новая терминология, соответствующая законодательству об иностранных агентах1. В целом действие уголовно-правового запрета сохраняется, но с учетом преюдиции очевидно смягчается. Кроме того, обращает на себя внимание, изменение редакции ст. 207.3 и 280.3 УК РФ2. Данные нормы были прямо порождены событиями Специальной военной операции и справедливо критиковались за то, что охватывают своим защитным действием не всех лиц участвующих в боевых действиях от имени и в интересах России. Законодатель вносит старается оперативно реагировать на такие замечания, и в настоящем случае, отнес к объектам уголовно-правовой защиты добровольческие формирования, организации или лица, содействующие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. Так нормы становятся более комплексными и актуальными с учетом всех современных событий, связанных с защитой интересов страны с помощью вооруженной силы.
Также к четвертой группе законодательных поправок необходимо отнести введение новых норм, направленных на защиту безопасности России. Так появилась ст. 284.3 УК РФ «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов»3. Эта норма запрещает любое сотрудничество с деятельностью, так называемых, международных организаций, когда на территории России данный статус за этими структурами не признается. Последней причиной потребовавших введение указанной нормы являются решения, так называемого, Международного уголовного суда относительно высших должностных лиц и общественных деятелей России. При этом конфликт с МУС это не единственная подобная ситуация. Ранее в хозяйственную деятельность компаний РФ пыталась вмешиваться «Гринпис», которая позиционирует себя как международная экологическая организация [7]. В целом попытки оказывать влияние на Россию со стороны неких зарубежных НКО предпринимались ранее, и уровень их деструктивной деятельности стал слишком опасен. Кто-то, неверно понимая статус международно-правовых норм, полагает их более важными, чем внутреннее национальное законодательство РФ. Такой подход ошибочен как с юридической, так гражданской точек зрения. Поэтому каждый гражданин РФ или иное лицо, проживающее на территории РФ, должно с полной очевидностью понимать, что Россия самостоятельный и полноценный суверен, и во внешнем управлении не нуждается. Об этом же говорит и введение ст. 330.3 УК РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной некоммерческой неправительственной организации, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций или которая не имеет зарегистрированного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, структурного подразделения — отделения»1. Квалификационной особенностью вновь введенных составов является, то, что они исключают признаки государственной измены (ст. 275 УК РФ) шпионажа (ст. 276 УК РФ). В данном случае, очевидно, что одним из назначений вновь введенных указанных норм — описать недопустимую для интересов страны деятельность, которая по каким-то причинам нельзя квалифицировать как прямое предательство и вражескую деятельность.
Определенный интерес вызывает введение в уголовный закон также новых норм, предусмотренных ст. 281.1–281.3 УК РФ, посвященных ответственности за диверсионную деятельность2. Появление этих норм предполагает наличие двух моментов:
-
1) развитие уголовного законодательства о диверсии подразумевает восприятие этого преступления как крайне опасного и очень актуального для правоприменительной практики;
-
2) законодатель рассматривает диверсию как некий аналог террористического акта и именно поэтому конструирует ответственность по правилам ответственности за это преступление.
Первый из указанных моментов — это печальная констатация факта, спецслужбы Украины развернули против России полноценную диверсионно-террористическую войну, сопровождающуюся гибелью известных общественно-политических деятелей и повреждением инфраструктурных и промышленных объектов. Со всей очевидностью ясно, что лица, принимавшие политические решения, отдававшие приказы и их исполнявшие, по поводу такой деятельности будут привлечены к уголовной ответственности и «награда найдет своего героя».
Второй момент представляется оправданным, так как содержательного принципиального различия между террористическим актом и диверсией нет, разница только в целях преступной деятельности. Поэтому введение новых норм выглядит логично.
В качестве общего итога следует обозначить, то, что законотворческая деятельность — это своеобразный технологический процесс, так сказать правовой «конвейер». Поэтому требуется не только учитывать нюансы общественной жизни, политическую обстановку и другие моменты, но и качестве готовить законопроекты, которые надлежащим образом решать поставленные задачи, но и отвечать требованиям юридической техники. Быстрота и торопливость всегда вредят качеству законотворчества.
кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2022 № 586-ФЗ / / Собрание законодательства РФ. 2023. № 1 (часть I). Ст. 33.