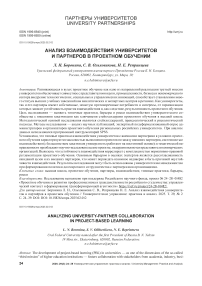Анализ взаимодействия университетов и партнёров в проектном обучении
Автор: Боронина Л.Н., Ольховикова С.В., Репринцева Н.Е.
Журнал: Университетское управление: практика и анализ @umj-ru
Рубрика: Партнеры университетов
Статья в выпуске: 2 т.29, 2025 года.
Бесплатный доступ
Развивающееся в вузах проектное обучение как одно из направлений реализации третьей миссии университетов обеспечивает совместное с представителями науки, промышленности, бизнеса и некоммерческого сектора внедрение технологических, социальных и управленческих инноваций, способствует становлению нового статуса высших учебных заведений как аналитических и экспертных центров в регионах. Как университеты, так и его партнеры имеют собственные, зачастую противоречивые потребности и интересы, от гармонизации которых зависит устойчивость практик взаимодействия и, как следствие, результативность проектного обучения. Цель исследования — выявить типичные практики, барьеры и риски взаимодействия университетского сообщества с внешними заказчиками как ключевыми стейкхолдерами проектного обучения в высшей школе. Методологической основой исследования являются стейкхолдерский, праксеологический и рискологический подходы. Методы исследования — анализ научных публикаций, экспертный полуформализованный опрос администраторов и организаторов проектного обучения региональных российских университетов. При анализе данных использовался программный инструментарий SPSS. Установлено, что типовые практики взаимодействия университетов с внешними партнерами в условиях проектного обучения характеризуются массовостью выполнения проектов по заказу внешних партнеров, системностью взаимодействия (с большинством заказчиков университеты работают на постоянной основе); в тематической направленности преобладают научно-исследовательские проекты; лидерами являются представители коммерческих организаций. Выявлено, что устойчивость взаимодействия коррелирует с комплексностью нормативно-правовой регламентации проектного обучения. Основным барьером в оценках экспертов является рассогласованность ожиданий вузов и их внешних партнеров, что может порождать взаимное недоверие и быть причиной неустойчивости взаимодействия. Результаты исследования могут быть использованы университетским менеджментом при формировании политики долгосрочного сотрудничества с партнерскими организациями.
Высшая школа, проектное обучение, партнеры, взаимодействие, типовые практики, барьеры, риски
Короткий адрес: https://sciup.org/142245526
IDR: 142245526 | DOI: 10.15826/umpa.2025.02.012
Текст научной статьи Анализ взаимодействия университетов и партнёров в проектном обучении
ISSN 1999-6640 (print)
Стратегия реализации проектного обучения в вузах. Согласно статическим данным, численность студентов высших учебных заведений за период с 2000 по 2023 гг. возросла в 1,3 раза — почти на 1 млн человек [1]. Тенденция увеличения численного состава обучающихся приведет к масштабированию проектного обучения и усложнению социальных связей с внешними партнерами. В государственной программе «Приоритет-2030» проектное обучение должно сыграть решающую роль в повышении научно-технологического потенциала вузов, создании «новых технологий, отраслей и конкурентоспособных продуктов и сокращения срока внедрения инноваций в экономику страны»1. В этом контексте проектное обучение как один из перспективных образовательных форматов практико-ориентированного образования должно решать сложносовместимые задачи. С одной стороны, проектное обучение как образовательная технология направлено на развитие образовательного, творческого, научного потенциа- ла студентов. С другой — проектная деятельность должна быть интегрирована в решение реальных производственных и социальных проблем региональной экономики, развивая профессиональные и личностные компетенции студентов. Эта дилемма породила дискуссию в университетском сообществе, предметом которой стало обсуждение стратегической развилки в целевом предназначении проектного обучения и его результатах — образовательном и/или продуктовом [2]. Сторонники образовательного результата поддерживают традиционную и комфортную себя для себя парадигму профессиональной подготовки кадров исключительно в условиях вуза. Направленность проектного обучения не только на образовательный, но и на продуктовый результат предполагает формирование и развитие инновационных и мягких форм организационного взаимодействия между академической средой, промышленностью и прикладной наукой. Формирование устойчивых практик с внешними партнерами и их институционализация в российских университетах рассматриваются как актуальная задача университетского менеджмента, в социальном управлении — как триггер социальных изменений.
Международные исследования взаимодействия университетов и внешних партнеров. В зарубежных исследованиях взаимодействие университетов с внешними партнёрами (UniversityIndustry Collaboration, UIC) рассматривается чаще всего на концептуальном уровне. Разрабатываются динамичные модели успешного сотрудничества университетов и индустрии [3] с учетом страновой специфики [4], выявляются как институциональные факторы взаимодействия (ресурсные, организационные, адаптационные, коммуникативные, культурные), так и факторы его результативности (стратегические, целевые, мотивационные) [5]. В качестве перспектив теоретических исследований авторы выделяют рискологический подход, в рамках которого осуществляется типология барьеров и рисков формирования и развития UIC [6].
Особенности управления партнерством в условиях проектного обучения (Project-Based Learning, PBL ) исследуются, как правило, на эмпирическом уровне [7]. Валидация концептуальных моделей осуществляется с применением методов контент-анализа документов студенческих проектов и опросов студентов, преподавателей и представителей индустрии [8]. Применяя социологические инструменты оценивания качества и эффективности взаимодействия в процессе PBL, исследователи ссылаются на ограничения и сложности проведения эмпирических исследований в реальном времени [9].
Российские кейсы и ограничения текущих подходов. Отечественные исследователи практик взаимодействия университетов и внешних партнеров апеллируют к стейкхолдерскому подходу, рассматривая его в рамках реализации «третьей миссии» университетов [10]. Взаимодействие в условиях проектного обучения превращает университеты в хабы социальных и технологических изменений. Это не только усиливает практическую подготовку студентов, но и делает академические институты ключевыми игроками в решении глобальных вызовов. Такой подход характерен, в первую очередь, для инженерного образования [11]. Отвечая на современные технологические вызовы, инженерная подготовка студентов существенно расширяет формы сотрудничества с индустриальными партнерами. Наряду с выполнением совместных проектов на основе реальных производственных кейсов, проектная деятельность студентов реализуется в индустриальных консорциумах и исследовательских лабораториях, проектных конкурсах и хакатонах, дипломах в статусе стартапов. Такие формы сотрудничества, как правило, формализованы, поддерживаются и/или совместно реализуется с крупными авторитетными организациями [11–12]. Накопленный в инженерном образовании опыт проектно-ориентированного взаимодействия с индустриальными партнерами в рамках образовательного процесса концептуализируется в модели «экосистема проектной деятельности университета в интересах ключевых стейкхолдеров региона» [13]. Особенности экосистемы — ее многосторонность, многоуровневость, устойчивость взаимодействия университетов с индустриальными партнерами. Аналогичный подход формируется в рамках реализации федеральной программы «Обучение служением» в сфере межсекторного социального партнерства, в рамках которого студенты выполняют локальные социально значимые проекты [14].
Независимо от отраслевой специфики описаний практик взаимодействия [15], отечественные исследователи, следуя стейкхолдерскому подходу, подчеркивают, что сотрудничество университетов с организациями-партнерами должно быть взаимовыгодным и иметь преимущества для всех его участников [16]. Для студентов это приобретение практических навыков, доступ к профессиональным сообществам, повышение шансов на трудоустройство; для университетов — укрепление репутации, привлечение финансирования, выполнение третьей миссии через социальный вклад; для партнёров — доступ к инновационным идеям, снижение затрат на научно-исследовательские разработки, улучшение корпоративной социальной ответственности; для общества — решение локальных и глобальных проблем.
Изучение опыта построения взаимовыгодного сотрудничества университетов с организациями-партнерами сопровождается идентификаций определённого круга проблем: коммуникативных (отсутствие взаимного понимания специфики деятельности партнёра и его интересов, доверия сторон); мотивационных (личная незаинтересованность отдельных участников проекта); организационных (нерегулярность встреч с заказчиками проектов, отсутствие систематичности контроля с их стороны) [17].
Помимо проблем в научном дискурсе выделяются и негативные факторы, препятствующие взаимодействию университетов с бизнес-структура-ми и определяемые исследователями как барьеры взаимодействия. К ним относятся: «сомнительная рентабельность совместных проектов; ориентация коммерческих структур на краткосрочный результат; процесс инвестирования воспринимается как изначально высокорискованный; отсутствие четких запросов на комплекс определенных навыков и компетенций, низкий уровень развития нормативно-правовой базы в сфере интеллектуальной собственности, наличие жестких стандартов в сфере образования» [18]. Руководство вузов волнует рассогласование ожиданий партнеров проектного обучения относительно приобретаемых студентами необходимых компетенций: вузы готовят специалистов с широким набором компетенций, в то время как работодатели заинтересованы в узкой отраслевой специализации, что является «в условиях стандартной вузовской подготовки весьма затруднительным» [19]. Авторы отмечают, что возникающие проблемы и барьеры во взаимодействии университетов с внешними партнерами требуют гармонизации интересов, а также более широких и гибких форматов взаимодействия стейкхолдеров.
Несмотря на активизацию интереса академического сообщества к данной проблематике, анализ описываемых практик взаимодействия проводится на выборочных, конкретных кейсах [20]. Попытки российских исследователей применить новые методологии заканчиваются в лучшем случае описанием методик без их апробации на прикладном уровне [21] .
Аналогичным образом применяется пока не очень востребованный рискологический подход, направленный на выявление основных барьеров в построении новых моделей отношений с университетскими партнерами. Однако в реальности применение подхода либо является декларацией, призывом к исследовательскому сообществу, либо рассматривается исключительно на теоретическом уровне [22], либо изучаются только частные случаи партнерства [23].
Интересной версией рискологического подхода является изучение рискологической компетентности субъектов проектной деятельности в вузе. Но в качестве субъектов выбираются только студенты, изучающие основы проектной деятельности, составной частью которой является управление рисками [24]. Подобный педагогический подход ограничивает возможности рискологического подхода, не позволяя экстраполировать его на субъекты управления проектным обучением.
Отсутствие комплексных исследований на широкой выборочной совокупности университетов разного типа с применением возможностей разных методологий к изучению практик партнерства является исследовательской проблемой, решение которой отражает научную новизну данного исследования. Цель исследования — выявить типовые практики, барьеры и риски взаимодействия с внешними заказчиками как ключевыми стейкхолдерами проектного обучения в высшей школе. Основной исследовательский вопрос — какие практики, барьеры и сопряжённые с ними риски возникают во взаимодействии университетов с внешними партнёрами в рамках проектного обучения, и как они зависят от организационно-управленческого контекста вузов?
Методология и методы исследования
При разработке методологии исследования использовались три взаимосвязанных и взаимодополняющих подхода — стейкхолдерский, праксеоло-гический и рискологический.
В основе стейкхолдерского подхода лежит теория заинтересованных сторон Р. Э. Фримена [25]. Ключевая идея подхода — гармонизация множественности интересов. В проектном обучении эта множественность проявляется в ролевой структуре: студенты, выполняющие проект; преподаватели, исполняющие роль кураторов / наставников проектов; руководители образовательных программ, являющиеся непосредственными организаторами проектного обучения; организаторы проектного обучения на уровне вуза и отдельных его подразделений, обеспечивающие всю необходимую инфраструктуру (нормативно-правовую и организационную базу, информационное сопровождение взаимодействия всех участников через создание цифровых сервисов); представители организаций-партнеров, являющиеся заказчиками проектов, менторами и экспертами.
Идентификация интересов всех участников взаимодействия в рамках их ролевой структуры возможна в плоскости интеграции стейкхолдерско-го и праксеологического подходов. Праксеология — это методологическая концепция, возникшая в рамках австрийской экономической школы и изучающая общие принципы целенаправленной человеческой деятельности, её структуру и эффективность. Основной фокус делается на анализе действий как осознанных, рациональных процессов, направленных на достижение целей. Центральная идея заключается в том, что человек действует целенаправленно, выбирая средства для достижения целей в условиях ограниченных ресурсов [26].
В социологии пракселогический подход применятся в изучении социальных взаимодействий как результата индивидуальных действий, но приобретает новый категориальный вид в лице социальных практик. Категория «практика» в социологии — это ключевое понятие, которое акцентирует внимание на повседневных рутинных действиях людей, формирующих социальные структуры и воспроизводящих культуру. Так, П. Бурдьё рассматривал практики как результат взаимодействия габитуса (системы устойчивых диспозиций), поля
(социального пространства) и капиталов (ресурсов) [27]. Ключевая идея Э. Гидденса — дуальность структуры, согласно которой структуры ограничивают действия, но и создаются через них [28]. Т. Шатцки рассматривал социальные практики как «связки действий», которые объединяются в устойчивые паттерны [29].
Реализация методологических установок прак-сеологического подхода в нашем исследовании позволяет: а) исследовать практики взаимодействия университетов с внешними партнерами в системе целеполагания этих практик; б) оценить влияние организационно-управленского контекста проектного обучения на формирование типовых практик взаимодействия в вузах.
Стейкхолдерский и праксеологический подходы, представляя собой две методологические конструкции, направленные на анализ и оценку взаимодействия субъектов, имеют разные целевые установки и инструменты. Праксеология исследует субъективные цели действующих лиц, стейк-холдерский подход — интересы всех заинтересованных сторон. Оба подхода стремятся оптимизировать управление процессом взаимодействия с заинтересованными сторонами. Но праксеоло-гия, ориентированная на понимание мотивации и логики индивидуальных действий и их последствий, осуществляет это при помощи рационального выбора, диалектики целей и средств; стейк-холдерский подход, направленный на максимизацию ценности взаимодействия для всех партнеров, — через нахождение баланса интересов.
Существуют и другие различия, связанные с анализом субстанциональных характеристик участников взаимодействия. В праксеологии участниками взаимодействия являются актор и субъект. Актор — это любой действующий элемент системы. Субъект — это активный участник, обладающий способностью к целенаправленной деятельности, обладающий правом принятия решения. Появление третьего участника взаимодействия — стейкхолдера — заслуга проектного менеджмента. В логике праксеологического подхода его можно трактовать как разновидность актора, чьи действия мотивированы конкретным интересом. Если для субъекта характерна активная роль и ответственность, то для стейкхолдера как носителя ресурсов — исключительно зависимость интересов от результата деятельности.
Экстраполяция субстанциональных характеристик на всех участников взаимодействия в проектном обучении позволяет преодолеть ограниченность стейкхолдерского подхода. Так, в проектном обучении все участники являются акторами.
Студенты и преподаватели могут быть субъектами в своих ролевых позициях при определенных мотивационных условиях. Основным субъектом является университетский менеджмент в его разноуровневых ипостасях — это лица, принимающие решения в организации проектного обучения. Внешние партнеры, определяемые как стейкхолдеры, не обладают всей полнотой полномочий в сравнении с организаторами проектного обучения, их субъектность ограничена самой сущностью стейкхолдерского подхода, что может сказываться на согласовании интересов университетов и внешних партнеров и, как следствие, продуцировать риски взаимодействия.
Терминология рискориентированного похода применяется исследователями в оценке эффективности управленческих процессов в широком смысловом поле. Поэтому предварительно внесем терминологическую ясность в отношении парных, но неоднозначных понятий «проблема и барьеры», «барьеры и риски». Нередко эти термины воспринимаются как тождественные понятия. Между тем эвристическая функция этих теоретических конструктов различна. Любая проблема — некоторое противоречие, которое нужно устранить в исследуемой предметной области. Барьеры отражают препятствия в процессе достижения целей. В логике причинно-следственных связей рискологической парадигмы риски — это негативные последствия и эффекты, возникающие вследствие отсутствия управляющих воздействий по преодолению барьеров. Использование данной логики в процессе идентификации барьеров и рисков взаимодействия университета с внешними партнерами дает новые интерпретационные возможности для исследования.
Эмпирическое исследование выполнялось с применением метода экспертного полуформали-зованного опроса администраторов и организаторов проектного обучения региональных российских университетов (выборка целевая, не менее 60 экспертов). В опросе участвовало 65 экспертов из 49 высших учебных заведений РФ, занимающих разные должностные позиции в проектном обучении (5 проректоров вузов, 10 руководителей институтов, структурных подразделений разного профиля, 20 руководителей и зам. руководителей специализированных подразделений по проектному обучению) в различных типах университетов (7 федеральных, 9 национально-исследовательских, 6 опорных, 4 ведомственных и 23 учреждения высшего образования, относящихся к категории «иные»). При анализе данных использовался программный инструментарий SPSS.
Результаты исследования
Исследование типовых практик взаимодействия университетов с внешними партнерами осуществлялось по разным направлениям оценивания: массовость и содержание типовых практик;
Таблица 1
Исследовательские инструменты выявления типовых практик взаимодействия университетов с внешними партнерами в оценках экспертов
система их целеполагания; организационные ус ловия взаимодействия; устойчивость взаимодей ствия. Каждое направление в дедуктивной логи ке операционализировалось по критериям, пока зателям и индикаторам (Табл. 1).
Methodological tools for assessing standard practices of universityexternal partner collaboration in the assessment of experts
Table 1
|
Характеристики типовых практик |
Критерии |
Показатели |
Расчетные индикаторы |
|
Массовость, организационная принадлежность внешних партнеров и содержание типовых практик |
Распространенность проектов по заказу внешних партнеров |
Степень распространенности проектов, выполняемых по заказу внешних партнеров |
Удельный вес проектов по заказу партнеров в оценках экспертов |
|
Организационная принадлежность партнеров |
Представительство разных типов организаций |
Ранговое распределение оценок экспертов |
|
|
Содержание типовых практик |
Тематика проектов и их отраслевая направленность |
Удельный вес экспертных оценок по направленности проектов |
|
|
Система целеполагания в типовых практиках взаимодействия |
Альтернативность стратегических приоритетов |
Направленность проектов на образовательный и/или продуктовый результат |
Распределение оценок респондентов по альтернативным вариантам ответов |
|
Масштаб проектного обучения (на всех направлениях и уровнях образовательной подготовки) или избирательность (на отдельных направлениях подготовки) |
|||
|
Направленность проектного обучения — на студентов или широкую целевую аудиторию |
|||
|
Организационные условия |
Регламентирование взаимодействия нормативноправовой базой |
Наличие университетского положения о проектном обучении |
Индексы развития инфраструктуры организации проектного обучения по видам ресурсного обеспечения |
|
Наличие положений о проектном обучении в департаментах |
|||
|
Наличие методических рекомендаций по реализации проектного обучения |
|||
|
Наличие методических рекомендаций по проектному обучению для студентов |
|||
|
Наличие инструкции для кураторов |
|||
|
Организационный дизайн |
Наличие университетского проектного офиса |
||
|
Наличие проектных департаментов на уровне структурных подразделений |
|||
|
Организация проектного обучения на уровне кафедр, образовательных программ |
Окончание табл. 1
Table 1 finishes
|
Характеристики типовых практик |
Критерии |
Показатели |
Расчетные индикаторы |
|
Информационное обеспечение взаимодействия |
Наличие университетских цифровых платформ |
||
|
Наличие цифровой платформы в подразделениях |
|||
|
Наличие IT-сервиса для взаимодействия проектных команд |
|||
|
Наличие IT-ресурса для обучения кураторов |
|||
|
Наличие IT-сервиса взаимодействия с работодателями |
|||
|
Устойчивость взаимодействия |
Частота коммуникаций |
Взаимодействие носит системный или случайный, разовый характер |
Частота коммуникаций измерялась распределением ответов на альтернативные варианты ответа: «взаимодействие чаще носит случайный, разовый характер» или «системный, работаем с большинством заказчиков на постоянной основе» |
|
Глубина коммуникаций |
Влияние целевых приоритетов на устойчивость взаимодействия |
Значимость влияния по критерию U Манна-Уитни для независимых выборок |
|
|
Взаимовлияние ресурсного обеспечения и системности организации проектного обучения |
Двусторонняя связь на основе расчета коэффициента Спирмана |
||
|
Эффективность управленческих процессов |
Оперативное взаимодействие с работодателями для выявления их запросов и оформления заявок на проекты |
Средний балл по каждому показателю; сводный индекс эффективности управленческих процессов |
|
|
Оперативное взаимодействие сотрудников внутренних подразделений университета по вопросам организации проектного обучения |
|||
|
Организация встреч обучающихся с внешними заказчиками и другими внутренними субъектами |
|||
|
Внутренний мониторинг эффективности реализации проектов |
|||
|
Организация обратной связи от внешних экспертов, заказчиков проектов |
Массовость, организационная принадлежность внешних партнеров и содержание типовых практик. Стартовой позицией в изучении практик взаимодействия университетов с внешними партнерами был вопрос о распространенности проектов, выполняемых по их заказу. Из 65 экспертов 55 отмечают, что в вузах такие проекты реализуются, но их доля в общем числе реализуемых проектных инициатив разная. Две трети опрошенных экспертов утверждают, что доля таких проектов в их вузах составляет лишь пятую часть от обще- го количества проектов. И только 5 экспертов заявили, что большинство выполняемых студентами проектов — это проекты по заказу работодателей. Статистически значимых различий в ответах экспертов по типам вузов не обнаружено.
Согласно мнению экспертов, состав заказчи- ков студенческих проектов охватывает представи телей разного типа организаций — органов вла сти, государственных предприятий и учреждений, организаций некоммерческого сектора, коммерче ских организаций (Табл. 2).
Таблица 2
Организационная принадлежность внешних партнеров
Table 2
|
Альтернативы ответов |
% |
Рейтинговые значения |
|
Коммерческие организации |
80 % |
I |
|
Предприятия и учреждения госсектора |
64 % |
II |
|
Организации некоммерческого сектора |
53 % |
III |
|
Органы власти |
45 % |
IV |
|
Другое |
2 % |
V |
|
Всего |
244 % |
|
Organizational affiliation of external partners
Тот факт, что сумма ответов респондентов составила более 100 %, свидетельствует о том, что университеты в рамках проектной деятельности студентов сотрудничают с различными организациями. Чаще выстраиваются отношения с представителями коммерческих организаций, реже — с менее доступными органами власти.
Тематика проектов по заказу внешних партнеров разнообразная. Приоритетными, по мнению экспертов, являются социальные и инженерно-технологические проекты. В рамках отраслевой направленности преобладают проекты IT-сферы, а также образования и культуры. Экспертные оценки позволяют выделить еще одну типологию проектов. По направлениям деятельности в российских вузах чаще реализуются научно-исследовательские проекты, их отмечают 55 экспертов. В два раза реже эксперты отмечают проекты продвижения, каждый третий эксперт – административноуправленческие проекты.
Система целеполагания в типовых практиках взаимодействия. Важным аспектом в организации взаимодействия вузов с внешними партнерами является система целеполагания проектного обучения, приоритизация его образовательных и продуктовых результатов [16]. Проведенный авторами исследования ранее традиционный анализ регламентов проектного обучения, размещенных на официальных сайтах российских университетов, 115 учебных планов и 267 рабочих программ проектных дисциплин показал, что в вузах реализуются различные целевые модели в разрезе стратегических развилок проектного обучения: ориентация на образовательный и/или продуктовый результат (проектное обучение и/или проектная деятельность); массовость или избирательность (реализация на всех уровнях и направлениях подготовки либо в отдельных образовательных программах); охват проектного обучения — его направленность исключительно на студентов или широкую целевую аудиторию (школьники, абитуриенты, учащиеся колледжей и техникумов и др.) [30].
Результаты проведённого опроса позволили верифицировать эти стратегические приоритеты. Так, целевая направленность проектов по заказу работодателей отражает смешанную стратегию проектного обучения — они направлены как на образовательный, так и на продуктовый результат. Об этом свидетельствует равное распределение ответов экспертов в соотношении 1:1. Половина экспертов определяет направленность проектного обучения на продуктовый результат, вторая половина — на образовательный. Интеграцию проектного обучения во все уровни и направления подготовки вуза отмечают 46 экспертов, в отдельные программы — только 19. Соотношение ответов — 2,4:1. Оценивая охват проектного обучения, три четверти экспертов подчеркивают, что в их университетах выполнение проектов ориентировано на широкую целевую аудиторию.
Организационные условия. В качестве организационных условий рассматривались различные элементы инфраструктуры проектного обучения — его нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение. Индексы развития инфраструктуры рассчитывались в соответствии с количеством показателей: нормативноправовая регламентация — по пятибалльной шкале, средний балл составил 2,3; организационный дизайн — по трехбалльной шкале, средний балл — 1,3; информационная среда — по пятибалльной шкале, средний балл — 1,3. В целом, экспертные оценки ресурсного обеспечения довольно низкие, есть различия и по типам вузов. Согласно оценке экспертов, нормативно-правовая база полнее представлена в опорных вузах (средний балл — 3,0); организационный дизайн — в федеральных университетах (средний балл — 1,7); информационное обеспечение — в научно-исследовательских (средний балл — 1,3).
Устойчивость взаимодействия. Устойчивость
— ключевое понятие в теории управления, отражающее свойство динамической системы воз- вращаться в состояние равновесия или сохранять заданную траекторию после воздействия внешних возмущений. Устойчивость взаимодействия — это «результат осознанных, целенаправленных действий участников, ориентированных на сотрудничество» [31]. Основными ее характеристиками являются частота и глубина.
Частота коммуникаций с внешними партнерами выявлялась выбором экспертами альтернативных вариантов ответа: взаимодействие чаще носит системный (работа с большинством заказчиков на постоянной основе) или случайный, разовый характер. Соотношение ответов экспертов — 1,5:1. При этом две трети опрошенных экспертов из федеральных университетов признают системный характер коммуникаций. В научно-исследовательских и опорных университетах мнения разделились равным образом: половина опрошенных экспертов высказались за случайный характер взаимодействия, половина — за системный. Все представители ведомственных университетов отметили, что коммуникации с работодателями носят разовый, несистемный характер.
Глубина коммуникаций с внешними партнерами, рассматриваемая нами как запас устойчивости, и степень робастности системы взаимодействия соотносились с двумя показателями. Первый отражал значимость влияния целевых приоритетов на устойчивость взаимодействия. Степень значимости рассчитывалась по непараметрическому статистическому критерию Манна-Уитни. При стратегической направленности проектов на продуктовый результат оценки прикладных проек- тов статистически значимо выше, чем при ориентации на образовательный результат (по критерию U Манна-Уитни для независимых выборок значимость — 0,035). А вот оценка формирования и развития компетенций студентов в соответствии с образовательными стандартами связана с масштабом проектного обучения. Она статистически значимо выше при ориентированности на реализацию проектного обучения на всех направлениях и уровнях подготовки (по критерию U Манна-Уитни значимость — 0,046). Статистически значимых различий в оценках экспертов по типам вузов не выявлено.
Второй показатель связан с выявлением двусторонней связи между ресурсным обеспечением и системностью организации проектного обучения в вузах на основе расчета коэффициента Спирмана (Табл. 3).
Таблица 3
Корреляции между ресурсным обеспечением и системностью организации проектного обучения
Table 3
|
Полнота ресурсного обеспечения |
Системность характера взаимодействия с партнерами проектного обучения в университете |
|
|
К-т корреляции Спирмана |
Значимость двухсторонняя |
|
|
Нормативно-правовая база (от 0 до 5) |
0,272* |
0,047 |
|
Организационная инфраструктура (от 0 до 3) |
0,090 |
0,516 |
|
Информационная среда (от 0 до 5) |
0,138 |
0,321 |
|
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). |
||
|
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). |
||
Correlation between resource endowment and systematic organization of project-based learning
Двусторонняя связь обнаружена между системностью взаимодействия и ресурсным обеспечением проектного обучения только в отношении нормативно-правового регламентирования.
Согласно мнению экспертов, устойчивость взаимодействия в большей степени зависит от персональных, а не институциональных факторов. Две трети экспертов убеждены в том, что
|
устойчивость формируется благодаря деятельно- делегируют свои полномочия и ответственность сти конкретных людей (ППС, сотрудников кафедр на нижний уровень, теряя субъектность управ-и лабораторий). Третья часть экспертов ссылается ленцев. на общеуниверситетскую политику или полити- Еще один аспект устойчивости типовых прак- ку отдельных подразделений (институтов, факуль- тик взаимодействия университетов с внешними тетов). Можно предположить, что наши экспер- партнерами отражают экспертные оценки эффекты, которые являются представителями универ- тивности управленческих процессов (по 10-балль-ситетского менеджмента в проектном обучении, ной шкале от 0 до 1) (Табл. 4). Таблица 4 Экспертные оценки управленческих процессов Table 4 Expert assessments of management processes |
|
|
Параметры |
Средний балл |
|
Оперативное взаимодействие сотрудников внутренних подразделений университета по вопросам организации проектного обучения |
6,9 |
|
Внутренний мониторинг эффективности реализации проектов |
6,8 |
|
Оперативное взаимодействие с работодателями для выявления их запросов и оформления заявок на проекты |
6,6 |
|
Организация встреч обучающихся с внешними заказчиками и другими внутренними субъектами |
6,4 |
|
Организация обратной связи от внешних экспертов, заказчиков проектов |
6,4 |
|
Средний балл |
6,6 |
Взаимодействие с партнерами на старте проектного обучения при выявлении их запросов и оформлении заявок на проекты оценивается экспертами выше, чем на последующих этапах взаимодействия — при организации встреч со студентами и на этапе обратной связи. Статистически значимые различия в оценках экспертов зафиксированы и по типам университетов (Табл. 5).
Таблица 5
Сравнительные оценки управленческих процессов по типам университетов
Table 5
Comparative assessments of the management processes’ effectiveness by type of university
|
Средняя оценка управленческих процессов (от 0 до 10) |
Тип вуза |
||||
|
ад ад s нР R Ч ^ нн га в « ад о ^ ад ад о нн о S |
и л ч ч е |
и о О |
ад и и о ад m |
о |
|
|
Сводный индекс эффективности управленческих процессов |
6,5 |
6,9 |
5,8 |
3,9 |
6,9 |
Эксперты из федеральных университетов выше оценивают эффективность управленческих процессов во взаимодействии с внешними партнерами в сравнении с экспертами из ведомственных и опорных университетов.
Управление устойчивостью взаимодействия университетов с внешними партнерами имманентно связано с идентификацией барьеров и рисков, возникающих в процессе этого взаимодействия. В модели, представленной на рисунке 1, отражена иерархия барьеров, нижний уровень которой являлся параметрами для оценивания экспертами, а также показаны унифицированные риски для всех идентифицированных параметров (рис.1).

Рис. 1. Моделирование барьеров и рисков взаимодействия университетов с внешними партнерами в условиях проектного обучения
Fig. 1. Modeling barriers and risks of university-external partner collaboration in project-based learning
В иерархии различных типов и видов барьеров взаимодействия университета с внешними заказчиками системообразующим является барьер субъективных репрезентаций, который связан с несоответствием ожиданий участников взаимодействия. Реляционные барьеры отражают невовлеченность партнеров в проектное обучение должным образом и делегирование неинтересных проектов студентам в роли бесплатной рабочей силы. Коммуникативные барьеры связаны с отсутствием общего языка между участниками взаимодействия, в качестве экономических
Барьеры взаимодействия барьеров рассматривается конфликт интересов в отношении авторских прав. Логика причинноследственных связей между барьерами и рисками имеет сложный двойственный характер: она присутствует в иерархической структуре и барьеров, и унифицированных рисков. Недоверие между участниками взаимодействия приводит к снижению их мотивации, потере качества проектных продуктов и неустойчивости взаимодействия в целом.
Экспертные оценки барьеров представлены в Таблице 6.
Таблица 6
с внешними партнерами
Table 6
Barriers to collaboration with stakeholders
|
Параметры |
% от числа опрошенных |
Рейтинговое значение |
|
Ожидания от результативности проектов в вузе и у заказчика часто не совпадают |
60 |
I |
|
Внешние партнеры, заказчики не вовлекаются во взаимодействие должным образом |
59 |
II |
|
Партнеры, заказчики делегируют студентам не всегда интересные задачи (мелкие, трудоёмкие, плановые) |
49 |
III |
|
Студенты рассматриваются как бесплатная рабочая сила |
49 |
III |
|
Кураторы, преподаватели не всегда находят общий язык с заказчиками, практиками, экспертами |
23 |
IV |
|
Во взаимодействии с заказчиком возникают противоречия в отношении авторских прав на проектные продукты |
17 |
V |
|
Кураторы, преподаватели не всегда находят общий язык со студентами |
6 |
VI |
Наиболее распространённым, по оценкам экспертов, является барьер субъективных репрезентаций. Они представляют собой «набор жизненных решений, выборов и действий субъекта, определяющих его личностную или групповую идентичность» [32], которые отражаются в системе ожиданий участников взаимодействия. Рассогласование ожиданий может проявляться на разных уровнях — институциональном, организационном, культурном, межличностном. Стороны взаимодействия в проектном обучении обладают разными ресурсами — финансовыми, временными, кадровыми, инфраструктурными, организационными, а также спецификой организационных и управленческих стратегий. Университеты со свойственной им вертикальной иерархией часто связаны административными процедурами и длительными процессами согласования. Компании же предпочитают гибкость, оперативность и адаптацию к меняющимся условиям рынка. Университеты ориентированы на долгосрочные исследования, фундаментальную науку и образовательные программы. Бизнес требует быстрых решений, внедрения инноваций и получения прибыли в краткосрочной перспективе. Для вузов критериями успеха являются публикации в научных журналах, академическое признание и подготовка квалифицированных кадров. Бизнес оценивает результат через коммерциализацию идей, долю рынка и возврат на инвестиции. Институциональные отличия порождают расхождения в системе принятия решений. Прескриптивная готовность вузов к партнерству сталкивается с неготовностью партнеров тратить свои ресурсы и личное время, выходить за рамки привычных форматов деятельности, подключать к проектному обучению своих высококвалифицированных сотруд-ников2.
Неслучайно на втором месте по значимости находятся реляционные барьеры, связанные в первую очередь с недостаточной вовлеченностью заказчиков в процесс выполнения проекта. В контексте того, что устойчивость взаимодействия в большей степени зависит от персональных факторов, можно предположить, что формальный характер вовлеченности партнеров нивелируется на нижнем уровне взаимодействия, в процессе непосредственных коммуникаций с заказчиками. Барьер невовлеченности, по мнению экспертов, в большей мере связан с представителями предприятий и учреждений госсектора (коэф. Спирмена 0,266, р=0,032). Отстранение заказчиков от процесса, отсутствие своевременного консультирования студентов и промежуточных оценок качества выполняемых проектных работ приводит к рискам снижения качества проектов и рассогласованности ожиданий относительного итогового продукта.
Третье ранговое место в оценках экспертов отводится еще двум реляционным барьерам, набравшим одинаковый удельный вес — это восприятие студентов в качестве бесплатной рабочей силы и делегирование им неинтересных, плановых, но трудоемких для заказчиков задач по проекту.
Стереотип о студентах как о бесплатной рабочей силе соотносится с ситуацией партнерства вузов с коммерческими организациями (коэф. Спирмена 0,295, р=0,017). Также установлена двусторонняя связь между нормативно-правовым регулированием проектного обучения в вузах и частотой высказываний экспертов о действии стереотипа (коэф. Спирмена 0,266, р=0,032): наличие в вузах соответствующего нормативно-правового регулирования деятельности проектных подразделений в определенной степени минимизирует проблему воспроизводства этого стереотипа. Делегирование студентам неинтересных и трудоемких проектных задач коррелирует с организациями и учреждениями госсектора (коэф. Спирмена 0,252, р=0,0143). Наблюдается двусторонняя связь между системностью взаимодействия, увеличением доли проектов с продуктовым результатом и снижением остроты феномена делегирования (коэф. Спирмена 0,298, р=0,027).
О барьерах коммуникации, связанных с отсутствием общего языка кураторов с заказчиками, заявляет каждый шестой опрошенный эксперт. Одна из причин неэффективной коммуникации — специфика профессиональной культуры практикующих специалистов и академического сообщества.
Экономический барьер в отношении авторских прав на проектные продукты в меньшей степени значим для экспертов. Актуальное для заказчиков и руководства университетов решение вопроса эффективного распределения ресурсов, особенно финансовых, и согласование действий между стейкхолдерами с минимальными издержками актуализируют использование гибких технологий управления заинтересованными сторонами для консолидации интересов и предотвращения конфликтов [11].
Дискуссия
Рассмотренная в рамках заявленной методологии ролевая структура участников проектного обучения показывает, что внешние партнеры как действующие лица (акторы) выполняют функции заказчика, ментора и эксперта, но не обладают полнотой субъектности по аналогии с организаторами обучения. Полагаем, что полномочия внешних партнеров ограничены самой сущностью стейк-холдерского подхода, характеризующего партнеров только как носителей определенных интересов, а не субъектов, влияющих на управление и организацию проектного обучения в совокупности всех его составляющих — идеологии, регламентов, сроков, норм времени, принципов формирования студенческих команд (массовости или элитарности) и т.п. Считаем, что в условиях проектной деятельности привлечение партнеров к полноценному взаимодействию с вузами в качестве субъекта управления может стать решающим фактором для нахождения баланса интересов и нейтрализации существующих барьеров и рисков.
Заключение
Разработанная авторская методология в интеграции пракселогического, стейкхолдерского и рискологического подходов обеспечила возможность исследовать типовые практики взаимодействия университетов с внешними партнерами в совокупности их основных характеристик (массовости, тематики, организационной принадлежности заказчиков, целевой направленности, инфраструктурной обеспеченности), а также оценить степень их влияния на устойчивость (частоту и глубину) коммуникаций.
Согласно мнению экспертов, проектное обучение носит массовый характер — реализуется в большинстве университетов. Среди заказчиков проектов лидерами являются коммерческие организации, реже выстраивается сотрудничество с представителями государственных предприятий и учреждений. По тематике преобладающими являются научно-исследовательские проекты. В структуре целевой направленности, в соответствии с мнениями экспертов, в равной мере присутствуют как образовательные, так и продуктовые проекты. При невысоких оценках, данных экспертами организационным условиям проектного обучения, выявлены статистические различия по типам вузов. С учетом того, что типовые практики должны носить регламентированный характер, следует отметить, что эксперты из опорных университетов чаще оценивают наличие в вузах необходимой нормативно-правовой базы проектного обучения. Две трети экспертов признают устойчивый, системный характер коммуникаций с партнерами. Установлена связь между глубиной коммуникаций и комплексностью документов, регламентирующих организацию и процесс проектного обучения в университетах.
По оценкам экспертов, в структуре барьеров системообразующим является взаимное несоответствие ожиданий участников взаимодействия. Значимость поведенческих барьеров зависит от типа партнёрских организаций: формальное вовлечение и делегирование рутинных, неинтересных задач характерно для организаций госсектора; восприятие студентов в качестве бесплатной рабочей силы — для коммерческих организаций. Все идентифицированные в исследовании барьеры имеют под собой ценностные и культурные основания, могут порождать риски недоверия между участниками проектного обучения, конфликт интересов, снижение мотивации и качества выполняемых проектов, а также не обеспечивать устойчивость коммуникаций.
Следует отметить, что проектное обучение генетически связано с проектным менеджментом, в котором инструменты управления заинтересованными сторонами (так же, как и технологии управления рисками) разработаны и стандартизированы. В целях формирования долгосрочного и устойчивого сотрудничества с партнерскими организациями актуальной задачей для университетского проектного менеджмента становится повышение проектной / рискологической компетентности.
Ограничением исследования можно считать отсутствие на данном этапе возможности для сравнительного анализа мнений представителей академического сообщества с оценками практик взаимодействия внешними партнерами проектного обучения. Исходные корпоративные установки, организационная культура, механизмы принятия решений, формирующие разное ценностно-смысловое пространство у университетов и их партнеров, могут стать предпосылкой несовпадения преставлений обо всех институциональных характеристиках практики взаимодействия. Поэтому перспективы исследования связаны с расширением экспертного состава и сравнительного анализа мнений и оценок всех заинтересованных сторон проектного обучения в высшей школе.