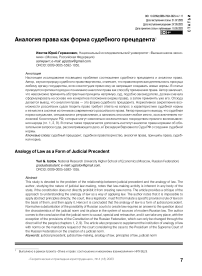Аналогия права как форма судебного прецедента
Автор: Изотов Ю. Г.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 4 (18), 2023 года.
Бесплатный доступ
Настоящее исследование посвящено проблеме соотношения судебного прецедента и аналогии права. Автор, изучая природу судебного правотворчества, отмечает, что правотворческая деятельность присуща любому органу государства, если конституция прямо ему не запрещает создавать новые нормы. В статье приводится критика подхода к пониманию аналогии права как способу применения права. Автор замечает, что невозможно применять абстрактные принципы напрямую, суд, подобно законодателю, должен сначала сформулировать на основе них конкретное положение (норму права), а затем применять уже его. Отсюда делается вывод, что аналогия права - это форма судебного прецедента. Нормативное закрепление возможности российских судов творить право требует ответа на вопрос о характеристике судебной нормы и ее месте в системе источников современного российского права. Автор приходит к выводу, что судебная норма казуальная, специальная и ретроактивная, а занимать она может любое место, за исключением положений Конституции РФ, которые могут изменяться исключительно посредством прямого волеизъявления народа (гл. 1, 2, 9). В статье также предлагается дополнить институт аналогии права нормами об обязательном запросе суда, рассматривающего дело, в Президиум Верховного Суда РФ о создании судебной нормы.
Судебный прецедент, судебное правотворчество, аналогия права, принципы права, судебная норма
Короткий адрес: https://sciup.org/14129387
IDR: 14129387 | DOI: 10.22394/2686-7834-2023-4-7-17
Текст научной статьи Аналогия права как форма судебного прецедента
В российской юриспруденции сформировалось два взгляда относительно возможности судов творить право и, как следствие, признания судебного прецедента источником права. Противники ссылаются на принцип разделения властей и исключительно правоприменительный характер судебной деятельности. Сторонники тоже ссылаются на принцип разделения властей, но понимают его по-другому. Данный спор ведется исключительно в области теории права и лишь иногда можно встретить ссылки авторов на положения Конституции РФ. Примечательно, что те и другие по неведомой причине обходят нормы законов, посвященные применению судом аналогии права, формулировка которых сильно напоминает доктринальное определение судебного прецедента. Неужели в российском праве прямо закреплена возможность суда творить право или же это сходный, но отдельный от судебного прецедента институт? Если все же признать аналогию права формой судебного прецедента, то какое место занимает судебная норма в системе источников современного российского права, и как в таком случае сочетать положения института аналогии права и института проверки судебного решения?
1. Судебное правотворчество и судебный прецедент
В современной юридической науке отсутствует единство взглядов относительно природы судебного прецедента и возможности суда творить право. Высказываются диаметрально противоположные мнения. Одни юристы считают, что судебное правотворчество — это прямое нарушение теории разделения властей. Другие отмечают позитивную роль судебных прецедентов: они помогают ликвидировать пробелы в праве и делают последнее более пластичным. Тем не менее и сторонники судебного правотворчества, и его противники признают существование судебного прецедента как правового явления и отмечают его влияние на функционирование права.
В литературе обозначилось три подхода к пониманию судебного прецедента: нормативный, интерпретационный и фактический. Применение того или иного подхода связано с изучаемым правопорядком и личным отношением автора к возможности судов творить право.
Суть нормативного подхода заключается в том, что автор прямо ссылается на нормы закона, в которых отражена возможность суда творить право. Например, российский исследователь римского частного права Д. В. Дождев в своем учебнике среди источников римского частного права называет судебный прецедент. В обоснование своей позиции автор ссылается на рескрипт императора Септимия Севера (145–211 г. н. э.), который приравнивает к закону авторитетные судебные решения и обязывает суды применять их в схожих случаях2.
Интерпретационный подход заключается в том, что автор выводит возможность суда творить право путем толкования норм, в которых такая возможность прямо не закреплена, но подразумевается. Данный подход распространен в странах англосаксонской правовой семьи, где многие положения законов сформулированы достаточно абстрактно и содержат ссылки на общепонятные термины и доктрины. Так, американский юрист Уильям Бернам в своем учебнике по правовой системе США отмечает, что в системе общего права нормоустанавливающие судебные решения по конкретным делам являются источником права и в совокупности составляют «прецедентное право»3. Вывод о возможности суда творить право в данном случае выводится из общепризнанного понимания термина «общее право» и ссылки на него в разделе II статьи 3 Конституции США.
Ссылка на фактический характер судебного правотворчества распространена в странах континентальной правовой системы. В доктрине этих стран прослеживается ярко выраженное сопротивление признанию судебного прецедента источником права. Однако, несмотря на это, авторы вынуждены признавать, что зачастую судебные акты все же обладают свойством нормативности. В России такая позиция относится в первую очередь к актам Конституционного Суда РФ, которыми нормы отдельных законов могут признаваться противоречащими Конституции РФ и отменяться Судом.
Позицию фактического характера судебного правотворчества можно обнаружить чуть ли не во всех трудах по теории права России. В. Н. Карташов в своем учебном пособии по теории государства и права отмечает, что «в тех странах, где официально не признается роль судебных прецедентов, решения вышестоящих судебных инстанций по сути дела выступают в качестве самостоятельной формы права», и далее делает ссылку на постановления пленумов и акты Конституционного Суда РФ4. Теоретик права М. Н. Марченко отмечает, что в странах романо-германской правовой семьи судебный прецедент «не будучи признанным в качестве источника романо-германского права формально выступает в качестве такового реально»5. Т. Н. Радько, исследуя историю отношения отечественной доктрины к судебному правотворчеству, отмечает: «Судебный прецедент не признавался источником права, хотя судебная практика и прецеденты высших судебных органов играли определенную роль при разрешении сходных казусов, когда норма закона отсутствовала»6.
Фактический характер судебного прецедента в России нашел свое отражение и в целом ряде диссертационных исследований, к которым можно отнести работы С. В. Сипулина7, А. Ю. Мкртумяна8, О. Н. Коростелкиной9, П. А. Гу-ка10 и других авторов.
СТАТ Ь И
Несмотря на то, что в современных исследованиях, посвященных судебному прецеденту, отмечается, что он является источником права, в юридическом мире до сих пор бытует представление, что суд творить право не может. Эта доктрина, а точнее растиражированное заблуждение, возникла не случайно. На всем протяжении российской истории наблюдался перекос в сторону законодательной власти — сначала самодержавной власти монарха, затем всемогущей власти Советов. Понятное дело, что в таких условиях законодательная власть, которая сначала осуществлялась монархом, затем контролировалась коммунистической партией, не допускала конкуренции со стороны судов. Примечательно, что сторонники доктрины отрицания судебного правотворчества ссылаются на нарушение принципа разделения властей, не понимая, что сама эта доктрина стала следствием нарушения данного принципа.
После принятия Конституции Российской Федерации в 1993 г. сформировалась новая система органов государственной власти, больше отвечающая теории разделения властей, чем предыдущие, но открыто признать правотворческие полномочия судов составители основного закона так и не решились.
Принцип разделения властей — это один из камней преткновения в споре о возможности судебного правотворчества (второй — понимание природы принципов права). Сторонники судебного правотворчества говорят, что оно не противоречит принципу разделения властей, противники — что противоречит. И все они ссылаются на свое понимание этого принципа, продиктованное, в первую очередь, идеологическими, а значит, субъективными причинами.
Представляется, что в этом и состоит главная ошибка: ученые начинают разговор о внутреннем строении государства, хотя должны сначала посмотреть на него в целом. Я думаю, что никто не станет спорить с утверждением о том, что источником всего права является государство, более того, оно и создавалось с этой целью: чтобы обеспечить существование права как регулятора поведения человека11. Так как государство может творить право, следовательно, все его органы могут творить право.
Поскольку ситуация, при которой любой государственный орган может творить право, очень быстро привела бы к неразберихе, возникли правила разграничения источников права по юридической силе и предмету регулирования. Сам же принцип разделения властей появился значительно позднее и представлял собой попытку развести деятельность органов власти по функциональному признаку. Автор теории разделения властей Ш. Л. Монтескьё (1689–1755) всеми способами пытался показать, что он ни в коем случае не имел в виду ограничение абсолютной власти монарха. В современном понимании теория разделения властей представляет собой рекомендации по недопущению концентрации власти у какого-то одного органа, важной ее частью является система сдержек и противовесов. Современное понимание содержания этой теории было ответом на абсолютистские и тоталитарные политические режимы прошлого и является гарантией демократического устройства государства. Теория же нашла свое формальное выражение в конституциях и сформулирована как принцип. В Конституции РФ (ст. 10) она выражена фразой: «Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».
Как видно, противники судебного правотворчества стараются подменить содержание этого принципа — заменить самостоятельность ветвей власти функциональным разделением. И почему-то представителей этого течения нисколько не смущает то, что Государственная Дума РФ может выполнять не только правотворческую функцию, но и правоприменительную, при том бесспорно нарушая независимость судебной власти (амнистия). Исполнительная власть вообще занимается правотворческой и правоприменительной деятельностью почти одинаково.
Таким образом, следует отказаться от субъективных представлений в этом вопросе и исследовать правопорядок как таковой. Если любой государственный орган может заниматься правотворчеством и на конституционном уровне не установлено запрета на это в отношении определенного государственного органа, то этот орган может создавать правовые нормы.
СТАТЬИ
Поскольку судебное правотворчество, если оно прямо не запрещено в конституции, допустимо, то необходимо определить, чем оно отличается от других видов судебной деятельности — толкования и применения права.
Изучив юридическую литературу по этой теме можно прийти к выводу, что все три вида судебной деятельности часто смешиваются, называются судебной практикой и недостаточно разграничены12. Сегодня представители сторон ссылаются на судебную практику едва ли не чаще, чем на положения нормативных правовых актов. Оно и понятно — юрист должен быть уверен, что его позиция достаточно надежна и подтверждена, чтобы идти с нею в суд. В большинстве случаев под судебной практикой юристы понимают все акты судов, независимо от того, в рамках какого вида деятельности они были вынесены13. Поскольку судебный прецедент — это результат правотворческой практики, следовательно, понятие судебного прецедента у ' же, чем понятие судебной практики.
Отличие правотворческой практики от других видов юридической практики можно вывести из того простого факта, что только в результате правотворческой практики появляются нормы права, которые служат основой для осуществления интерпретационной и правоприменительной практик.
Толкование всегда сопровождает судебную деятельность. Это связано с тем, что судья — человек, а значит, прежде чем сделать вывод, он должен найти имеющие значение для дела факты (в данном случае найти соответствующие нормы права), затем установить содержание норм, сопоставить их и выявить взаимосвязи. Только после того, как в результате толкования у судьи сформируется целостный образ, он сможет применить его для разрешения спора. Как видно, толкование не предполагает проявления творческих способностей, наоборот, оно строго ограничено выявлением смысла уже существующих норм права.
Правоприменительная практика заключается в том, что суд на основе сложившегося образа формирует позицию государства в отношении спорной ситуации и отношения к лицам, участвующим в деле. Так, в случае признания права собственности, суд от имени государства заявляет, что государство рассматривает определенное лицо в качестве собственника, а значит, на последнего распространяются соответствующие права и обязанности. В случае нарушения права суд своим решением наделяет истца возможностью использовать государственное принуждение по отношению к правонарушителю.
Таким образом, деление всей судебной практики можно провести по двум критериям — основанию осуществления и конечному результату. Правотворческая практика основывается на принципах права (о чем я скажу ниже), а ее результатом становится норма права — конкретное правило поведения, регулирующее отдельное общественное отношение. Интерпретационная практика основывается на нормах права, а ее результатом служит целостное понимание норм права и их содержания. Внешне это может проявляться в мотивировочной части судебного акта. Правоприменительная практика основывается на понимании норм права, а ее результат — это предоставление обратившемуся за судебной защитой лицу возможности использовать государственное принуждение по отношению к правонарушителю и/или признание его права. Внешне результат правоприменительной практики проявляется в резолютивной части решения.
Выяснение сущности трех видов судебной практики необходимо для того, чтобы разобраться в вопросе о сущности судебного прецедента. Нередко название практики подменяет сущность. Например, в литературе часто можно встретить мнение, что при расширительном толковании суд создает норму права. Но в этом случае следует возразить: если суд создает норму права, то толкованием это никак нельзя назвать. Суд может под видом толкования применять либо аналогию закона, либо заниматься самоуправством.
Правотворческая практика судов является разновидностью правотворческой практики вообще, а значит, ее суть должна быть тождественной правотворческой практике любого другого государственного органа — законодательного или исполнительного. Разница в правотворчестве различных ветвей государственной власти может заключаться лишь в тех случаях, когда природа самого органа государственной власти влияет на порядок принятия норм.
Суть правотворческой практики, как и следует из ее названия, состоит в том, чтобы создавать нормы права, появление последних — это результат данного вида практики. Но что служит основанием для правотворческой деятельности? Можно сказать, что таким основанием являются другие нормы права. И отчасти такой ответ будет верным. Законодатель может принимать новые нормы для развития уже существующих, как правило — общих. Но далеко не всегда предмет регулирования даже общей нормы может охватить все общественные отношения, да и сама общая норма тоже ведь когда-то появилась. Отсюда возникает вопрос — на что опирается законодатель и на что может опираться суд, когда общей нормы права не существует, а урегулировать общественное отношение нужно, иными словами — когда обнаружен пробел в праве? Представляется, что в этом случае законодатель обращается к более абстрактной категории — принципам права.
Относительно принципов права также не существует единства мнений. Разногласия вызывает не только содержание этой категории, но и выделение внутри нее иерархии. Более того, в законодательстве нередко принципами права названы общие нормы. Для ответа на вопрос, что такое принцип права, следует идти от противного — исключить из этой категории все то, что не может быть принципом права априори.
-
1. Так, не может быть принципом права общая норма. Например, свобода договора нередко рассматривается в качестве принципа гражданского права14, хотя законодательство содержит огромное количество исключений из этого правила. Суть принципа состоит в том, что он не предполагает исключений, в противном случае это будет не принцип права, а общая норма, исключения — специальные нормы. Подмена общей нормы принципом права не только методологически ошибочна (каждому явлению должно соответствовать свое понятие), но и может привести к неверным выводам при использовании этих понятий в других исследованиях. Таким образом, отсюда можно сделать первый вывод — принцип права не предполагает исключений.
СТАТ Ь И
-
2. Из этого вывода следует второе утверждение — между принципами права не может быть коллизий. Наличие коллизии означает, что необходимо выбрать один принцип и отвергнуть другой, в этом случае возникает вопрос об общем и специальном принципе, что противоречит сделанному ранее выводу.
-
3. Невозможность коллизий приводит к невозможности построения иерархии принципов, поскольку последняя является лишь средством устранения коллизий.
Сделанные выводы позволяют сформировать правильное представление о принципах права и отличить их от другого правового явления — общих норм права. Принципы права должны логически вытекать один из другого и быть объективными. Объективность принципов заключается в том, что они должны строиться из объективного начала (соответствовать природе человека и государства), а не служить оболочкой для субъективных представлений и других фантазий. Отсюда можно заключить, что устоявшееся мнение о том, что содержание принципов права составляют идеи, — неверно. Нет ничего более эфемерного и противоречивого, чем идеи. Идеи возникают от того, что человек восполняет недостаток знаний о мире своим воображением. Более того, каждый человек восполняет недостаток знаний по-своему и на протяжении жизни его представления меняются. На практике «идейная» позиция не выдерживает проверку временем. История знает множество примеров того, как принципы права, «вечные» и «неизменные», исчезали вслед за изменившейся политической обстановкой. Так что же является содержанием принципов права?
Поскольку принципы права — это объективная категория и опираются они на реальную действительность (естественные (природные) законы), они не могут быть установлены государством, так как деятельность последнего всегда связана с волей людей, а воля людей изменить природу не в состоянии. Человек может только обнаружить природные закономерности и их содержание, а государство — оформить и закрепить в нормативных правовых актах. Сами принципы отражают природу не только человека, но и природу государства и права как самостоятельных явлений.
Объективность принципов права ведет к тому, что они не только выше норм права, но и выше государства, последнее должно им следовать. Так как государство должно следовать принципам права, последние формулируются как предписания, другими словами, они содержат требование к государству создавать нормы права так, чтобы они не противоречили природе человека, самого государства и права как регулятора поведения человека. И требование это распространяется на все органы власти, а не только на законодательные. Нарушение принципов может привести к двум последствиям — неэффективности права (оно будет игнорироваться) либо к угнетению человека, разрушению государства и уничтожению такого правопорядка.
Уяснив природу принципов права и их место в правовой системе общества, следует кратко назвать сами эти принципы, точнее те из них, которые могут использоваться судом в правотворческой деятельности.
Началом всего правопорядка должно стать признание неотъемлемых от человеческой природы свойств, среди которых можно выделить способности: жить, потреблять, трудиться, знать, как трудиться, и способность познавать мир. Также человек обладает способностью самозащиты. Это природные качества человека, которые присущи ему как представителю биологического вида; у всех людей набор этих способностей одинаковый. Человек может как использовать их, например трудиться, так и не использовать (в состоянии сна человек не трудится). Это обстоятельство, в свою очередь, дает основание назвать данные способности естественными свободами.
Из естественных свобод можно вывести наличие трех фундаментальных принципов регулирования, которые применяются не только к праву, но и к другим регуляторам поведения человека.
Принцип всеобщности означает, что естественные свободы присущи всем людям, и нет такого человека, который не обладал бы ими; государству запрещается не признавать человеком некоторые группы индивидов (например, рабов — вещами). Проще говоря, человек — это человек.
Из этого принципа выводится другой — принцип равенства. Он означает, что у всех людей набор естественных свобод одинаковый; государству запрещается отказывать в признании одной или нескольких естественных свобод. Отсюда выводятся также равенство правового статуса личности и запрет дискриминации.
Из принципа равенства вытекает принцип справедливости — индивид может использовать свои естественные свободы любым способом, но не может препятствовать использованию естественных свобод другими индивидами.
СТАТЬИ
В ином случае нарушитель должен компенсировать вред потерпевшему. Данная формулировка близка по смыслу к классической: «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого», только она более конкретна и отражает динамическую сторону жизни человека — через его взаимодействия с другими людьми.
Вся суть права, как регулятора поведения человека, и государства, как механизма создания и обеспечения права, сводится к реализации принципа справедливости. Законодатель в каждом конкретном случае разбирает жизненную ситуацию и суть взаимодействий между индивидами, после этого формирует норму права. Например, оказание услуги соответствует принципу справедливости. Индивиды сами нашли способ использования своих естественных свобод: клиент использует свободу потребления, а индивид, оказывающий услугу, — свободу труда. В этом случае законодатель просто фиксирует в общей норме права данную ситуацию. Но просто общей нормой не обойтись, существует огромное количество всевозможных услуг, и каждая из них обладает своими особенностями. Более того, сами индивиды не всегда могут заранее учесть все особенности своего взаимодействия, потому на помощь в этом случае приходят регулятивные специальные нормы.
Как видно, любая норма права создается при опоре на принципы права и, прежде всего, принцип справедливости. Суть правотворческой деятельности состоит в том, чтобы на основе принципа права вывести норму права, последняя является результатом данного вида деятельности.
Последнее возражение, с которым можно столкнуться, состоит в том, что суд не творит нормы права, а применяет принципы права. В этом случае он занимается правоприменительной практикой, а не правотворческой. На это можно возразить: невозможно прямо применять принципы права в силу их абстрактности, принцип права — это не правило поведения, а требование к государству и его правотворческой деятельности. Более того, само обращение к принципу права служит признанием отсутствия нормы права и необходимости создать ее для восполнения пробела в регулировании. При создании прецедента суд, равно как и законодатель, осуществляет переход от абстрактного к конкретному и тем самым создает новую норму права. После того как суд создаст норму права, он ее применяет для разрешения спора.
В итоге можно заключить, что суд может заниматься правотворческой деятельностью, если это прямо не запрещено в конституции. Правотворческая деятельность имеет своим основанием принципы права, а ее результат — это появление нормы права.
2. Аналогия права как форма судебного прецедента
В российском законодательстве присутствует институт аналогии права, природа которого спорна и неоднозначна. Осложняется понимание данного института не только скромностью его отражения в законе (присутствует лишь формулировка: «В случае отсутствия норм права… суд разрешает дело, исходя из общих начал и смысла законодательства»), но и фрагментарностью закрепления. Например, в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ институт аналогии права закреплен, в КоАП РФ и УПК РФ он отсутствует, хотя доктрина и суды пытаются его вывести, в УК РФ аналогия права запрещена. Подобная ситуация наблюдается и в материальном законодательстве.
Формулировка положения о применении аналогии права сходна с тем определением, которое дают юристы судебному прецеденту, что дает возможность провести сравнительный анализ между этими двумя правовыми явлениями и сделать вывод об их соотношении.
Юридических исследований, посвященных изучению аналогии права, достаточно мало, обычно вопрос о ее природе затрагивается в общих трудах по праву. Однако за последние два десятилетия появились несколько диссертационных работ на эту тему. Обычно относительно аналогии права авторы формулируют достаточно категоричную позицию — аналогия относится к правоприменительной деятельности суда, а решение, принятое на основе нее, нельзя рассматривать в качестве акта правотворчества и судебного прецедента.
Так, Е. Д. Шиндяпина отмечает, что результат аналогии права — правоприменительный акт, поскольку суд напрямую применяет принципы права15. Принципы же, по мнению автора, представляют собой нестандартные нормы права, «моральные основания права»16, в них «синтезируется опыт развития права и всего человечества»17. Автор, правда, замечает, что они «размыты»18, но пытается заменить их еще более размытыми понятиями — моралью, культурой и «правовым менталитетом»19.
-
В. В. Фидаров куда критичнее формулирует свои выводы: «Результат применения аналогии права ни в коем случае не может быть правотворческим актом»20.
Менее критично к правотворческому характеру аналогии права относится В. А. Божок. Он ссылается на работу А. Т. Боннера «Источники советского гражданского процессуального права», опубликованную в 1977 г.21, и на «одно традиционное положение, по которому судебным прецедентам не присваивалось никакого значения»22. Сам же А. Т. Боннер, хотя и говорит, что аналогия не создает норму права, но отмечает, что она является «суррогатом нормативного акта»23.
СТАТ Ь И
Как видно, весь вопрос о характере акта суда, принятого в результате аналогии права, сводится к тому, является ли обращение к принципам права частью правоприменительной деятельности или же эта деятельность носит правотворческий характер.
В работах сторонников правоприменительного подхода эта позиция является основной, но аргументируется она достаточно слабо. Я не случайно процитировал несколько мест из их трудов, в которых показано, что противники судебного правотворчества думают о принципах права. Они признают, что принципы права абстрактны, имеют идейное содержание, но в то же время неведомым образом их можно применять для разрешения конкретного спора. Более того, позиция о том, что принципы права — это нормы, пусть и «нестандартные», не только теоретически не верна, как я показал это выше, но противоречит самой формулировке аналогии права, которая содержится в законе. Так, законодатель формулирует основание для применения аналогии права словами «в случае отсутствия норм права… при отсутствии таких норм». Получается, если принцип считать нормой и напрямую его применять, то это уже не будет аналогией права.
Помимо этого законодатель прямо не называет принципы права в качестве основания для принятия судебного решения, он говорит «об общих началах» и «смысле законодательства». Поэтому даже общие нормы, которые могут быть названы в законе принципами, не могут применяться в этом случае. Я уже показал, что словесное обозначение часто расходится с содержанием.
Поэтому применительно к аналогии права следует еще раз повторить сделанный ранее вывод. Если суд не может применить норму права общую или специальную (а это ситуация, при которой действует аналогия права), он должен создать норму на основе принципов права. Суд не может применять абстракции напрямую, всегда требуется их конкретизация для конкретного общественного отношения. И этот переход от абстрактного принципа к конкретной норме составляет суть судебного прецедента и правотворческой практики вообще. Таким образом, можно заключить, что, применяя аналогию права, суд создает норму права, а значит, и судебный прецедент. Поскольку существенных отличий между судебным прецедентом и аналогией права нет, последнюю можно рассматривать в качестве формы судебного прецедента.
3. Судебная норма
Так как аналогия права является формой судебного прецедента, в результате ее применения появляется норма права. Как и другие любые нормы права, она содержит конкретное правило поведения, которым должны руководствоваться участники правоотношений и правоприменительные органы. В этом смысле судебная норма содержит все существенные признаки нормы права вообще. Отличия же судебной нормы от норм, создаваемых законодателем, достаточно существенны и порождают закономерные вопросы:
-
1. Каковы характеристики судебной нормы, чем она отличается от норм, принимаемых законодателем?
-
2. Какой судебный орган полномочен издавать судебные нормы?
-
3. Какое место в системе источников российского права занимает судебная норма (иерархия, отраслевая принадлежность)?
-
4. Какие ограничения существуют в применении аналогии права и создании судом нормы права?
Ответ на первый вопрос вытекает из существа судебного правотворчества. Поскольку правоприменительная деятельность суда имеет приоритет, правотворческая деятельность носит вспомогательный характер и осуществляется только в случаях, когда отсутствуют нормы права, регулирующие возникшие отношения. Суд создает норму права только в рамках возникшего судебного спора, рассмотрение которого ограничено основанием и предметом иска. Поэтому и судебная норма носит ограниченный (казуальный) характер. Гипотеза судебной нормы соответствует основанию иска, диспозиция — выведенному из принципов права правилу, а санкция — предмету иска. Но стоит заметить, что действие судебной нормы, поскольку она обладает свойством нормативности, не ограничено лицами, участвующими в деле. Оно распространяется на всех подобных лиц (сходство правового статуса).
Казуальный характер судебной нормы означает, что она является также и специальной нормой. Но здесь можно заметить интересный парадокс — специальная норма существует при отсутствии общей нормы. Это замечание я рассмотрю позднее при выявлении места судебной нормы в системе источников российского права.
СТАТЬИ
Еще одной особенностью судебной нормы является ее ретроактивность, или, что то же самое, она распространяется на отношения, возникшие до ее принятия. Свойство ретроактивности вытекает из того факта, что суд создает норму права уже после того, как возникли отношения между лицами, участвующими в деле. Поскольку суд не может отказать в судебной защите истцу, в силу положения ч. 1 ст. 46 Конституции РФ (правовое препятствие), и не может создать норму до возникновения отношений (физическое препятствие), он вынужден распространять действие судебной нормы на отношения, возникшие до ее появления.
Последним свойством судебной нормы является ее вступление в силу одновременно со сроком вступления в силу судебного решения.
Изучив характеристики судебной нормы, можно перейти к вопросу о том, какой судебный орган может ее создавать.
В юридической литературе почти повсеместно можно встретить утверждение, что судебный прецедент может создаваться исключительно высшими судебными инстанциями, хотя не совсем понятно, на чем авторы строят свое утверждение. Тем не менее в российском законодательстве не только на уровне федеральных законов, но и Конституции РФ отсутствуют ограничения на принятие не высшими судами правовых норм. Более того, все судебные акты выносятся от имени Российской Федерации, а значит, неважно, какой суд их вынес, важно, что это сделала Российская Федерация. Этот вывод соответствует также и доктрине о единстве волеизъявления организации — неважно, какой орган или органы формируют волю, главное, что она выражена уполномоченным органом или лицом и притом от имени всей организации. Поскольку ограничений на принятие судебных норм в российском законодательстве нет, следовательно, судебную норму может создать любой суд, в том числе и мировой судья.
Вынесение судебных решений и принятие судебных норм от имени Российской Федерации обозначает также место таких норм в иерархии источников российского права. Данные нормы следует относить к федеральному законодательству или законодательству субъекта. Федеральное законодательство также имеет свою иерархию и состоит из Конституции РФ, международных договоров, федеральных конституционных законов, федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных ведомств).
Поскольку суд, создавая норму права, исходит из принципов права, формально судебная норма может занимать равное с нормами Конституции РФ положение. Однако в этой связи следует учитывать тот факт, что судебное правотворчество ограничено полномочиями суда, а именно тем, что суд не может создать конституционную норму, если разрешение конституционных вопросов не входит в его компетенцию. Также суд не может изменить положения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ, поскольку государство не может изменять их в одностороннем порядке.
Нижестоящие уровни, начиная с международных договоров и федеральных конституционных законов, могут стать предметом судебного разбирательства, а значит, Верховный Суд РФ или Конституционный Суд РФ могут создать судебную норму (опять же в пределах своих полномочий). Судебная норма может быть и частью законодательства субъекта РФ, в этом случае ее положение опять же подчиняется полномочиям суда.
В итоге можно заключить, что судебная норма может занимать любое место в иерархии источников российского права и приниматься по любому вопросу, за исключением тех отношений, которые могут быть урегулированы исключительно посредством прямого волеизъявления народа (гл. 1, 2, 9 Конституции РФ). Правотворческая деятельность судов ограничена их полномочиями по разрешению споров.
Но как в таком случае преодолеть специальный характер судебной нормы, например, законодателю, если он не согласен с ней? Спор между законодательной и судебной властью в этом случае может быть разрешен в одностороннем порядке путем принятия законодателем нормы права. Но в этой связи следует заметить, что просто принять норму и тем самым преодолеть судебную норму не получится. Простое правило о вытеснении последующим законом предыдущего в данном случае не работает. Поскольку если последующей будет общая норма, то применяться все равно будет специальная судебная. Если законодатель примет специальную норму, то велика вероятность конфликта между двумя специальными нормами. Хотя в этом случае приоритет последующего закона будет действовать. Представляется, что можно выбрать и более простой путь — издание специальной отменяющей нормы со ссылкой на судебное решение, в котором она была установлена. В таком случае будет соблюдено правило последующего закона, а также удастся избежать возможных коллизий между двумя специальными нормами. После отмены судебной нормы законодателю следует издать общую или специальную норму, в противном случае суд опять может восполнить пробел судебной нормой.
Отраслевая принадлежность судебной нормы условна, так же как и условно все деление на отрасли, оно нужно лишь для теории права, а не для его функционирования. Поэтому судебную норму, как и любую другую, следует относить к той отрасли права, к которой она ближе.
Полномочия суда по разрешению определенного круга дел — не единственное ограничение на создание судебных норм. К таким ограничениям можно отнести также конституционный запрет ретроактивности некоторых норм права и ограничение правового регулирования как такового.
Применительно к ограничению ретроактивности, юристы, изучающие этот вопрос, обычно ссылаются на положения федеральных законов, особенно на ч. 1 ст. 10 Уголовного кодекса РФ: «Уголовный закон, устанавлива- ющий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет». Однако ссылку на положение федерального закона нельзя признать верной, поскольку судебная норма сама может быть равной норме федерального закона или даже стоять выше нее. В этом случае ограничения следует искать в Конституции РФ, а именно в ч. 1 ст. 54: «Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет». Это положение распространяется на ответственность вообще, а не только на уголовную. Ограничивают действие судебного правотворчества и другие нормы Конституции РФ, например, о запрете необоснованного ограничения прав и свобод граждан (ст. 55), запрет на обратную силу законов, устанавливающих новые налоги или ухудшающих положение налогоплательщика (ст. 57), и др.
СТАТ Ь И
Более сложный вопрос связан с ограничением правового регулирования вообще, поскольку он никак не разрешен ни на конституционном уровне, ни в юридической доктрине. Представляется, что в этом случае следует опять посмотреть на право извне как на регулятор поведения человека. Суть права заключается не только в том, чтобы сориентировать участников правоотношений, но и в том, чтобы обеспечить принудительное исполнение обязанностей. Принуждение может осуществляться в двух формах — принуждении компенсировать вред и в принудительном перевоспитании (лечении). Суд же просто в этом случае определяет способ компенсации или перевоспитания (наказания), который помог бы восстановить справедливость. Но не во всех случаях принуждение может достичь этих целей. Как верно заметил еще Дж. Локк (1632–1704) в своем «Послании о веротерпимости» в качестве обоснования принципа отделения церкви от государства, государственное принуждение бесполезно для изменения религиозных убеждений человека, для этого требуются наставления и убеждение24. Здесь можно добавить, что не только религиозные убеждения, но и мораль, эстетические предпочтения, дружба и многое другое не подвержено или слабо подвержено государственному принуждению, а значит, и правовому регулированию.
В итоге можно заключить, что судебная норма является казуальной, специальной и ретроактивной. Она может занимать любое место в иерархии нормативных правовых актов, за исключением уровня основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина и порядка пересмотра положений Конституции РФ. В применении аналогии права и создании норм права суд ограничен требованиями Конституции РФ, в частности запретом ретроактивности при регулировании некоторых отношений. Судебная норма также не может быть принята по тем вопросам, где невозможно применить государственное принуждение.
4. Предложения по улучшению правового регулирования института аналогии права в России
Применение аналогии права в России — достаточно редкое явление, оно и не удивительно, если учесть, что аналогия — это последнее, что использует суд, разрешая дело. Несмотря на «запасной» характер аналогии права, действующее законодательство предоставляет суду, в том числе и мировому судье, достаточно широкие полномочия в случае обнаружения пробела в праве. Суд может сотворить норму, равную норме федерального закона.
Помимо этого возникает конфликт между институтом аналогии права и институтом проверки судебных решений. Так, по действующему законодательству, вышестоящая инстанция не может проверить правильность судебного прецедента, в случае если стороны не обжаловали решение суда. Более того, эта вышестоящая инстанция будет обязана применять судебную норму при рассмотрении других дел, даже если не согласна с ее правильностью. Разрешить это противоречие просто — достаточно лишь установить правила о направлении судом, рассматривающим дело, запроса в высшую судебную инстанцию (Президиум Верховного Суда РФ) о выявлении пробела в праве и создании прецедента. Президиум ВС РФ должен будет рассмотреть запрос суда о создании судебной нормы и, в случае обнаружения такого пробела, вынести постановление, в котором будет указано на действительность пробела, определен способ его восполнения и в резолютивной части — сама формулировка судебной нормы. После этого суд, рассматривающий дело, обязан будет сослаться на постановление Президиума ВС РФ и судебную норму в своем решении.
Если Президиум ВС РФ не найдет оснований для создания судебного прецедента, например отсутствует пробел в праве, он должен вынести определение об отказе в создании судебного прецедента и предложить суду вынести решение на основе действующего законодательства. Предложение это не должно содержать конкретных указаний о том, какие нормативные правовые акты суду применять и/или как оценивать обстоятельства дела. Это нужно для того, чтобы не допустить вмешательства в деятельность нижестоящего суда и соблюсти требование Конституции РФ о рассмотрении дела надлежащим судом (ч. 1 ст. 47).
Если же суд, рассматривающий дело, не соблюдет данный порядок и сам восполнит пробел, то его решение должно быть отменено по формальному основанию, а суд апелляционной инстанции должен будет перейти к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции. В данном случае также следует дополнить процессуальное законодательство (ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, ч. 4 ст. 270 АПК РФ и др.). Если стороны не обжалуют данное
СТАТЬИ
решение, то оно будет действительно только для них, а судебная норма будет считаться недействительной и не будет применяться другими судами в аналогичных случаях.
В заключение следует добавить еще один комментарий. Предложенный мной способ усовершенствования института аналогии права, а именно создание судебной нормы исключительно Президиумом ВС РФ, не нарушает положение Конституции РФ о рассмотрении дела надлежащим судом. Представляется, что это требование относится к правоприменительной деятельности суда, а не к правотворческой.
Выводы
Следует кратко резюмировать сделанные выводы:
-
1. Суд может творить право в силу того, что он является государственным органом. Право на создание судом норм права может быть ограничено или запрещено только конституцией.
-
2. Следует отличать общие нормы от принципов права. Последние абстрактны, и их прямое применение невозможно. Судебный прецедент — это результат перехода судом от абстрактного (принципы права) к конкретному (норма права).
-
3. Аналогия права, предусмотренная в законодательстве Российской Федерации, является формой судебного прецедента, поскольку содержит все признаки последнего.
-
4. Судебная норма казуальная, специальная и ретроактивная. Она не является подзаконной и не может регулировать основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, порядок пересмотра положений Конституции РФ.
-
5. Предлагается дополнить институт аналогии права нормами об обязательном запросе суда, рассматривающего дело, в Президиум ВС РФ о создании судебного прецедента.
Список литературы Аналогия права как форма судебного прецедента
- Бернан У. Правовая система США. 3-й выпуск. М.: Новая юстиция, 2006. 1216 с.
- Божок В. А. Институт аналогии в гражданском и арбитражном процессуальном праве: автореф. … дис. канд. юрид. наук. М., 2005. 32 с.
- Боннер А. Т. Избранные труды: в 7 т. Т. II. Источники гражданского процессуального права. М.: Проспект, 2017. 349 с.
- Боннер А. Т. Источники советского гражданского процессуального права. М., 1977. 69 с.
- Гук П. А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в правовой системе России: общетеоретический анализ: автореф. … дис. док. юрид. наук. М., 2012. 50 с.
- Коростелкина О. Н. Судебная практика и судебный прецедент в системе источников российского права: автореф. … дис. канд. юрид. наук. М., 2005. 24 с.
- Локк Дж. Послание о веротерпимости / Два трактата о правлении; пер. с англ. А. Л. Субботин. М.: Канон +, РООИ «Реабилитация», 2009. С. 15-66.
- Мкртумян А. Ю. Судебный прецедент в гражданском праве России и Армении: автореф. … дис. док. юрид. наук. М., 2011. 46 с.
- Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1-16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации / А. В. Асосков, В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко [и др.]; отв. ред. А. Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2020. 1469 с.
- Сипулин С. В. Судебный прецедент как источник права: автореф. … дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. 25 с.
- Судебная практика в современной правовой системе России: монография / Т. Я. Хабриева, В. В. Лазарев, А. В. Габов и др.; под ред. Т. Я. Хабриевой, В. В. Лазарева. М.: Проспект, 2020. 432 с.
- Фидаров В. В. Пределы допустимости применения института аналогии права и аналогии закона в правовой системе России: автореф. … дис. канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. 24 с.
- Шиндяпина Е. Д. Аналогия права в правоприменении: автореф. … дис. канд. юрид. наук. М., 2007. 25 с.