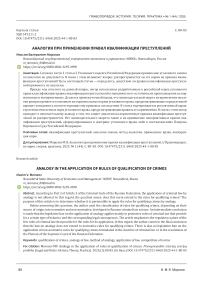Аналогия при применении правил квалификации преступлений
Автор: Морозов М.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 1 (44), 2025 года.
Бесплатный доступ
Согласно части 2 статьи 3 Уголовного кодекса Российской Федерации применение уголовного закона по аналогии не допускается. В связи с этим возникает вопрос: распространяется ли эта норма на правила квалификации преступлений? Цель настоящей статьи - определить, допустимо ли правила квалификации преступлений применять по аналогии. Прежде чем ответить на данный вопрос, автор использовал разработанную в российской науке уголовного права классификацию правил квалификации преступлений в зависимости от источника их происхождения на нормативные и ненормативные. Делается промежуточный вывод, что законодательный запрет на применение аналогии распространяется в основном на охранительные нормы уголовного права, предусматривающие определенный вариант поведения и соответствующие ему правовые последствия. В статье подчеркивается регулятивный характер немногочисленных норм уголовного права, предусматривающих правила его применения. В связи с этим автор приходит к окончательному выводу о том, что запрет аналогии на нормативные правила квалификации преступлений не распространяется. Нет законодательного запрета также и на применение ненормативных правил квалификации преступлений, сформулированных в доктрине уголовного права либо в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Квалификация преступлений, аналогия закона, метод аналогии, применение права, конкуренция норм
Короткий адрес: https://sciup.org/14133287
IDR: 14133287 | УДК: 343.211.2 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-44-1-80-83
Текст научной статьи Аналогия при применении правил квалификации преступлений
Правила квалификации преступлений — это «приемы, способы применения уголовного закона, предусмотренные в нем самом, руководящих постановлениях пленумов Верховных Судов РФ, РСФСР и бывшего СССР, а также выработанные судебной практикой и уголовно-правовой теорией» [1, с. 275]. Под правилом уголовно-правовой квалификации можно также понимать «нормативное либо выработанное судебной практикой или теорией уголовного права правило поведения субъекта квалификации по установлению и юридическому закреплению соответствия признаков фактического состава признакам уголовно-правового состава»[2, с. 231].
Круг правил квалификации преступлений довольно полно разработан в российской науке уголовного права, отражен в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и – частично — в уголовном законодательстве. Вместе с тем несмотря на это, в правоприменительной часто встречаются ситуации, в которых при неукоснительном соблюдении адресации этих правил, они не могут быть применены. Поэтому возникает вопрос о том, можно ли использовать такие правила применительно к схожим фактическим ситуациям, то есть, по сути, применив аналогию. В отечественной науке уголовного права ответ на него еще далек от каких-либо ясных очертаний, что обусловливает проведение исследования в рамках настоящей работы.
Материал и методы
В статье использованы: уголовный закон, официальные акты его толкования, специальная литература по предмету исследования. Основу исследования составили общенаучные и частнонаучные методы научного познания, анализ теоретических, нормативных правовых источников, а также судебной практики.
Описание исследования
Очевидно, что, решая поставленную задачу, сначала необходимо определиться с разновидностями правил квалификации преступлений. В теории уголовно-правовой квалификации данные правила принято делить в зависимости от содержащего их источника. Соответственно, выделяются правила, закрепленные в уголовном законодательстве (условно — нормативные правила), и названные в других, ненормативных источниках (ненормативные правила квалификации) [2, с. 232]. Так, В. Г. Шумихин к нормативным относит те правила квалификации преступлений, которые имеют в качестве своего источника уголовно-правовые или уголовно-процессуальные нормы. В число ненормативных правил автор включает те из них, которые исходят из судебной практики или уголовно-правовой теории [3, с. 19].
Следует отметить, что названия для указанных групп правил — «нормативные», «ненормативные» — достаточно условное, поскольку «ненормативные» правила также выполняют нормативную функцию, предписывая субъекту квалификации определенный вариант поведения. Разница между ними только в вариантах их закрепления — официальном (законодательном) или неофициальном. Данную функцию, по сути, подчеркивают некоторые юристы, раскрывая понятие «правило квалификации преступлений» через ключевое слово «предписание»[4, с. 156; 5, с. 25].
В первую из названных групп можно включить положения, закрепленные: в ч. 3 ст. 17 УК РФ — о квалификации при конкуренции общей и специальной норм; в ч. 4 ст. 34 УК РФ — о квалификации соучастия при наличии специального субъекта преступления; в ч. 5 ст. 34 УК РФ — о неудавшемся соучастии в преступлении и пр. Ко второй группе относятся правила квалификации преступлений, которые содержатся в официальных правотолковательных документах (постановления Пленума Верховного Суда РФ (РСФСР, СССР) и доктрине уголовного права.
Согласно ст. 3 УК РФ, преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом (ч. 1), при этом «применение уголовного закона по аналогии не допускается» (ч. 2). В данном случае следует обратить внимание на то, что при формулировании запрета аналогии законодатель использовал слово «применение». Под применением уголовного права, как верно отметил Е. В. Благов, следует понимать «принятие и закрепление решения о предусмотренности (или непредусмо-тренности) установленных фактических обстоятельств в соответствующей норме и об определении (или неопределении) содержащейся в ней меры уголовно-правового характера» [6, с. 73]. Это означает, что запрещено задействовать аналогию только при реализации тех норм, которые содержат определенный вариант поведения и его уголовно-правовые последствия. На предписывающие же нормы, получающие реализацию за счет исполнения, данный запрет не распространяется. Нормативные правила квалификации преступлений как раз и предусматриваются предписывающими нормами.
Таким образом, нормативные правила квалификации допустимо применять по аналогии. Например, частью 3 ст. 17 УК РФ предусмотрено правило квалификации преступлений при конкуренции общей и специальной норм, при выполнении которого правоприменителем признается, что совокупность преступлений отсутствует и предпочтение необходимо отдать специальной норме. Буквально это правило не распространяется на ситуацию, при которой, например, конкурируют две специальные нормы. Вместе с тем очевидно, что правило, предусмотренное частью 3 ст. 17 УК РФ должно использоваться и при таком виде конкуренции. Поэтому в данном случае допустимо, применив аналогию, воспользоваться этим правилом и при конкуренции нескольких специальных норм, при которой предпочтение будет отдаваться «более специальной» норме.
Так, убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта (ч. 2 ст. 107 УК РФ) будет предусматриваться «более специальной» нормой, чем убийство одного лица, совершенное в состоянии аффекта (ч. 1 ст. 107 УК РФ). При этом простой состав убийства предусмотрен общей нормой в ч. 1 ст. 105 УК РФ. Поэтому при такой конкуренции совокупность преступлений будет отсутствовать, а ответственность лица будет наступать только по ч. 2 ст. 107 УК РФ.
Другая группа правил — ненормативные правила квалификации преступлений — гораздо более объемна, поскольку к формулированию правил правоприменения законодатель относится весьма сдержанно. При отсутствии соответствующего нормативного правила квалификации преступления ненормативное правило формулируется, конечно, с учетом нормативных правил, противоречий им быть не должно.
Что касается возможности использования ненормативных правил квалификации преступлений по аналогии, то это не только допустимо, но и необходимо. Также это предотвращает систему данных правил от неоправданно большого количества и разброса директив правоприменителю. Изучение судебной практики же говорит о том, что разъяснения относительно квалификации отдельных преступлений, данные Верховным Судом РФ, задействуются и при квалификации других общественно опасных деяний.
Например, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» (в редакции от 24 мая 2016 г.) разъяснил особенности установления признака «совершение деяния лицом, находящимся в состоянии опьянения» применительно к преступлениям, предусмотренным ст. 264 и 264.1 УК РФ1.
Уже после вступления данной редакции постановления Пленума в силу в июне 2019 г. этот же признак был включен законодателем и в ст. 263 УК РФ (чч. 1.2, 2.1 и 4)2, однако разъяснения Пленума на эту статью УК не распространялись. Поэтому потребность судебно-следственной практики в правильном установлении признака «лицом, находящимся в состоянии опьянения» удовлетворялась с помощью аналогии. Очевидно, что Верховный Суд РФ не может реагировать на изменения в уголовном законодательстве настолько оперативно, насколько это устраивает правоприменительную практику. Более того, к настоящему времени разъяснение по поводу рассматриваемого признака Пленум ВС РФ на статью 263 УК РФ так и не распространил. Следует предположить, что это косвенно свидетельствует о молчаливом согласии Верховного Суда РФ с применением сформулированного им правила по аналогии.
Ряд разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда РФ, хотя и посвящены вопросам квалификации отдельных преступлений, в силу своей логической и уголовно-политической обоснованности могут и должны иметь универсальный характер. В этих случаях ограничение этих правил квалификации только рамками постановления Пленума следует расценивать как приведение примера, изложение образца, на основании которых правоприменитель может действовать и в других подобных случаях.
Например, в п. 15 постановления от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» Пленум Верховного Суда РФ по вопросу квалификации кражи, грабежа или разбоя отметил, что «при признании этих преступлений совершенными организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ»3. Тем самым Верховный Суд РФ официально закрепил правило квалификации преступлений, совершенных организованной группой, имеющее для правоприменителя базовое значение при квалификации практически любых преступлений, совершенных организованной группой.
Следует заметить, что Верховный Суд РФ редко дублирует такого рода правила в правотолковательных документах, посвященных квалификации различных видов преступлений. Так, например, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»4 какого-либо разъяснения относительно квалификации преступлений, совершенных организованной группой, независимо от роли в содеянном как соисполнительства без ссылки на статью 33 УК РФ не содержится. Несмотря на это, деяния, совершенные организованной группой, ответственность за которые предусмотрена п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 3 ст. 229, п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ и другими статьями Главы 25 УК РФ, квалифицируются с использованием того же правила, названного в постановлении Пленума № 14.
Так, действия организатора сбыта наркотических средств, не являвшегося исполнителем преступления, в приговоре Березниковского городского суда Пермского края были квалифицированы по ст. 228.1 УК без ссылки на ст. 33 УК РФ5. По той же статье и без ссылки на ст. 33 УК РФ Индустриальный районный суд г. Хабаровска квалифицировал организационные действия лица по сбыту наркотических средств, осуществлявшемуся иными лицами6. В обоих случаях суд установил совершение преступления организованной группой.
Таким образом, можно сделать вывод, что правило, распространяющееся на квалификацию кражи, грабежа и разбоя, применяется по аналогии при квалификации других общественно опасных деяний. Учитывая это, можно только согласиться с высказыванием А. В. Наумова о том, что «без судебного прецедента не обойтись при квалификации преступлений» [7, с. 144].
Заключение и вывод
Исходя из сказанного выше, следует вывод, что на Верховном Суде РФ лежит большая ответственность при даче разъяснений по поводу квалификации конкретных преступлений, потому что изложенное правило потенциально может быть использовано по аналогии применительно к квалификации преступления, не охватываемого рамками конкретного постановления Пленума. Поэтому особую значимость приобретает взаимодействие Верховного Суда РФ с представителями уголовно-правовой науки по вопросам проработки и обоснованию правил квалификации преступлений, соотнесению этих правил с выработанными в науке уголовного права принципами квалификации преступлений [8, с. 39–41].
Подводя итоги, можно также заключить, что допустимо применять по аналогии как нормативные, так и ненормативные правила квалификации преступлений. В первом случае аналогия не запрещена, потому что нормы, содержащие такие правила, реализуются в рамках регулятивных, а не охранительных правоотношений. Законодательный запрет аналогии распространяется только на применение права, но не на его соблюдение, исполнение или использование. Во втором случае правила квалификации преступлений, выработанные в науке уголовного права и/или изложенные в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, не существуют в виде правовых норм, поэтому запрет аналогии на них также не распространяется. Более того, использование правил квалификации, выраженных в постановлениях Пленума применительно к одной группе преступлений по отношению к другой группе криминальных посягательств способствует унификации данных правил и, в итоге, развитию теории квалификации преступлений.