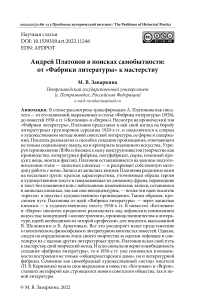Андрей Платонов в поисках самобытности: от "Фабрики литературы" к мастерству
Автор: Заваркина Марина Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена трансформация А. Платонова как писателя - от его заявлений, выраженных в статье «Фабрика литературы» (1926), до повестей 1930-х гг. («Котлован» и «Впрок»). Несмотря на иронический тон «Фабрики литературы», Платонов представил в ней свой взгляд на борьбу литературных группировок середины 1920-х гг. и подключился к спорам о художественном методе новой советской литературы, ее форме и содержании. Писатель размышлял о способах создания произведения, отвечающего не только социальному заказу, но и критериям подлинного искусства. Утрируя терминологию ЛЕФа и близких к нему конструктивистов (творчество как производство, литературная фабрика, полуфабрикат, сырье, полезный продукт, вещь, монтаж фактов), Платонов останавливается на важном подготовительном этапе - записных книжках - и раскрывает собственную методику работы с ними. Записи из записных книжек Платонова разделены нами на несколько групп: краткая характеристика, уточняющая образы героев в художественном тексте и показывающая их динамику; фразы, перешедшие в текст без изменения или с небольшими изменениями; записи, оставшиеся в записных книжках, так как они неподцензурны, - позже эти идеи писатель «прятал» в подтекст художественного произведения. Таким образом, прослежен путь Платонова от идей «Фабрики литературы» - через записные книжки - к художественному тексту 1930-х гг. В повестях «Котлован» и «Впрок» писатель продолжил размышлять над лефовским пониманием искусства: концепцией «жизнестроения», производственничества в литературе, идеей необходимости «второй профессии» для писателя, высказанной В. Шкловским и Б. Арватовым. Все это расширяет наше представление о политическом, философском и литературном контекстах повестей. Однако, следуя на определенном этапе своего творчества за идеями лефовцев и синтезируя их с идеями других литературных групп, Платонов искал свой путь к мастерству, свой творческий метод. И если сначала он верил в необходимость создания «фабрики литературы», то в 1930-е гг. уже сомневался в возможности построения не только «общепролетарского дома», но и литературной фабрики. Сомнение как своеобразный художественный «метод» писателя (Н. В. Корниенко) нашло свое выражение в повестях «Котлован» и «Впрок», ставших метафорой как строящегося нового советского общества, так и новой литературы.
А. платонов, фабрика литературы, литература 1930-х годов, котлован, впрок, повесть, очерк, хроника, записные книжки, леф, в. шкловский, творческая лаборатория, авторская позиция, художественный метод
Короткий адрес: https://sciup.org/147238871
IDR: 147238871 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.11246
Текст научной статьи Андрей Платонов в поисках самобытности: от "Фабрики литературы" к мастерству
П роизведения А. Платонова 1920–1930-х гг. написаны в сложный переходный период отечественной истории:
НЭП сменяется индустриализацией, коллективизацией, первыми «пятилетками», активным строительством социализма. Параллельно формируется советская литература — непосредственная участница строительства новой жизни, оформляется метод социалистического реализма, диктующий свои нормы и ведущий к политизации и идеологизации искусства. А. Платонов подключается к спорам о художественном методе новой литературы, ее форме и содержании, которые ведут ОПОЯЗ и формалисты, «Серапионовы братья» и Пролеткульт, конструктивисты, ЛЕФ и «Перевал», напостовцы и рапповцы, а также многие другие. Несмотря на то, что в 1920 г., будучи участником Первого Всероссийского съезда пролетарских писателей в Москве, на вопрос анкеты: «Каким литературным направлениям сочувствуете или принадлежите?» — писатель ответил: «Никаким, имею свое»1, — он все же пытался соответствовать духу эпохи. Об этом свидетельствуют, в частности, его рецензии 1924 г. на журналы «ЛЕФ», «Звезда», «На посту», «У станка»2, а также статьи «Фабрика литературы (О коренном улучшении способов литературного творчества)» (1926)3 и «Великая Глухая» (1930)4, посвященные литературному процессу того времени.
Этот историко-литературный контекст важен не сам по себе, а как ступенька к пониманию смысла платоновского творчества. Л. Шубин писал: «Критика Андрея Платонова тесно связана с его творчеством. И дело, разумеется, не только в том, что можно легко установить перекличку идей, встретить порой буквальное совпадение отдельных формулировок, — важно другое: единство подхода писателя к жизни, сложный, духовно напряженный мир размышлений Платонова о взаимоотношениях человека и природы, постоянная забота о практических и душевных потребностях трудящегося человека, стремление своей литературной работой помочь этим людям понять себя, других людей и природу, выяснить смысл “своего и общего существования”» [Шубин: 231], (см. также: [Корниенко, 2011: 660]).
В первой половине 1920-х гг. взгляды Платонова, по замечанию Н. М. Малыгиной, «отчасти совпадали с представлениями теоретиков левого искусства, которые считали, что новая литература должна заниматься проектами реального жизнестро-ения» [Малыгина: 19]. В 1924 г. Платонов публикует рецензию на первые четыре номера журнала «ЛЕФ», где сравнивает два подхода к искусству: А. Воронского и группы «Перевал» («Искусство — познание жизни») и лефовский («Искусство — метод жизнестроения»)5. На протяжении всего творчества Платонов будет балансировать между ними (многое при этом заимствуя в начале творчества у Пролеткульта и критически осмысляя его идеи позже); но тогда, в 1924 г., судя по рецензии, он отдавал предпочтение платформе ЛЕФа (см. также: [Лангерак : 39],
[Корниенко, 2004: 437]). «Производственничество», «стремление уравнять искусство в правах с жизнью и поставить жизнь выше искусства» [Белая: 325] — все это было близко инженеру Платонову, увлекавшемуся в то время проективной философией А. Богданова и Н. Федорова, а также лично принимавшему участие в устройстве нового быта и новой жизни. Концепция В. Шкловского о необходимости для писателя иметь «вторую профессию»6 и идея Б. Арватова о писателе-инженере7 тоже были восприняты Платоновым как свои8. В 1926 г. Платонов написал статью «Фабрика литературы», которая отражала его взгляды на борьбу литературных группировок середины 1920-х гг.9, но так и не была опубликована при жизни писателя10. Статья, по мнению Т. Лангерака, «навеяна всем комплексом “левых” идей о литературе — от пролеткультовской идеи о коллективном творчестве до идеи Арватова о “писателе-инженере”» [Лангерак: 86]. Другой адресат статьи — В. Шкловский, который в июне 1926 г. выпустил книгу «Третья фабрика» — в ней упоминался в том числе и А. Платонов11.
Как указывает Н. В. Корниенко, слово «фабрика» — «одно из любимых в словаре лефовцев, конструктивистов и близких к ним критиков» двадцатых годов XX в. [Корниенко, 2016: 771]. Несмотря на ироничный, а порой и сатирический тон статьи, в результате чего многие исследователи увидели в ней пародию на современный литературный процесс [Горская]12, Платонов вполне серьезно размышляет о способах создания произведения, отвечающего не только социальному заказу, но и критериям подлинного искусства. Утрируя лефовскую и конструктивистскую терминологию (творчество как производство, литературная фабрика, монтаж фактов; произведение искусства как «вещь», «полезный продукт»), Платонов останавливается на важном подготовительном этапе — записных книжках, используя термины «сырье» и «полуфабрикат» (ФЛ: 366). Известно, что лефовцы предлагали вводить новые формы и жанры литературы на смену старым: так, роман они хотели заменить «литературой факта», к которой относили «биографию конкретного человека, отчет из зала суда, протокол собрания, записную книжку» (выделено нами. — М. З.) [Корниенко, 2010: 145]13. Фрагмент о роли «полуфабриката» в художественном творчестве написан Платоновым, по мнению Н. В. Корниенко, под влиянием статьи В. Маяковского — «Как делать стихи?», в особенности — его размышлений о роли «заготовок» из записных книжек в создании художественного произведения [Корниенко, 2016: 771, 786]: «…“записная книжка” — одно из главных условий для делания н а с т о я щ е й вещи»14.
В творчестве любого писателя записные книжки играют важную роль: они становятся не только его мастерской, в которой созревают идеи, планы и наброски будущих произведений, но и «подспорьем» для исследователя, так как позволяют заглянуть в творческую лабораторию. Несмотря на то, что Б. С. Мейлах определил словосочетание «творческая лаборатория» как метафору, заимствованную из области естественных наук и ничего не дающую для изучения наследия писателя [Мейлах: 42], после публикации записных книжек и тетрадей Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. А. Блока15 и других классиков началось активное изучение записных книжек именно как «творческой лаборатории» (см., напр.: [Розенблюм, 1965, 1981], [Битюгова], [Паперный]).
Записные книжки Платонова при жизни писателя не издавались, первые отрывочные публикации стали появляться только с конца 1960-х гг. В 2000 г. коллективом ИМЛИ РАН под руководством Н. В. Корниенко были расшифрованы и опубликованы 24 записные книжки писателя — на сегодняшний день это самая полная публикация16. Термин-метафора «творческая лаборатория» отражает подход А. Платонова к собственным записным книжкам как к «литературному сырью», которое, однако, по его мнению, предназначено сугубо для писателя, и его публикация — «признак неуважения к читателю», потому что «питать читателя сырьем нельзя» (ЗК: 279). Свою методику работы с этим «сырьем», которое можно превратить в «полуфабрикат», а затем и в «полезный продукт» (ФЛ: 366), то есть в художественное произведение или очерк, Платонов впервые метафорически описал как раз в статье «Фабрика литературы»: «…надсаживаясь над сырьем, медленно шествуя через сырье, полуфабрикат к полезному продукту» (ФЛ: 366). Рассуждая в статье о роли новой литературы как «социальной вещи» (ФЛ: 363) и предлагая соответствующую ей технологию процесса создания произведения, Платонов указывает на подчинительный характер понятий «сырье» и «полуфабрикат» по отношению друг к другу — как художественного слова (прежде всего народной речи (ФЛ: 364)) и сюжета17. Однако писатель дополняет значение слова «полуфабрикат»: по Платонову, полуфабрикат — это не только готовая запись в записной книжке или газетная вырезка. Полуфабрикатами (или сюжетами) могут быть мифы, а также события из жизни самого писателя (ФЛ: 364), т. е. Платонов пытается расширить тематический и сюжетный диапазон произведения.
В советской критике того времени «полуфабрикатом» нередко называли также жанр очерка. Позже такой подход уже вызывал критику: «Умалению роли очерка служит и теория “полуфабриката”, отрицавшая самостоятельное значение этого жанра, сводившая очерк только к роли сырья для большого художественного произведения» [Пельт: 10]. Платонов, уделявший жанру очерка огромное значение, не мог согласиться с тем, что очерк не самостоятельный жанр, как и с тем, чтобы литература была лишь литературой факта, «картинкой с натуры», «протоколом жизни», к чему призывали лефовцы: «…я за запах души автора в его произведениях и, одновременно, за живые лица людей и коллектива в этом же произведении» (ФЛ: 363).
Первое название статьи «Фабрика литературы» — «О литературном монтаже»: в ней Платонов предлагает свое понимание искусства монтажа, характерного не только для кино, но и для литературы и состоящего, по мнению писателя, в «связывании» литературного и жизненного материала «цементом из личного багажа» ( ФЛ : 365), что проявляется уже на этапе работы с записными книжками и тетрадями:
«…я листаю вечером тетрадь, останавливаюсь на заинтересовавшей меня записи <…>, беру ее за центр, за тему и работаю <…>: беру целые диалоги, описания улиц, воздуха, обстановки <…> — все по готовому, лишь слегка изменяя их, соответственно замыслу…» ( ФЛ : 365).
Здесь мы также видим влияние терминологии и методологии ЛЕФа: ведь именно лефовцы предлагали заменить сюжет и в целом произведение «монтажом фактов», или «факто-монтажом»18. И. Чубаров, например, не находит в статье «Фабрика литературы» ни иронии, ни тем более пародии и считает, что идея монтажа «полуфабрикатов» является «редакцией лефовской “литературы факта” и версией вертовской идеи “коммунистической расшифровки” действительности средствами кино» [Чубаров: 234].
Итак, записные книжки были признаны и лефовцами, и самим Платоновым важным этапом в работе над произведением. Жизненный материал «входил» в записные книжки Платонова неравномерно, так же неравномерно он «перековывался» в литературный и художественный. Т. А. Снегирева и А. В. Подчиненов выделили несколько механизмов переноса фрагментов из записных книжек в текст художественного произведения: 1) «фрагмент переносится без видимых изменений» (записные книжки С. Довлатова); 2) «фрагмент переносится со значительными изменениями» (записные книжки А. Чехова); 3) «контаминация разных фрагментов записной книжки» (записные книжки Вен. Ерофеева); 4) «разворачивание текста» (сюда можно отнести помимо названных авторами классификации записных книжек А. Твардовского — записные тетради Ф. М. Достоевского) [Снегирева, Под-чиненов: 124–126].
Очевидно, что данная классификация достаточно условна, так как в реальности у каждого писателя можно найти все четыре механизма перехода записей из записной книжки в художественный текст. То же самое можно сказать и о записных книжках А. Платонова, в которых собран «разножанровый материал»: «Это размышления об искусстве, истории, портретные зарисовки, афоризмы, случаи из жизни, анекдоты, стихи, сказки, очерки, наброски и фразы из будущих произведений» [Каверина: 191]. Как же распределялся весь этот материал? Если говорить современным Платонову языком «производственного искусства» — как писатель «размораживал» и «готовил» литературный и жизненный «полуфабрикат», как использовал прием монтажа в художественных и публицистических произведениях, а также в очерках? Согласимся с Н. В. Корниенко, что «за всеми произведениями Платонова эпохи “великого перелома” стоят записные книжки, в которых абсолютно нелитературные записи <…> перемежаются с собранием “заготовок”, планов, замыслов художественных произведений» [Корниенко, 2000a: 8]. Записи из записных книжек Платонова не только расширяют наше представление о политическом, философском и литературном контекстах повестей, но и позволяют проследить путь писателя от идей «Фабрики литературы» — через записные книжки — к художественному тексту 1930-х гг. В повестях 1930-х гг., в частности «Котлован» и «Впрок», писатель продолжил размышлять над лефовским пониманием искусства: концепцией «жизне-строения», производственничества, идеей необходимости «второй профессии» для писателя, высказанной В. Шкловским и Б. Арватовым.
Записи из записных книжек, относящихся к творческой истории повестей 1930-х гг., можно разделить на несколько групп: 1) краткая характеристика, углубляющая наши представления об образе главного героя и образах других персонажей и представляющая их динамику; 2) фразы, перешедшие в окончательный текст без изменений или с небольшими изменениями (афоризмы, бюрократические и идеологические штампы, ставшие приметой платоновского идиостиля, работа с «народным» словом) — эти записи также позволяют углубить наше понимание того или иного образа и раскрыть смысл происходящего в тексте, то есть проявить авторские интенции; 3) записи, оставшиеся в записных книжках, но также помогающие уточнить авторскую позицию в окончательном художественном тексте, ведь из-за цензуры и автоцензуры писатель не мог публиковать бόльшую часть своих произведений, а после его смерти они были изданы с купюрами, а также со значительной смысловой правкой. Это коснулось и самих записных книжек19, так как многие, порой «крамольные» для советской власти мысли переходили сначала в них, а затем и в подтекст произведения, не очевидный для неискушенного читателя. Кроме того, С. Каверина выделяет в «отдельный блок записей» «жанр черновика произведения », по которому «можно проследить историю создания того или иного платоновского текста», и «жанр “ чернового сознания ” писателя»: «…пометки, фиксирующие размышления писателя о философских учениях, социальных явлениях, изменяющейся стране и народе, об искусстве…» [Каверина: 195, 192]. Последние две группы записей частично проанализированы исследователями, в том числе в комментариях к публикации записных книжек [Корниенко, 2000b] и повестей 1930-х гг. [Дужина, Умрюхина], поэтому приведем некоторые новые примеры из первых трех групп.
-
1) Роль краткой характеристики персонажа
Повестям «Котлован» и «Впрок» посвящены вторая и третья записные книжки. Согласимся с Н. И. Дужиной и Н. В. Ум-рюхиной, что над повестью «Котлован» (1930)20 Платонов «работает тщательно, продумывая сюжет, эпизоды, характеры персонажей, что фиксируют две записные книжки писателя» [Дужина, Умрюхина: 506]21. Так, главный герой повести Вощев назван в записной книжке «человеком-видением» ( ЗК : 37), а его судьба уже была предрешена автором на этапе замысла: «Вощев-видение гибнет от < нрзб. > все чуял» ( ЗК : 39). Эти слова, во-первых, поясняют характеристику Вощева, которая перешла в основной текст произведения: «слабосильность» и «задумчивость» его «среди общего темпа труда»22, за что героя уволили с механического завода, и он оказался исключенным из коллектива, существование вне которого в советское время было невозможно; во-вторых, раскрывают его желание «почувствовать» или «выдумать» истину, смысл жизни и счастье ( «… близкую дорогу — от чувства до помышления [ истины ] его в истине — Вощев и желал немедленно преодолеть » ( ДТ : 179); «Я мог бы выдумать что-нибудь, вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность» ( Котлован : 72) ) . Однако Вощев понимает, что одного чувства или мысли мало для истины, поэтому другое замечание Платонова о Вощеве в записной книжке: «Его мысли=поступ-кам» ( ЗК : 37) — объясняет, почему главный герой приходит на котлован и вместе с рабочими пытается добыть « мысленную истину » и « осуществить » ее « всюду » ( ДТ : 178). Эта идея уже
звучала в ранней публицистике Платонова и в повести «Эфирный тракт» (1926–1927):
«…догадаться об истине нельзя, до нее можно доработаться: вот когда весь мир протечет сквозь пальцы работающего человека, преображаясь в полезное тело, тогда можно будет говорить о полном завоевании истины. <…> Понять — это значит прочувствовать, прощупать и преобразить»23.
В записной книжке Платонов дает еще одну характеристику герою: «Вощев — наружная душа, даже голос ее ноет вслух (?) наружи» ( ЗК : 40). О. Мороз отмечал стремление писателя и его героев заполнить пустоту в голове через распахнутую душу [Мороз: 291]. Ощущая внутри себя пустоту без истины, вплоть до физического голода ( «У меня без истины тело слабнет, я трудом кормиться не могу» ( ДТ : 187) ) , Вощев приходит на котлован. Его привлекает отношение рабочих к истине как к «вещи»24, что отражает, в том числе, пафос жизнестроения, представленный лефовцами в своих статьях 1920-х гг. Платонов в повести «Котлован» буквально воплощает не только метафору «докопаться до истины», но и метафору «делания вещи», «делания жизни», превращения земли в «полезный продукт»: «До вечера долго, — сообщил Сафронов, — чего жизни зря пропадать, лучше сделаем вещь» ( Котлован : 80). В статье «Фабрика литературы» Платонов писал о «делании вещи» — литературном произведении — и связывал «искусство не с продуктом творчества и даже не с духовной жизнью человека <…>, а с телесностью — с процессами, происходящими в психофизиологической плоскости» [Мороз: 291]:
«Писатель распахивает душу, — вливайся, вещество жизни, полезная теплота эпохи, — и превращайся в зодчество литер, в правду новых характеров…» ( ФЛ : 361).
Так, в рукописи осталась сцена, в которой Вощев пишет заявление о приеме на работу и называет истину «организационным началом человека» ( ДТ : 183). Здесь можно видеть влияние не только идей «организационной науки» А. Богданова, о чем уже писали ранее (см.: [Дужина: 106–110], [Заваркина: 42–52]), но и лефовских идей: в отличие от рабочих, которые олицетворяют «производство», и Прушевского, который связан с наукой, Вощев должен был, по замыслу писателя, заниматься «организацией опыта» и нести культуру и просвещение в массы — «дать настроение народу», чтобы исчезла «культурная скудость» пролетариата ( ДТ : 183)25. Котлован в таком случае превращается в огромную «фабрику» по производству и дома, и истины (смысла), о чем Платонов рассуждал уже в статье «Фабрика литературы», когда писал о создании истинной социальной литературы.
В повести Вощев даже готов на какое-то время отказаться только от выдумывания (сочинения) истины и ищет «вторую» профессию — встает в ряды рабочих (призыв Арватова и Шкловского), однако ненадолго:
«— Говорили, что все на свете знаете, — сказал Вощев, — а сами только землю роете и спите! Лучше я от вас уйду…» ( Котлован : 92).
Платонов подчеркивал противоречие между главным героем и рабочими: Вощев стремится познать истину о мире через интуицию, рацио и эмоцио, но у него это плохо получается (в итоге герой, как говорится в записных книжках, «потерял высоту жизни», «не заметил, как прожил без смысла жизни» (ЗК: 43)), а рабочие — только через труд, через добывание истины из земли26, т. е. через материю, но и они терпят поражение. Писатель в ткани художественного текста словно ищет выход из спора о двух подходах: 1) «Искусство — познание жизни» и 2) «Искусство — метод жизнестроения», о котором он писал в 1924 г. в рецензии на журнал «ЛЕФ»27. Уже тогда, в 1924 г., анализируя два эти подхода, писатель предлагал нечто среднее между ними и стоял на позиции своего будущего героя Воще-ва, соединившего в себе мысль и чувство:
«Но ведь организовать эмоцию это значит — через эмоцию организовывать деятельность человека, иначе говоря, строить жизнь »28.
«Котлован» продолжает размышления Платонова о возможностях построить не только «общепролетарский дом», но и «фабрику литературы», и представляет собой гигантскую метафору как строящегося социалистического общества, так и всех литературных споров того времени. Таким образом, нужно анализировать не только политический, философский и литературный контексты повести, которые наиболее полно представлены, например, в работе Н. И. Дужиной [Дужина], но и контекст современной Платонову литературно-критической мысли.
Однако вместо фабрики и дома у платоновских рабочих получается только котлован, который превращается во все более и более разрастающуюся яму. Нет даже «базиса» — фундамента, не говоря уже о «надстройке», так как нет души, которую так ищет Вощев. «Равнодушие», «равнодушный» — самая частая характеристика, которой наделяет Платонов своих героев в «Котловане:
«Чиклин вонзил лопату в верхнюю мякоть земли, сосредоточив вниз равнодушно-задумчивое лицо…» ( Котлован : 78); «Козлов поглядел на Сафронова красными сырыми глазами и промолчал от равнодушного утомления» ( Котлован : 79); Прушевский «лег в кровать и заснул со счастьем равнодушия к жизни» ( Котлован : 83); Прушевский в своей душе «установил особое нежное равнодушие, согласованное со смертью…» ( Котлован : 86).
Равнодушна даже природа:
«Уныло и жарко начинался долгий день; солнце, как слепота, находилось равнодушно над низовою бедностью земли…» ( Котлован : 96).
Вспомним требование Платонова, высказанное в статье «Фабрика литературы»: о необходимости в произведении искусства, как и в любом творческом акте, — в том числе строительстве дома для будущего поколения — души автора или зодчего.
-
2) Фразы, перешедшие в окончательный текст без изменений или с небольшим изменением
Некоторые записи из записных книжек перешли в тексты Платонова почти без изменений и имеют «жанровую форму пословиц, поговорок, афоризмов, являющих “в чистом виде” особость платоновского слова…» [Каверина: 194]. В. Вьюгин приводит некоторые фразы, которые «перекочевали» из записных книжек в текст «Котлована», поэтому мы повторять их не будем29. Обратимся к записям, относящимся к повести «Впрок» (написана весной 1930-го, опубликована в 1931 г. в журнале «Красная новь»).
Во второй записной книжке есть запись, которая перешла в повесть без изменений: «Догнать, перегнать и не умориться» (ЗК: 31). В работе над повестью-хроникой «Впрок», соединившей в себе черты жанров повести, хроники (иногда переходящей в кинохронику) и очерка, Платонов также следовал некоторым формальным требованиям ЛЕФа к жанру путевого очерка: «…к особенностям путевых очерков ЛЕФа относится преобладание публицистического, документального над художественным, стремление изобразить путешествие максимально подробно, естественно, создав у читателя впечатление присутствия в описанном <…>, в произведениях проявляется кинематографическое начало: показывается “динамическая ситуация наблюдения”, текст собирается методом монтажа разных картин, планов, представляет собой набор сцен <…>. Это помогает придать очеркам ощущение достоверности изображаемого…» [Николаева: 278]. Так, стремясь к достоверности описываемых событий, Платонов сталкивает взгляды повествователя, главного героя и других персонажей. Используя прием «монтажа кадров» (или «монтажа фактов»), писатель дает панорамное освещение строящейся колхозной жизни, добиваясь эпичности изображения. Как в кино, взгляд главного героя — «душевного бедняка» — постоянно меняет свой ракурс, действие то замедляется, то ускоряется, Платонов использует разные точки зрения на события30.
Например, если в начале произведения жители колхоза «Доброе начало» просят главного героя помочь отремонтировать искусственное солнце, которое будет им «впрок», чтобы «догнать-перегнать в технике, науке и культуре» город31, то в последнем на его пути колхозе под названием «Утро человечества» героя просят остаться и решить «великую задачу», чтобы «догнать, перегнать и не умориться» ( Впрок : 63). В повести, запечатлевшей платоновское восприятие проводимой в стране коллективизации, писатель задается вопросом: «А будет ли впрок народу такая коллективизация?». Согласимся с Н. В. Корниенко, что «не в коллективных формах хозяйствования на земле видел Платонов больные и страшные вопросы коллективизации, а в разрушении уклада жизни русской деревни, ее повседневного обихода и традиционных ценностей…» [Корниенко, 2000а: 11].
В записной книжке осталась запись, которая перешла в измененном виде в первую редакцию повести «Впрок» (во вступление «От составителя»), но не дошла до окончательного текста: она касается образа главного героя — «душевного бедняка» — и поясняет выбор жанра произведения (повесть-хроника):
«[Предисловие: не парой глаз, а глазами коллектива, против претворен<и я> действ<ительности> в одном субъекте.]» ( ЗК : 31) /
«ибо составитель считает, что хроника [ о ] обязана иметь [ не ] своим содержанием не [ запечатленное чувство или ] запавшее чувство или запечатленное сознание одного субъекта, а те-же свойства целого коллектива»32.
Если в первой редакции повесть имела вид цикла очерков, то во второй (окончательной) редакции Платонов выстраивает все повествование как «рассказ в рассказе», что позволяет избежать прямых авторских оценок и реализовать установку на многоголосие, сопряжение нескольких точек зрения. Связь с историческим временем писатель декларирует через второе жанровое определение — хроника, что указывает на особую сюжетно-композиционную организацию текста и актуальность поднятых проблем.
Вступление «От составителя», оставшееся в первой редакции повести33, имеет важное значение для прояснения как образа главного героя, так и творческой установки Платонова рубежа 1920–1930-х гг. В нем Платонов подключился к спорам, которые велись между РАППом и «Перевалом» о творческом методе пролетарской литературы. Платонов в поиске героя обращается к образам Моцарта и Сальери34: тем самым писатель, по мнению Н. В. Корниенко, «откорректирует претензии критиков “Перевала” на моцартианские традиции советской литературы», за которыми он увидел «стремление литературы снять с себя ответственность за трагическую реальность современной России» [Корниенко, 1993: 154]35. На своем творческом вечере (1932) Платонов скажет, что «между искусством и действительностью сблизилось расстояние»36, а в статье «Великая Глухая» (1930), ставшей своеобразным продолжением «Фабрики литературы», признается, что «сидеть и писать» в настоящее время трудно, нужно «строить» само «социалистическое вещество»37. Однако и РАППовская позиция, превращавшая литературу в «Великую Глухую», не устраивала Платонова. Он ищет пути совмещения различных творческих установок, т. к. «художественный метод не может быть одним»38, мечтает о творческом союзе «технически и культурно не вооруженных пока Моцартов-пролетариев» с «мощно вооруженными», но без «душевной мускулатуры» Сальери39. Таким образом, во вступлении уточнялась жанровая концепция героя: «душевный бедняк» Платонова — это и Моцарт, и Сальери — созерцатель и деятель одновременно (к чему стремился Вощев в «Котловане», но безуспешно). Во второй (окончательной) редакции повести размышление о моцартах и сальери советской литературы сократилось до одного абзаца:
«Если мы в дальнейшем называем путника как самого себя (“я”), то это — для краткости речи, а не из признания, что безвольное созерцание важнее напряжения и борьбы. Наоборот, в наше время — бредущий созерцатель — это, самое меньшее, полугад, поскольку он не прямой участник дела, создающего коммунизм. И далее — даже настоящим созерцателем, видящим истинные вещи, в наше время быть нельзя, находясь вне труда и строя пролетариата, ибо ценное наблюдение может произойти только из чувства кровной работы по устройству социализма» ( Впрок : 7–8).
-
3) Записи, оставшиеся в записных книжках, но ушедшие в подтекст произведения и раскрывающие суть происходящего в тексте
Платонова часто обвиняли в бессюжетности произведений, плохой мотивировке событий, двусмысленности авторской позиции. Многие авторские интенции в таких случаях помогают уточнить записи из записной книжки. Так, во «второй» записной книжке есть фраза, объясняющая ху дожественный гиперболизм повести «Впрок»:
«Борьба с перегибами бывает иногда тоже перегибом. 20-ти летнего рабочего арестовали за то, что он слушал пред<седателя> коммуны, котор<ый> оказался кулаком. Но рабочий ведь не мог ориентироваться, и арест его, вместо просветит<ельской> помощи, — перегиб» ( ЗК : 29).
Известно, что повесть «Впрок» стала ответом Платонова на сталинские статьи конца 1929–1930 гг. «Год великого перелома: к XII годовщине Октября», «Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения», «Ответ товарищам колхозникам», в которых обсуждалась проблема «перегибов на местах». Однако — и это очень важно — в повести «Впрок» Платонов отвечает не только на статьи Сталина, но и на статьи М. Горького о жанре очерка, новой правде, коллективизации. Платонов полемизирует с горьковской трактовкой «новой правды», которую должен был утверждать советский очерк40. Изучение историко-литературного контекста показало: платоновский образ-понятие «душевный бедняк» может быть интерпретирован и как перифраз «Письма селькору-колхознику» (1930) М. Горького, который в начале 1930-х гг. активно поддерживал идею «переделки» деревни и «раскрестьянивания»41:
«…беднякам ясно было, что единоличное, частное хозяйство на земле — петля для них, видели они, что именно в деревне <…> плетет крепкую паутину <…> кулак-мироед <…> и в душу большинства крестьян глубоко вросло желание <…> превратиться тоже в кулаков <…> кулацкая психика — “душа” — свойственна и беднякам » (курсив мой. — М. З. )42.
В повести «Впрок» писатель обращается к сюжету «поиска правды» — правды о коллективизации, которая у каждого героя своя (в отличие от объективной истины, которую ищут герои «Котлована»). Эта правда, по мнению писателя, может быть
«горькой», но только не Горьковской43. Однако чтобы скрыть в повести авторскую позицию (хотя Сталин — как главный читатель повести — все понял правильно, и, возможно, это входило в авторский замысел44), Платонов прибегает к иронии и коммуникативной стратегии анекдота. По мнению Б. А. Успенского, иронический эффект возникает тогда, когда автор (а поскольку ирония входит в авторский замысел, то здесь можно вести речь об авторе, наиболее приближенном к автору биографическому) вдруг меняет свою позицию, «притво-ряется»45, и на время происходит несовпадение авторской и читательской точек зрения [Успенский: 209]. Так, у Платонова «одобрение» повествователя или рассказчика может тут же, в пределах одной сцены, находить свое «разоблачение», и тогда читателю становится понятно, что на самом деле перед ним авторская ирония. В таких случаях Платонов использует коммуникативную стратегию анекдота, для которой тоже характерен «сдвиг точек зрения», когда «все происходящее воспринимается сначала с одной точки зрения, а потом неожиданно оказывается, что воспринимать надо было с совершенно другой (то есть рассказчик стоит на другой позиции)» [Успенский: 211]. Например, после вставной новеллы о Верещагине (в первой редакции имевшей название: «Послушайте рассказ об одном мужике, который перехитрил целое государство» 46), служащей примером «полезной сатиры»
о «вредителях коллективизации», следуют рассуждения о «перегибах» и «разгибах» ( Впрок : 20), которые можно отнести уже к сатире «с враждебных классовых позиций». Или: после похвал (хотя и на грани сатиры) в адрес Кондрова ( «В чем же причина такого бесперебойного проведения генеральной линии? По-моему, в самостоятельно размышляющей голове Кондрова. Многих директив района он просто не выполнял» ( Впрок : 20) ) повествователь рассказывает о «недостойном факте», когда попросившего «сделать сводочку» предрика Кондров ударяет кулаком, обернутым газетой «Правда», видя в такой бюрократической просьбе «перегиб» ( Впрок : 21). В этой сцене невозможно не заметить недоверие героя, повествователя и стоящего за ними Платонова к той новой «правде», которая утверждалась в советской печати, а также сочувствие к Конд-рову, который, как и сотни других «перегибщиков», просто запутался в «играх» власти с народом. «Дрессировщики масс» ( Впрок : 25) — такой вывод делает «борец с неглавной опасностью», выражая авторскую точку зрения.
В одной из записных книжек Платонова 1934 г. есть запись: «Перемытая ткань истории лучшее сырье для будущего, чем свежесть девственного перегноя. Пессимизм лучшая руда для оптимизма» ( ЗК : 137). В этих словах — особенность творческого метода писателя, состоящего в проживании и попытке осмысления своего и чужого исторического времени — попытке, зачастую пессимистичной, но без желания вынести этому времени приговор. И именно записные книжки как эго-документ помогают сегодняшнему читателю в этом историческом времени и авторском взгляде на него адекватно разобраться, несмотря на сильную внутреннюю цензуру и внешнюю конъюнктуру. Записные книжки стали квинтэссенцией творчества А. Платонова, важным этапом подготовки художественного текста, отражающим все его составляющие: от появления замысла до проработки фразы, диалога, образов героев, сюжета. Особенно значимы они для понимания текста и контекста повестей 1930-х гг., так как позволяют заглянуть в творческую лабораторию и не только проанализировать писательскую работу с сюжетом, художественным образом, идеей, но и принять участие в «рождении» платоновской фразы — философичной и афористичной по своей сути.
Однако сам Платонов считал, что записные книжки предназначены сугубо для писателя и воспринимал их только как определенный, хотя и важный, этап в создании художественного текста. Следуя за идеями лефовцев (синтезируя их при этом с идеями других литературных групп), Платонов искал свой творческий метод и продолжал размышлять над содержанием и формой новой советской литературы. Можно сказать, что он искал свой путь к мастерству — однако без тех контекстных значений, которые придавали этому слову «перевальцы» и которые вкладывал в него сам Платонов на этапе «Фабрики литературы»: «…литература — социальная вещь, ее, естественно, и должен строить социальный коллектив, лишь при водительстве, при монтаже одного лица — мастера, литератора» ( ФЛ : 363). Если в начале и даже в середине 1920-х гг. Платонов верил в необходимость создания «фабрики литературы», то в 1930-е гг. он уже сомневался в возможности построения не только «общепролетарского дома», но и литературной фабрики — особенно на утилитарных началах. Сомнение как своеобразный художественный «метод» писателя [Корниенко, 1997: 176] нашло свое выражение в повестях «Котлован» и «Впрок», ставших метафорой как строящегося нового советского общества, так и новой литературы.
Список литературы Андрей Платонов в поисках самобытности: от "Фабрики литературы" к мастерству
- Белая Г. А. Дон Кихоты революции — опыт побед и поражений. М.: РГГУ, 2004. 623 с.
- Битюгова И. А. Записные книжки А. П. Чехова // Битюгова И. А. К творческому портрету Н. А. Некрасова и А. П. Чехова. Сталинир: Госиздат Юго-Осетии, 1959. С. 159-253.
- Горская О. А. Символический образ хлеба и читательско-писательская коллизия в сатирических произведениях А. П. Платонова 1920-х гг. // Культурологический журнал. 2013. Вып. 4 (14) [Электронный ресурс]. URL: http://cr-journal.ru/files/file/04_2014_18_24_11_1397485451.pdf (20.05.2022). EDN: RQQHDF
- Дужина Н. И. Путеводитель по повести А. П. Платонова «Котлован». М.: Изд-во МГУ, 2010. 184 с.
- Дужина Н. И., Умрюхина Н. В. Комментарии // Платонов А. Сочинения. Т. 4: 1928-1932. Кн. 1. Повести. М.: ИМЛИ РАН, 2020. С. 348-652.
- Заваркина М. В. Жанровая стратегия в повестях А. П. Платонова 1930-х годов: дисс. ... канд. филол. наук. Петрозаводск, 2013. 212 с.
- Каверина С. А. Специфика соотношения фрагмента и целого в «Записных книжках» А. Платонова // Жанры в историко-литературном процессе. СПб., 2008. Вып. 4. С. 190-197.
- Корниенко Н. В. История текста и биография А. П. Платонова (19261946) // Здесь и теперь. 1993. № 1. 320 с.
- Корниенко Н. В. Основной текст Платонова 30-х годов и авторское сомнение в тексте (от «Котлована» к «Счастливой Москве») // Современная текстология: теория и практика. М.: Наследие, 1997. С. 176-192.
- [Корниенко Н. В.] «Жить ласково здесь невозможно.» (Из литературного наследия А. Платонова 1920-1927 гг.) / вступ. ст. Н. В. Корниенко, публ. М. А. Платоновой, подгот. текста Е. Антоновой, М. Гах, О. Капель-ницкой, Н. Корниенко, Н. Малыгиной, Л. Суматохиной, Е. Шубиной, Е. Яблокова // Октябрь. 1999. № 2. С. 119-153.
- Корниенко Н. В. Предисловие // Платонов А. П. Записные книжки. Материалы к биографии / публ. М. А. Платоновой; сост., подгот. текста, предисл. и примеч. Н. В. Корниенко. М.: Наследие, 2000. С. 3-14. (а)
- Корниенко Н. В. Примечания // Платонов А. П. Записные книжки. Материалы к биографии / публ. М. А. Платоновой; сост., подгот. текста, предисл. и примеч. Н. В. Корниенко. М.: Наследие, 2000. С. 309-409. (Ь)
- Корниенко Н. В. Комментарии // Платонов А. Сочинения. Т. 1: 1918-1927. Кн. 2. Статьи. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 429-466.
- Корниенко Н. В. «Нэповская оттепель»: становление института советской литературной критики. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 504 с.
- Корниенко Н. В. Комментарии // Платонов А. П. Фабрика литературы: литературная критика, публицистика. М.: Время, 2011. С. 659-714.
- Корниенко Н. В. Комментарии // Платонов А. Сочинения. Т. 2: 1926-1927. Повести, рассказы, сценарии, статьи. М.: ИМЛИ РАН, 2016. С. 767-804.
- Лангерак Т. Андрей Платонов. Материалы для биографии. 1899-1929. Амстердам: Пегасус, 1995. 274 с.
- Малыгина Н. М. Андрей Платонов и литературная Москва: А. К. Во-ронский, А. М. Горький, Б. А. Пильняк, Б. Л. Пастернак, Артем Веселый, С. Ф. Буданцев, В. С. Гроссман. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. 592 с.
- Мейлах Б. С. О методологии исследования «творческой лаборатории» классиков // Русская литература. 1972. № 3. С. 42-56.
- Мороз О. Н. Записные книжки А. П. Платонова в контексте его концепции литературного творчества // III Сургучевские чтения. Творчество И. Д. Сургучева в контексте русской литературы ХХ века. Ставрополь, 2006. С. 290-298.
- Николаева В. Художественные особенности путевых очерков ЛЕФа // Филология и культура. 2016. № 2 (44). С. 275-279.
- Паперный З. Записные книжки Чехова. М.: Советский писатель, 1976. 391 с.
- Пельт В. М. Горький об очерке // Об очерке: сб. ст. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1958. С. 5-35.
- Розенблюм Л. М. Творческая лаборатория Достоевского-романиста // Ф. М. Достоевский в работе над романом «Подросток». Творческие рукописи. М.: Наука, 1965. С. 7-56. (Сер.: Литературное наследство; т. 77.)
- Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. М.: Наука, 1981. 368 с.
- Снегирева Т. А., Подчиненов А. В. Записные книжки русских писателей: от «психоза, образовавшегося за годы» до «стенограммы жизни» // Феномен затекста / под общ. ред. Т. А. Снегиревой и А. В. Подчиненова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. C. 121-137.
- Успенский Б. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000. 352 с.
- Чубаров И. М. Коллективная чувственность: теории и практики левого авангарда. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 344 с.
- Шенталинский В. Рабы свободы: в литературных архивах КГБ. М.: Парус, 1995. 390 с.
- Шубин Л. Критическая проза Андрея Платонова // Шубин Л. Поиски смысла отдельного и общего существования. Об Андрее Платонове: работы разных лет. М.: Сов. писатель, 1987. С. 231-247.