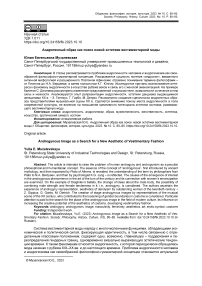Андрогинный образ как поиск новой эстетики вестиментарной моды
Автор: Музалевская Ю.Е.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема андрогинности человека и андрогинизма как своеобразной философско-гуманитарной концепции. Раскрывается сущность понятия «андрогин», введенного античной мифологией и расширенного Платоном Афинским; отражено понимание термина философами - от Платона до Н.А. Бердяева, а затем психологом К.Г. Юнгом. Исследуются причины возникновения интереса к феномену андрогинности в искусстве рубежа веков и связь его с женской эмансипацией. На примере балетов С. Дягилева рассмотрено изменение представлений о мужском теле, возможности сочетания в нем силы и нежности. Анализируется опыт репрезентации андрогинности, эстетики дендизма выдающимися женщинами ХХ в. - З. Гиппиус, Г. Гарбо, М. Дитрих. Рассмотрено создание сценических андрогинных образов представителями музыкальной сцены ХХ в. Уделяется внимание поиску места андрогинности в поле современной культуры, ее влиянию на повышение креативного потенциала эстетики костюма, развивающего вестиментарную моду.
Андрогинность, андрогинизм, образ, мужественность, женственность, эстетика, искусство, эротический символ, костюм
Короткий адрес: https://sciup.org/149144026
IDR: 149144026 | УДК: 7.011 | DOI: 10.24158/fik.2023.10.10
Текст научной статьи Андрогинный образ как поиск новой эстетики вестиментарной моды
в связи с изменением ее культурного аспекта, связанного ранее с состоянием души, рождением интенции высокой морали и эстетики, а сегодня – с отвержением сути этого понятия и выражением, главным образом, агрессивности и эпатажности. Побудительные причины распространения этого феномена в разные исторические периоды неодинаковы, но во все времена обращение к теме андрогинности было продиктовано мечтой о совершенном человеке. Для выяснения движущих сил модификаций концепции андрогинизма обратимся к понятию, определяющему его, и к истории его развития на рубеже ХIХ – начала ХХ вв.
Понятие «андрогин» известно еще со времен античной мифологии: оно было введено и расширено Платоном Афинским в его произведении «Пир» (Платон, 1999). Согласно философу, исторические предки – сверхсущества, целостные и двойственные, сочетающие одновременно мужественность и женственность, в настоящем потерявшие столь значимые качества. Но, связывая миф о происхождении человека с темой Эроса как средством обретения человеком целостности, потерянной в результате разделения на половинки, Платон выражает надежду на гармонизацию человека в будущем. Античный автор заложил основы философского осмысления проблемы андрогинии как мечты, устремленной к идеалу целостной, гармонизированной личности, соединяющей мужественность и женственность.
К андрогинности и представлении ее в разных культурных формах общественного сознания обращались выдающиеся мыслители от Платона и Лао Цзы, Г. Гете и Ф. Шлегеля, Я. Беме, фон Баадера до Ф. Ницше и С. де Бовуар. В XX в. к ней в основном обращались представители западной философской и психологической мысли – от З. Фрейда и К. Юнга до Ж. Делеза и Ф. Гваттари.
В идеале андрогинности символически отражено стремление человека к духовной целостности, объединению, по К. Юнгу, мужского и женского начал на уровне сознания, когда своеобразие и неповторимость каждого из них не только не исчезает, но, напротив, подчеркивается. Для достижения конечной цели – целостности и гармонии – необходимо пройти множество ступеней, одна из самых значительных среди которых – встреча с противоположным началом, с Анимой или Анимусом (Юнг, 2004). В отношении теории андрогинности К. Юнг по праву может считаться основоположником.
Об андрогинности говорят как об особом свойстве человеческой личности, достигшей достаточно высокой степени своей внутренней гармонии. Модель «классического» андрогинизма, представленная выдающимися философами всех эпох, основывается на духовной, трансцендентной сфере, где и определяется направленность и смысл сочетания мужского и женского начал в едином человеческом существе. Особенно активно обращалась к теме андрогинности художественная культура эпохи модерна ХIХ в., отражающая кризис индивидуального сознания и половой идентичности, заключающийся в размывании понятий «мужское» и «женское». Гендерная идентичность определяется признанием существования противоположностей мужского и женского начал и связанных с ними социальных ролей. «На общем фоне напряжения чувств стимулировался и особый интерес к взаимоотношению полов», «в болезненном страхе перед понятием “мужчина” излюбленным мотивом искусства становится андрогин – одно- или двуполое создание – символ неизживаемого вожделения» (Фар-Беккер, 2000: 17–18). Художественная культура того времени формировалась под влиянием сецессионского вкуса, присуждающего «высоким, стройным женщинам с плоской грудью и узкими бедрами призы за красоту». Невероятное увеличение дендизма и гомосексуальности находит объяснение только в большей женственности эпохи. Совсем не случайно современный эстетический и половой вкус ориентируются на вкусы прерафаэлитов (Ле Ридер, 2009: 200).
Кризис идентичности означал исчерпанность старой культуры и надежду на грядущее духовное преображение. Обращение к ар-нуво следует из взаимосвязанности моды и искусства как источника вдохновения модных новаций. В свою очередь и одежда играла ключевую роль в формировании утопических образов. Современникам интересна тема андрогинности, отраженная искусством модерна. К примерам изображения андрогинов С. Сонтаг относит «замирающие, утонченные фигуры поэзии и живописи прерафаэлитов; тонкие, струящиеся бесполые тела ар-нуво» (Ле Ридер, 2009: 293). Феномен андрогина в российской истории представлен, прежде всего, в модели Серебряного века, ищущего в искусстве новые пути сочетания телесности и духовности человека. Замечательная плеяда отечественных мыслителей эпохи Серебряного века обращалась к теме андрогинности: В. Соловьев, С. Булгаков, Н.О. Лосский, В. Розанов, А.Ф. Лосев, З. Гиппиус, М. Цветаева, Д. Мережковский, Вяч. Иванов. Отвергая прежние, догматические модели человека и отбрасывая крайние проявления андрогинности, представители Серебряного века искали пути создания облика нового андрогина, более соответствующего современной кризисной эпохе. Декадентское движение рубежа эпох в качестве оппозиционной к нормативной телесности выдвигает эротизм. Ярким представителем влияния этого течения, символизма и мистического мироощущения является поэтесса З. Гиппиус, первая в России рискнувшая носить мужские наряды. Ее стихи были написаны в основном от мужского лица, но подписывала она их своим именем. Для ее поведения и стиля одежды были характерны эпатажность, пренебрежение всякими запретами, сознательная провокация. На портрете Л. Бакста образ З. Гиппиус предстает как визуальная интерпретация ее андрогинного мироощущения. Поэтесса изображена с надменным выражением лица, одетой в костюм, состоящий из кюлот и батистовой манишки, что являлось в то время для женщины неприемлемым и вызывающим. Репрезентация андрогинного концепта осуществлена З. Гиппиус в полном объеме: и эстетически, и в поведенческом стиле.
Воплощением архетипа андрогинности, платоновской идеи человеческого существа являлся и образ кинозвезды Г. Гарбо. Р. Барт в произведении «Мифологии» объясняет эффект «околдованности» зрителей им: «В ее прозвище “Божественная” выражалось, скорее всего, не столько совершенство ее красоты, сколько самая суть ее телесного облика – она словно снизошла с небес…» (Барт, 2017: 134).
Незаурядная личность, кинодива Марлен Дитрих создала в фильме «Желание» образ одновременно женственный и маскулинный, привлекательный и для мужчин, и для женщин. О ней заговорили как о культурном феномене: «У нее есть сексуальность, но нет определенного пола» (Вульф, 2013: 311). Знаменитые кутюрье создавали для нее костюмы, в которых она выглядела безупречно и элегантно.
Утверждение Шарля Бодлера о невозможности существования женского варианта денди (Бодлер, 1986) опровергается на рубеже ХIХ–ХХ вв. появлением совершенно феноменального типа эмансипированной женщины, которой удалось раскрыть «дендистский потенциал андрогинной эстетики» благодаря тому, что она осмелилась присвоить «себе символические атрибуты мужественности – и свободный костюм, и раскованную позу, и высокомерный взгляд» (Вайнштейн, 2005: 283, 279).
В поисках нового облика женщины русский художник Л. Бакст уже после революции допускал возможность превращения ее в «андрогин» – она могла носить днем одежду спортивного вида, а вечером позволять себе быть женственной. Такой же взгляд развивала в своем творчестве мадемуазель Габриэль Шанель.
Под воздействием новых условий, активной жизненной позиции формируется и иной телесный канон, отныне эстетическим идеалом становится женщина-подросток, контрастирующая с викторианским типом зрелой дамы с пышными формами. В результате конфликта поколений 20-х гг. ХХ в., противопоставившего молодость и зрелость, возникает культ молодости. Возрастные особенности маркируются определенной одеждой, атрибуты молодости – простота и натуральность, еще не занявшие доминирующего положения, но уже громко заявившие о себе, макияж, приблизившийся к натуральному, естественному виду, стремление к новому, отвергающему старое, – формируют черты новой эстетики, отвечающей концепту андрогинности.
Ко времени эпохальных перемен относятся и представленные в Париже «Русские сезоны» Сергея Дягилева. В них типичные феминные черты – нежность, грация, изящество, легкость, воплощенные в классическом танце и представлявшие эстетику женского тела, – отводятся на второй план. Главной фигурой становится мужчина, а танец не только выражает маскулинность, но и сочетает ее с огромной долей феминности. Балет 1912 г. «Послеполуденный отдых фавна» представил в исполнении В. Нижинского и костюме авторства Л. Бакста новое видение тела, содержащее в большей степени черты андрогинные, чем маскулинные. Такой визуальный образ И.С. Кон характеризует как женственный, мягкий андрогин, это полумужчина-полуженщина (Кон, 2003: 341). Сложный симбиоз раскрепощенной хореографии и свободного тела произвел настоящую революцию в европейском мужском костюме, который стал отражать стремление к большей свободе самовыражения.
Таким образом, ХХ в. допустил существование разнообразных телесных канонов, включающих в себя и репрезентацию женственной андрогинности. В начале столетия авангардные течения в искусстве отражают эксперименты с деформацией человеческого тела, его «свободная реконструкция» привела к «обезличиванию пола». Так, персонажи многих произведений П. Пикассо «сексуально амбивалентны» или просто «бесполы» (Каган, 2003: 119).
В период преобладающего направления ар-деко символической фигурой времени становится эмансипированная «женщина-мальчик» – воплощенная андрогинность. Затем, в результате создания в России 1920–1930-х гг. концепции производственного гендерно нейтрального костюма, одежда впервые приобретает признаки унисексуальности. В противоположность андрогинности, новая тенденция выступает средством маскировки тела, его гендерных маркеров с помощью одежды, не имеющей признаков пола. Некоторое (предвоенное) время в костюме преобладает маскулинная эстетика, но в 1950-е гг. с возвращением к традиционным гендерным ролям, она уступает место воплощению «вечной женственности», квинтэссенцией которого стал стиль «Нью лук» Кристиана Диора, создавший образ «женщины-цветка».
Для прошедшего века характерны значимые перемены в эстетическом сознании и художественно-эстетической культуре в целом. 1960-е гг. – великая эпоха молодежного бунта – ознаменовали фундаментальное отрицание всех основ современного общества, в том числе и его представлений об эстетических идеалах и телесности. Молодежные субкультуры следовали за Г. Маркузе, провозгласившего идею «великого отказа» от социальной действительности и необходимости сексуальной революции. Важнейшее из них по степени философского содержания и влияния на общество движение хиппи сформировало и развило новое этико-эстетическое сознание. В выработанном ими, ярко запоминающемся стиле одежды не признавались различия между мужчинами и женщинами. Весь облик хиппи, снимавший противоречия в гендерных различиях, отражавший их инфантильное восприятие действительности, тяготел к андрогинности, и этот посыл был «подхвачен» модельером Ивом Сен-Лораном. Своеобразная игра с андрогинностью, ориентация на молодежь становятся с этого времени самыми актуальными направлениями дальнейшего развития моды ХХ века. «Обновленная» женственность 1960-х гг., символом которой стала английская модель Twiggy, возвратила в качестве идеала узкие «мальчишеские» фигуры; сама женщина при этом не стремилась быть мужчиной – она лишь подчеркивала свою независимость.
Интерес к андрогинности продолжился в 1970-е гг., в том числе и благодаря работам американской исследовательницы С. Бем, вновь обратившейся к формулированию концепции. Она обозначала как андрогинов людей, успешно сочетающих традиционные мужские и женские качества; а андрогинностью – нестандартный способ самовыражения человека как личности (Бем, 2004: 331). Музыканты Мик Джаггер, Марк Болан, Дэвид Боуи своими сценическими костюмами демонстрировали изменение взглядов в сторону большей терпимости к сексуальной свободе, пересмотру общественно допустимых норм. Дэвид Боуи в поисках своеобразия и себя Другого представил публике несколько образов, характеризующих этапы его творчества. Костюмы для наиболее эпатажного персонажа – инопланетянина Зигги Стардаста создавал дизайнер Кансай Ямамото, искавший модель, не отражавшую ни женское, ни мужское начало. Д. Боуи нашел в андрогинности свою неповторимость, что в соединении с музыкальным талантом позволило ему закрепиться в сердцах поклонников и стать легендой в истории музыки ХХ в.
Андрогинность в моде 2020-х гг. акцентирует мужское начало в женском образе. Это прочитывается в коллекциях современных дизайнеров, чутко улавливающих любые веяния новых модных концепций, таких как Рэй Кавакубо, Анн Демельмейстер, Жан-Поль Готье. Универсальная внешность современных молодых людей, физически приближенная к андрогинному типу, востребована именно в сфере моды, которая обращает внимание на все красивое, необычное, а андрогинность возносит на пьедестал. Размытость данного термина сегодня приводит к тому, что дизайнеры зачастую относят к андрогинности то, что не отвечает ее сущности. Но, как отмечал М.С. Каган, «нет для науки ничего более опасного, чем неопределенность употребляемых понятий»1. Так, к андрогинам относят и трансгендерные модели, забывая или отвергая то, что андрогиния – это не просто внешний облик, но и состояние души, психологическая и эмоциональная сущность человека. Мода, отринув «дух и духовное, нравственное, эстетическое, да и собственно человеческое в его традиционном гуманистическом смысле»2, визуальными образами, ложно называемыми андрогинными, не приближает человека к созданному ранее идеалу. Представляется правильным согласиться с Н.Б. Маньковской, что «другая сторона современной моды – ориентация на андрогинность, транссексуализм» (Маньковская, 2000: 67), где автор не смешивает эти два понятия. Трансгуманизм представляет собой попытку осмыслить социальнофилософские последствия возможностей современной геномики и генной инженерии. Оценивая современные телесные концепты в европейской стилистике, Н.Б. Маньковская подчеркивает несостоятельность утверждений об условности половых различий, толковании их как устаревшей исторической конструкции. Соглашаясь с такой концепцией, мода трансформируется, следует за процессами внедрения новейших технологий. «Антропный принцип и гуманистические ценности как сущностные основания культуры уходят в историю, уводя с собой и культуру»3.
Отношение современной моды к андрогинности точнее других выразил Ж. Бодрийяр: «Парадокс наших дней: у нас на глазах происходит одновременно “эмансипация” женщины и мощная вспышка моды. Просто мода имеет дело вовсе не с женщинами, а с женственностью. По мере того, как женщины выбираются из своего неполноправного положения, все общество в целом феминизируется» (Бодрийяр, 2015: 186–187).
Исходя из приведенных рассуждений, следует заключить, что мода постмодернизма свидетельствует о серьезных изменениях в эстетических и идеологических структурах.
Список литературы Андрогинный образ как поиск новой эстетики вестиментарной моды
- Барт Р. Мифологии. М., 2017. 351 с.
- Бем С. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. М., 2004. 336 с.
- Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986. 422 с.
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2015. 392 с.
- Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М., 2005. 640 с.
- Вульф В.Я. Роковые женщины. От Клеопатры до Мерилин Монро. М., 2013. 380 с.
- Каган М.С. Се человек … Жизнь, смерть и бессмертие в «волшебном зеркале изобразительного искусства». СПб., 2003. 320 с.
- Кон И.С. Мужское тело в истории культуры. М., 2003. 432 с.
- Ле Ридер Ж. Венский модерн и кризис идентичности. СПб., 2009. 716 с.
- Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000. 346 с.
- Платон. Сочинения: в 2 т. М., 1999. Т. 2. 526 с.
- Фар-Беккер Г. Искусство модерна. Budapest, 2000. 426 с.
- Юнг К.Г. Душа и миф. 6 архетипов. Минск, 2004. 382 с.