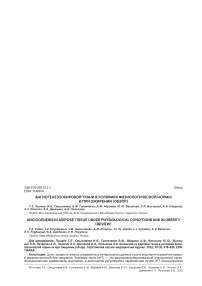Ангиогенез в жировой ткани в условиях физиологической нормы и при ожирении (обзор)
Автор: Пылаев Т.Е., Смышляева И.В., Головченко В.М., Абрамов A.M., Васильев Ю.Ю., Высоцкий Л.И., Назарова А.В., Погосян Э.К., Дейханов А.А., Попыхова Э.Б.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Патологическая физиология
Статья в выпуске: 4 т.18, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель: провести анализ современных литературных данных о роли эндотелия в развитии микро-и макроангиопатий при ожирении. Жировая ткань (ЖТ) - это высоковаскуляризованный эндокринный орган. Функциональная взаимосвязь эндотелио- и адипоцитов регулируется паракринным путем. ЖТ продуцируются адипокины, биологически активные вещества с про- и антиангиогенной активностью и цитокины. Дисбаланс этих факторов приводит к нарушению ангиогенеза, результатом чего является образование функционально незрелых сосудов и дисфункция эндотелия, лежащие в основе целого ряда заболеваний. При написании настоящего обзора проанализированы 50 научных работ, полученных в следующих базах данных: РИНЦ, Cyber-Leninka, Scopus, Web of Science, MedLine, PubMed за период с 2013 по 2021 г. с использованием ключевых слов: «ангиогенез», «ожирение», «адипоциты», «эндотелиоциты», «сосудистый эндотелиальный фактор роста», «про- и противоангиогенные факторы», «эндотелиальная дисфункция». В результате анализа показано, что эндотелиальная дисфункция играет важную роль в патогенезе ожирения, обусловливая развитие микро-и макроангиопатий в жировой ткани. Более глубокое понимание молекулярных механизмов взаимодействия адипоцитов и сосудистого эндотелия при ожирении будет способствовать разработке новых терапевтических подходов, обеспечивающих снижение риска возникновения эндотелиальной дисфункции, связанной с ожирением.
Адипоциты, ангиогенез, васкулоэндотелиальный фактор роста, ожирение, эндотелиоциты
Короткий адрес: https://sciup.org/149142950
IDR: 149142950 | УДК: 616-092.612.3
Текст научной статьи Ангиогенез в жировой ткани в условиях физиологической нормы и при ожирении (обзор)
1 Введение. За последние десятилетия в мире среди населения резко возросло распространение ожирения, и оно приняло характер неинфекционной пандемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, ожирение — это «ненормальное или чрезмерное накопление жира, которое может ухудшить здоровье». Патогенетической основой ожирения является дисбаланс между потреблением и расходованием энергии, что приводит к накоплению триглицеридов в ЖТ. На возникновение и прогрессию ожирения также оказывают влияние генетические факторы и факторы окружающей среды [1]. Избыточное отложение ЖТ является фактором риска и способствует возникновению ряда заболеваний, например, таких как сахарный диабет II типа (СД), неалкогольная жировая болезнь печени, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания; оно также связано с некоторыми видами рака [2].
ЖТ состоит из собственно жировых клеток — адипоцитов и стромально-васкулярной фракции. Последняя представлена клетками предшественниками адипоцитов, иммунными клетками (макрофагами, естественными клетками-киллерами, В - и Т -лимфоцитами), эндотелиоцитами, фибробластами и мезенхимальными стволовыми клетками [3].
Исследования последних лет свидетельствуют о том, что ЖТ представляет собой не просто место хранения энергии, а является иммуно- и эндокринологически активным органом [4]. Она принимает активное участие в регуляции системного энергетического гомеостаза [5].
ЖТ разделяют на белую, основной функцией которой является запасание липидов, и бурую, участвующую в процессе термогенеза. Белая ЖТ
Corresponding author — Era B. Popyhova
Тел.: +7 (961) 0529815
представлена подкожной ЖТ и висцеральным жиром (вокруг внутренних органов). Кроме того, белая ЖТ способна высвобождать гормоны — адипокины, основными из которых являются лептин, адипонектин, а также факторы роста.
При переедании избыточная энергия запасается в виде триглицеридов в подкожной ЖТ; при этом наблюдаются гиперплазия и гипертрофия адипоцитов [6], которые приводят к «ремоделированию жировой ткани» [7]. Этот процесс вызывает нарушение экспрессии ЖТ адипокинов, про- и противовоспалительных цитокинов, что в конечном итоге способствует развитию системного субклинического метавоспаления [8].
Кровеносные сосуды образуют обширную сеть, представленную артериями, венами и капиллярами, которые играют ключевую роль в процессах метаболизма и доставки кислорода ко всем тканям [9]. Процесс ангиогенеза регулируется балансом про- и ан-тиангиогенных факторов [10]. Так, сверхэкспрессия проангиогенных факторов вызывает дисфункцию эндотелия и способствует нарушению физиологического протекания ангиогенеза, в результате образуются функционально не зрелые кровеносные сосуды [11]. Функциональная незрелость сосудов является фактором высокого риска гипоксии, воспаления и связана с различными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и некоторые виды рака [12, 13]. В настоящее время многими исследователями эндотелий рассматривается в качестве органа, обладающего ауто-, пара- и эндокринной активностью. Эндотелиоциты экспрессируют цитокины, регулирующие сосудистый тонус, гемостаз, процесс ангиогенеза и иммунного ответа, а также диапедез лейкоцитов [10, 11].
В связи с этим целью настоящего обзора было провести анализ современных литературных данных о роли эндотелия в развитии микро- и макроангиопатий при ожирении.
При написании настоящего обзора были проанализированы 50 научных работ, полученных в следующих базах данных РИНЦ, CyberLeninka, Scopus, Web of Science, MedLine, PubMed за временной интервал с 2013 по 2021 г. по запросам: «ангиогенез», «ожирение», «адипоциты», «эндотелиоциты», «сосудистый эндотелиальный фактор роста», «про- и противоан-гиогенные факторы», «эндотелиальная дисфункция».
Протекание процесса ангиогенеза в жировой ткани в условиях физиологической нормы. ЖТ является высоко васкуляризованной. Кровеносные сосуды транспортируют к адипоцитам питательные вещества и кислород, а также биологически активные вещества и гормоны, необходимые для их нормального функционирования, роста и выживания [13, 14] . Кроме того, сосуды осуществляют перенос ади-покинов, цитокинов и факторов роста от ЖТ к другим органам и, таким образом, способствуют ее эндокринной функции.
Посредством сосудистой системы осуществляется контроль и поддержание гомеостаза ЖТ. Так, ацидоз и гипоксия влияют на функцию адипоцитов, дифференцировку их предшественников и на общую массу ЖТ [14] .
Механизмы, запускающие процесс ангиогенеза при ожирении, различны. Активация процесса ангиогенеза может быть обусловлена сигналами, исходящими от пролиферирующих и увеличивающихся адипоцитов, или может быть вызвана изменением их метаболизма [14] . Следует отметить, что эти процессы не исключают друг друга, и, скорее всего, за ангиогенез ответственна их комбинация.
Экспансия ЖТ зависит от ангиогенеза [15]. При избыточном поступлении питательных веществ адипоциты запасают липиды в липидных каплях в своей цитоплазме, и по мере увеличения их размера доступность кислорода снижается. Возникшее состояние гипоксии индуцирует компенсаторный процесс ангиогенеза и ремоделирования внеклеточного матрикса [16] .
Кровеносные сосуды здоровой ЖТ выстланы монослоем покоящихся эндотелиоцитов, которые могут быстро переключаться в ангиогенное/проли-феративное состояние для формирования новых кровеносных сосудов под влиянием ангиогенных и метаболических стимулов [17, 18] . ЖТ экспрессирует большое количество проангиогенных факторов, наибольшее значение из которых имеют ангиопоэ-тин-2 (Angiopoietin2, Angpt2) и васкулоэндотелиаль-ный фактор роста (Vascular endothelial growth factor, VEGF), а также лептин и адипонектин, последние оказывают модулирующее влияние на ангиогенез и структуру сосудов [14, 18]. Все перечисленное указывает на способность ЖТ осуществлять ауторегуляцию ангиогенеза [9] .
В работе [19] авторами было показано, что в стенках кровеносных сосудов ЖТ присутствуют клетки-предшественники, обладающие способностью дифференцироваться в эндотелиоциты и/или адипоциты белой и/или бурой ЖТ Исследование, изложенное в работе [20], продемонстрировало наличие предшественников адипоцитов в пристеночной зоне сосудистой сети белой ЖТ, но не в сосудистой сети других тканей. Эти пристеночные клетки обладали высоким адипогенным потенциалом. Полученные результаты позволили авторам предположить наличие связи между эндотелио- и адипоцитами с точки зрения их взаимозаменяемости при наличии возможного стимула, который запускает процесс переключения в ходе межклеточного взаимодействия.
Протекание процесса ангиогенеза в жировой ткани при ожирении. При ожирении наблюдается быстрое увеличение массы ЖТ, что влияет на ее васкуляризацию. Отсутствие сосудов вызывает состояние гипоксии, способствующее воспалению [20, 21] и неадекватному их росту. Гипоксия также активирует семейство факторов, индуцируемых гипоксией (Hypoxia-inducible factors, HIFs) [22]. При связывании с ядерными рецепторами HIF1α димеризуется с HIF1β и образует функциональный фактор транскрипции HIF1. Последний взаимодействует с генами-мишенями ответа на гипоксию, включая VEGF-A и Angpt2, которые вызывают ангиогенный ответ [12, 19] . Авторами в работе [19] было показано увеличение уровня HIF1α в ЖТ у пациентов с ожирением и снижение его экспрессии после хирургического снижения веса. Делеция HIF1α в адипоцитах снижает риск возникновения вызванного ожирением воспаления и резистентности к инсулину [22]. В исследовании [20] было показано стимулирующее действие гипоксии на воспалительный процесс, в результате которого наблюдалось накопление макрофагов и других иммунокомпетентных клеток в ЖТ. Активация сигнального пути HIF в макрофагах у мышей с ожирением вызывала повышение экспрессии тромбоцитарного фактора роста (Platelet-derived growth factor, PDGF), который способствовал стабилизации вновь образованных сосудов [18]. Следует отметить, что иммунокомпетентные клетки продуцируют множество цитокинов, в том числе фактор некроза опухоли альфа (Тumor necrosis factor α, TNFα) [19], который действуя на эндотелиоциты, активирует в них сигнальный путь ядерного фактора каппа B (NF-kB), участвующего в развитии воспалительного ответа [8–10]. Кроме того, с усилением ангиогенеза образуется больше кровеносных сосудов, обеспечивающих кислородом и питательными веществами метаболические потребности иммунокомпетентных клеток в очагах воспаления [23] .
При ожирении вследствие дисфункционального метаболизма адипоцитов наблюдается повышенное высвобождение из них в системный кровоток свободных жирных кислот (СЖК) [6, 24] . СЖК могут поступать в эндотелиоциты либо путем переноса транспортными белками жирных кислот 3 и 4 (Fatty acid transport protein, FATP3/FATP4), либо через связывание с рецепторами-мусорщиками. В эндотелиоцитах происходит их окисление с образованием ацил-КоА [25, 26].
СЖК участвуют во многих метаболических процессах организма, в том числе в синтезе церамидов, которые являются компонентами биомембран и, одновременно, сигнальными молекулами. СЖК также могут активировать внутриклеточный сигнальный путь NF-κB посредством передачи сигналов через Toll-подобные рецепторы [27] и таким образом активировать процесс воспаления [28].
Система VEGF/VEGF-рецептор (VEGFR) является основным регулятором ангиогенной активности ЖТ в физиологических и патологических условиях. Эта система экспрессируется клетками стромальноваскулярной фракции и зрелыми адипоцитами [19]. В работе [29] на примере мышиной модели ожирения с делецией гена, кодирующего экспрессию VEGF, было продемонстрировано снижение плотности вновь образованной сосудистой сети, сопровождающейся усилением гипоксии, воспаления и апоптоза.
Взаимодействие VEGF со своими тирозинкиназными рецепторами VEGFR1 и VEGFR2 оказывает влияние не только на протекание процесса ангиогенеза, но и на ряд других биологических функций.
VEGF играет важную роль в ангиогенезе ЖТ, и увеличение его экспрессии наблюдается во время дифференцировки адипоцитов [30]. VEGF-А, секретируемый ЖТ, оказывает стимулирующий эффект на гладкомышечные клетки сосудов. Экспериментально было показано, что гладкомышечные клетки сосудов, культивируемые в кондиционированной адипоцитами среде, имели более высокую экспрессию VEGF и его рецепторов 1-го и 2-го типов. Хотя VEGF-А и связывается с обоими типами рецепторов, но VEGFR2 опосредует большинство клеточных ответов, вызывая миграцию, выживание и пролиферацию эндотелиоцитов. Блокирование VEGFR2 ограничивало индуцированную диетой экспансию ЖТ за счет снижения ангиогенеза и адипогенеза [31]. Однако в лимфатических сосудах VEGFR2 оказывал противоположное действие [32] .
Мыши с генетической делецией нейропилина 1 (Nrp1) — мембран-связанного ко-рецептора VEGF и рецептора VEGFR1 типа, устойчивы к ожирению, вызванному диетой, за счет снижения поглощения клетками хиломикронов. Ингибирование VEGFR2 приводило к восстановлению транспорта и проницаемости клеточных мембран для хиломикронов, и мыши теряли устойчивость к ожирению, вызванному диетой [32] .
Сверхэкспрессия VEGF-А в бурой и белой ЖТ у мышей приводила к увеличению количества и размера кровеносных сосудов, повышению чувствительности к инсулину и улучшению толерантности к глюкозе [33].
Снижение экспрессии HIF1 у трансгенных мышей способствовало снижению риска развития ожирения, вызванного диетой и локальной гипоксией. Исследователи в работе [33] сообщили, что снижение экспрессии VEGFА у мышей, также приводит к устойчивости к ожирению, вызванному диетой, и повышению экспрессии маркеров бурой ЖТ, таких как синтезируемый митохондриями разобщающий белок-1 (uncoupling protein 1, UCP1) и индуцирующий гибель клеток DFFA-подобный эффектор A (CIDEA) .
Показано, что VEGF-B экспрессируется в эндоте-лиоцитах сосудов скелетных мышц, сердца и бурой ЖТ. Он связывается с рецепторами VEGFR1 и Nrp1 и увеличивает экспрессию белков FATP3/FATP4, вызывая увеличение поглощения клетками СЖК [34] . В другом исследовании [35] было показано, что при ожирении связывание VEGF-B с рецептором VEGFR1 вызывало активацию пути VEGF/VEGFR2, в результате наблюдалось повышение плотности вновь образованных капилляров и чувствительности клеток к инсулину.
В работе [35] показано, что генетическая деле-ция и фармакологическое ингибирование рецептора VEGFR1 приводило к усилению ангиогенеза в ЖТ и вызывало «браунинг» ЖТ (переход белого жира в бурый), следствием чего было повышение термогенеза. Кроме того, лечение анти-VEGFR1 препаратами вызывало повышение экспрессии UCP1 и уменьшение размера адипоцитов в белой ЖТ [35]. Это также свидетельствовало о «браунинге» и изменении энергетического баланса. У трансгенных мышей с делецией VEGFR1 в эндотелиоцитах диета с высоким содержанием жира приводила к снижению массы тела и ЖТ. Кроме того, нокаут VEGFR1 значительно снижал дисфункцию, вызванную ожирением, за счет уменьшения уровня СЖК, глицерина, триглицеридов, глюкозы и инсулина в крови этих мышей [36]. Полученные результаты позволили авторам сделать вывод о том, что VEGF-А и VEGF-B оказывают регуляторное влияние на метаболические процессы в ЖТ, а также на процесс ангиогенеза в ней [35].
В работе [19] авторы для лечения ожирения использовали препараты «Ангиостатин» и «Эндостатин», обладающие антиангиогенным эффектом. Ими было продемонстрировано снижение веса у трансгенных тучных мышей (мыши ob/ob) на фоне применения данных препаратов. Механизм действия препарата «Эндостатин» связан с ингибированием адипогенеза и ожирения, вызванного питанием, из-зи снижения экспрессии мишени рапамицина млекопитающих (mTOR), влияющей на клеточный рост и выживание клеток. Кроме того, лечение данным препаратом оказывало профилактический эффект на осложнения, вызванные ожирением, например такие как нарушение толерантности к глюкозе [36].
Клетки ЖТ, помимо VEGF, вырабатывают и выделяют и другие проангиогенные факторы, в частности PDGF [13, 14]. Так, преадипоциты, по сравнению со зрелыми адипоцитами, вырабатывают больше PDGF. Однако при ожирении бóльшая часть предшественников дифференцируется в зрелые адипоциты, количество преадипоцитов снижается и, таким образом, снижается локальный уровень PDGF. Чтобы компенсировать недостаток PDGF, макрофаги ЖТ увеличивают его продукцию. У людей, страдающих ожирением, наблюдается снижение объемной плотности сосудов, следствием чего развивается гипоксия тканей. В связи с этим происходит компенсаторное увеличение продукции PDGF макрофагами, что способствует образованию новых дополнительных капилляров. В то же время для формирования нормально функционирующих новых капилляров необходим баланс между уровнем VEGF и PDGF, поскольку ангиогенез регулируется данными ростовыми факторами через родственные им рецепторы на эндотелиоцитах и на гладкомышечных клетках сосудов [14] . Авторы в работе [37] наблюдали повышение экспрессии фактора роста фибробластов-2 (Basic fibroblast growth factor, FGF-2) у мышей при дифференцировке адипоцитов на фоне ожирения, вызванного диетой с высоким содержанием жиров. Исследователями также был отмечен и провос-палительный эффект FGF-2 за счет активации белка NLRP3, участвующего в экспрессии провоспалитель-ных интерлейкинов.
Ядерные рецепторы, активируемые пероксисомными пролифераторами (Peroxisome proliferator-activated receptor γ, PPARγ), играющие ключевую роль в регуляции дифференцировки адипоцитов, тоже могут оказывать влияние на ангиогенез [38]. Исследования авторов [23] свидетельствуют о том, что PPARγ ингибирует пролиферацию эндотели-оцитов. Однако при ожирении наблюдающееся усиление ангиогенеза было объяснено влиянием активаторов PPARγ. Так, экспериментально было показано, что в образцах ЖТ, обработанной препаратом «Росиглитазон», являющегося агонистом PPARγ, наблюдалось усиление роста капилляров [19]. Эксперименты по совместному культивированию адипо-и эндотелиоцитов показали, что уровни экспрессии PPARγ были ниже при совместном культивировании эндотелиальных клеток и адипоцитов, чем в группе, состоящей только из адипоцитов, и в последнем случае в адипоцитах были обнаружены более мелкие липидные капли [39]. Другими авторами в исследовании [23] описан противовоспалительный эффект PPARγ в эндотелиоцитах за счет нарушения передачи сигналов по внутриклеточному пути NF-kB, что вызывало снижение экспрессии хемокинов и провоспа-лительных молекул адгезии, таких как межклеточная молекула адгезии-1 (Interсellular аdhesion molecule-1, ICAM-1) и молекула клеточной адгезии-1 (Vascular cell adhesion molecule-1, VCAM-1). Было обнаружено, что у мышей с нокдауном PPARγ в эндотелиоцитах, которые получали диету с высоким содержанием жиров, снизилась масса белой ЖТ, но увеличилась масса селезенки и печени по сравнению с мышами в контрольной группе, несмотря на одинаковую массу тела в обеих группах. Кроме того, у мышей с нокдауном PPARY размер адипоцитов в белой ЖТ был на 25% меньше, чем в контрольной группе [19]. У животных данной группы также наблюдался более низкий уровень глюкозы и более высокая чувствительность клеток к инсулину. Вместе с тем у мышей с нокдауном была обнаружена повышенная концентрация в крови циркулирующих СЖК и липопротеинов очень низкой плотности. Таким образом, полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что PPARγ оказывает влияние на метаболические процессы, протекающие в организме.
Метаболические нарушения, связанные с ожирением. При развитии ожирения ЖТ становится дисфункциональной. Ожирение способствует тому, что из адипоцитов вследствие липолиза в кровоток поступает большое количество СЖК. СЖК из висцеральной ЖТ через систему портального кровообращения могут непосредственно попадать в печень, где они подвергаются либо процессу этерификации с образованием триглицеридов, либо включаются в митохондрии и формируют энергетический запас клетки [40].
В условиях физиологической нормы инсулин в гепатоцитах вызывает усиление гликогенеза и снижение скорости гликогенолиза за счет ингибирования фермента гликогенфосфорилазы; также он активирует гликолитический путь расщепления глюкозы до ацетил-КоА, который является субстратом в процессе синтеза жирных кислот; одновременно с этим происходит инактивация ферментов, участвующих в глюконеогенезе и не происходит ресинтеза глюкозы. Инсулин в цикле синтеза жирных кислот активирует фермент ацетил-КоА-карбоксилазу и стимулирует синтез малонил-КоА и жирных кислот, а также инактивирует липазу, расщепляющую триглицериды. Следовательно, инсулин способствует синтезу и аккумуляции гликогена в печени и мышцах, а триглицеридов в ЖТ [41] .
Избыток СЖК препятствует контакту инсулина с мембранными рецепторами клеток. Выработка ЖТ большого количества гормона-резистина также угнетает чувствительность клеток к последнему [42]. На фоне ожирения наблюдается увеличение продукции ЖТ биологически активных веществ, уменьшающих чувствительность тканей к инсулину, происходит снижение экспрессии потенцирующих его действие адипокинов, например адипонектина. Вследствие ин-сулинорезистентности в крови наблюдается повышение концентрации глюкозы и компенсаторное увеличение продукции инсулина островковым аппаратом поджелудочной железы [5]. Гиперинсулинемия способствует активному липолизу с образованием СЖК, активации глюконеогенеза в гепатоцитах, снижению синтеза гликогена и скорости окисления СЖК. Перечисленные процессы способствуют отложению избыточного количества триглицеридов в гепатоцитах [41] и повышают секрецию печенью липопротеинов очень низкой плотности, обладающих атерогенным эффектом [40].
Более высокая продукция липопротеинов очень низкой плотности и липопротеинов низкой плотности приводит к большему попаданию этих молекул в системный кровоток, что, в свою очередь, приводит к их задержке в интиме стенок сосудов; кроме того, окисление липопротеинов низкой плотности способствует активации эндотелиоцитов [29] . Адгезия лейкоцитов к стенке кровеносных сосудов и повреждение эндотелия вызывают образование тромбоцитарных тромбов. Микрососуды становятся все более и более хрупкими и являются потенциальными местами кровоизлияния и тромбоза [27, 43] . В конечном итоге это приводит к атеросклерозу.
Ожирение также ассоциировано с СД. Авторами в работе [44] показано, что у мышей с СД, развившимся в результате содержания их на высококалорийной диете, в эндотелиоцитах наблюдалась повышенная экспрессия транскрипционного фактора р53, участвующего в регуляции клеточного цикла. Нокаут р53 у этих мышей вызывал повышение чувствительности клеток к инсулину и к глюкозе; при этом наблюдался более низкий, по сравнению с животными с СД без нокаута р53, уровень инсулина в плазме, а также снижение массы белой ЖТ. Удаление p53 вызывало повышение потребления кислорода и глюкозы мышцами и бурой ЖТ за счет увеличения экспрессии эндотелиальными клетками белка-переносчика глюкозы Glut1. Помимо этого, делеция p53 вызывала усиление экспрессии генов, таких как коактиватор-1α PPARγ, регулирующих митохондриальный биогенез, что приводило к ускорению фосфорилирования эндотелиальной синтазы оксида азота (еndothelial NOS, eNOS) в скелетных мышцах. И наоборот, активация р53 в эндотелиоцитах вызывала метаболические нарушения.
Белок PGC-1α — главный активатор митохондриального биогенеза, широко представлен в различных типах клеток и тканей организма человека и животных [45], при этом СД индуцирует его экспрессию в эндотелиоцитах. Сверхэкспрессия PGC-1α эндоте-лиоцитами приводила к значительному подавлению их миграционной активности за счет активации передачи сигналов по универсальному пути Notch и ингибированию пути Rac/Akt/eNOS, на основании чего авторы [17] предположили, что PGC-1α частично опосредует сосудистую дисфункцию, вызванную СД.
В работе [14] продемонстрировано, что на фоне высокожировой диеты у мышей снижалась чувствительность эндотелиальных клеток к инсулину и скорость фосфорилирования NOS, также наблюдалось снижение индуцированного инсулином поглощения глюкозы скелетными мышцами, обусловленное снижением рекрутирования капилляров в них. Уменьшение количества рецепторов инсулина Irs2 в эндоте-лиоцитах оказывало влияние на секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы, при этом наблюдалось нарушение кровотока в островках поджелудочной железы [46].
Инсулин способствует повышению синтеза оксида азота (NO) за счет активации фермента фосфоинозитид-3-киназы (Phosphoinositide 3-kinase, PI3-K) в эндотелиоцитах, тромбоцитах и гладкомышечных клетках сосудов. Опосредованно, через
NO, инсулин увеличивает экспрессию общего белка и VEGF [19]. По данным, полученным в 2020 г. S. S. Hasan с соавт., при ожирении в эндотелиоцитах происходило усиление активности сигнального пути Notch, что вызывало снижение чувствительности скелетной мускулатуры к инсулину и угнетение поглощения глюкозы. Этот эффект был опосредован изменением активности генов, ответственных за образование липидных плотов — кавеол на клеточных мембранах, и прежде всего участием в их образовании интегрального белка кавеолина 1 (Caveolin1, CAV1). Результатом этих изменений было нарушение инсулин-сигнализации [47].
Внеклеточные везикулы (экзосомы, микровезикулы) тоже могут участвовать в межклеточных взаимодействиях путем вовлеченности в метаболические сигнальные пути. Авторами в работе [19] на мышах с ожирением было продемонстрировано снижение чувствительности к инсулину, однако введение эк-зосом из стволовых клеток ЖТ способствовало восстановлению этой чувствительности. Микровезикулы макрофагов ЖТ от мышей с нормальным весом, введенные мышам с ожирением, вызывали повышение чувствительности всего организма к инсулину и глюкозе, о чем свидетельствовали данные глюко-зо- и инсулинотолерантного тестов [48]. И наоборот, введение микровезикул макрофагов ЖТ от мышей с ожирением мышам с нормальным весом приводило к резистентности к инсулину, снижению толерантности к глюкозе и проявлению субклинического воспаления. Этот результат был обусловлен влиянием микроРНК155 на PPARγ, что, в свою очередь, вызывало нарушение экспрессии инсулинозависимого белка — переносчика глюкозы Glut4.
Так, в работе C. Crewe с соавт. в 2018 г. показано взаимодействие между эндотелио- и адипоцитами через Cav1-содержащие адипоцитарные микровезикулы. Интенсивность этого взаимодействия зависела от метаболического статуса и увеличивалась во время голодания. Результаты протеомного анализа содержимого микровезикул в период голодания показали повышенное содержание в них белков, участвующих в метаболизме полиаминов, антиоксидантов и транспортных малых молекул, однако при этом наблюдалось снижение концентрации молекул, участвующих в метаболизме липидов и аминокислот [16].
О взаимодействии эндотелио- и адипоцитов также свидетельствует фактор транскрипции Forkhead Box O1 (FoxO1), который влияет на ангиогенез и чувствительность клеток к инсулину [49]. Нокдаун эндотелиально-специфического FoxO1 приводил к повышенному образованию капилляров в ЖТ. На фоне высокожировой диеты у мышей наблюдалось усиление экспрессии молекул адгезии (Platelet/endothelial cell adhesion molecule1, PECAM1), а также снижение уровня триглицеридов в крови и общих липидов в печени. Снижение уровня содержания FoxO1 вызывало увеличение скорости пролиферации эндотелиоцитов и активности белка Glut1, ферментов гексокиназы и фосфофруктокиназы. Подавление активности белка argonaute-1 (AGO1), участвующего в регуляции реакции эндотелиоцитов на гипоксию, приводила к активации VEGF и тем самым способствовала индуцированному гипоксией ангиогенезу [19]. Эндотелиально-специфический нокаут AGO1 у мышей, содержащихся на диете с высоким содержанием жиров и сахарозы, приводил к снижению прибавки массы тела, которое можно объяснить уменьшением массы белой ЖТ. Нокаут AGO1 у мышей, содержащихся на голодной диете, вызывал повышение чувствительности к инсулину и снижение уровня глюкозы. Кроме того, наблюдалось потемнение белого жира в подкожной жировой клетчатке, что связано с повышенным уровнем экспрессии белка-термогенина и его регулятора PGC1α. Более того, делеция AGO1 вызывала повышение уровня VEGF и способствовала более высокой экспрессии PECAM1 сосудами подкожной жировой клетчатки [50].
Заключение. Ожирение играет важную роль в возникновении и развитии СД II типа, инсулино-резистентности, патологии сердечно-сосудистой системы и лежит в основе хронического метавоспаления. Оно влияет на функциональную активность эндотелия сосудов, вызывая таким способом его дисфункцию. Долгое время считалось, что только ЖТ может оказывать влияние на сосудистый эндотелий, однако в настоящее время доказано, что и эндотелий, выделяя биологически активные вещества, может влиять на обменные процессы в адипоцитах и корректировать их нарушение, обусловленное ожирением. Таким образом, лечение эндотелиальной дисфункции может напрямую оказывать влияние на метаболическую активность адипоцитов или ЖТ в целом. Тем не менее необходимы дальнейшие исследования путей и механизмов взаимного влияния друг на друга адипоцитов и эндотелиальных клеток, а также молекулярных механизмов, лежащих в основе влияния ожирения на органы-мишени, поскольку более глубокое и полное понимание этих механизмов может помочь в разработке современных терапевтических подходов, предусматривающих использование препаратов, позволяющих снизить риск возникновения осложнений, вызванных ожирением, и повлиять на метаболическое здоровье в целом.
Список литературы Ангиогенез в жировой ткани в условиях физиологической нормы и при ожирении (обзор)
- Rohde K, Keller M, la Cour Poulsen L, et al. Genetics and epigenetics in obesity. Metabolism. 2019; (92): 37–50. DOI: 10.1016 / j. metabol. 2018.10.007.
- Ungefroren H, Gieseler F, Fliedner S, Lehnert H. Obesity and cancer. Horm Mol Biol Clin Invest. 2015; (21): 5–15. DOI: 10.1515 / hmbci-2014–0046.
- Rosenwald M, Wolfrum C. The origin and definition of brite versus white and classical brown adipocytes. Adipocytes. 2014; (3): 4–9. DOI: 10.4161 / adip. 26232.
- Bolotova NV, Timofeeva SV, Polyakov VK, et al. The role of kisspeptin in menstrual disorders in adolescent girls. Treatment of clinically manifested endocrine abnormalities. Doctor.Ru. 2020; 19 (2): 13–9. (In Russ.) Болотова Н. В., Тимофеева С. В. Поляков В. К. и др. Роль кисспептина в нарушениях менструальной функции у девочек-подростков. Коррекция клинико- гормональных нарушений. Доктор.Ру. 2020; 19 (2): 13–9. DOI: 10.31550 / 1727‑2378‑2020‑19‑2‑13‑19.
- Lee MJ, Wu Y, Fried SK. Adipose tissue heterogeneity: implication of depot differences in adipose tissue for obesity complications. Mol Asp Med. 2013; (34): 1–11. DOI: 10.1016 / j.mam. 2012.10.001.
- Hafidi ME, Buelna-Chontal M, Sánchez-Muñoz F, Carbó R. Adipogenesis: a necessary but harmful strategy. Int J Mol Sci 2019; (20):3657. DOI: 10.3390 / ijms20153657.
- Longo M, Zatterale F, Naderi J, et al. Adipose tissue dysfunction as determinant of obesity-associated metabolic complications. Int J Mol Sci. 2019; (20): 2358. DOI: 10.3390 / ijms20092358.
- Mancuso P. The role of adipokines in chronic inflammation. Immuno Targets Ther. 2016; (5): 47–56. DOI: 10.2147 / ITT.S73223.
- Kwaifa IK, Bahari H, Yong YK, Noor SM. Endothelial dysfunction in obesity-induced inflammation: molecular mechanisms and clinical implications. Biomolecules. 2020; 10 (2): 291. DOI: 10.3390 / biom10020291.
- Vasina LV, Petrishchev NN, Vlasov TD. Markers of endothelial dysfunction. Regional Blood Circulation and Microcirculation.
- 2017; 16 (1): 4–15. (In Russ.) Васина Л. В., Петрищев Н. Н., Власов Т. Д. Эндотелиальная дисфункция и ее основные маркеры. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2017; 16 (1): 4–15. DOI: 10.24884 / 1682‑6655‑2017‑16‑1‑4‑15.
- Petrishchev NN, Vasina LV. Disorders of adhesive activity as a form of endothelial dysfunction. Translational Medicine. 2014; (3): 5–15. (In Russ.) Петрищев Н. Н., Васина Л. В. Нарушение адгезионной активности как форма эндотелиальной дисфункции. Трансляционная медицина. 2014; (3): 5–15. DOI: 10.18705 / 2311‑4495‑2014‑0‑3‑5‑15.
- Stepanova TV, Ivanov AN, Popyhova EB, Lagutina DD. Moleculare markers of the endothelial dysfunction. Modern Problems of Science and Education. 2019; (1): 39. (In Russ.) Степанова Т. В., Иванов А. Н., Попыхова Э. Б., Лагутина Д. Д. Молекулярные маркеры эндотелиальной дисфункции. Современные проблемы науки и образования. 2019; (1): 39.
- Nijhawans P, Behl T, Bhardwaj S. Angiogenesis in obesity. Biomed Pharmacother. 2020; (126): 110103. DOI: 10.1016 / j.biopha.2020.110103.
- Cao Y. Angiogenesis and vascular functions in modulation of obesity, adipose metabolism, and insulin sensitivity. Cell Metab. 2013; (18): 478–89. DOI: 10.1016 / j.cmet.2013.08.008.
- Tanaka M, Itoh M, Ogawa Y, Suganami T. Molecular mechanism of obesity-induced «metabolic» tissue remodeling. J Diabetes Investig. 2018; 9 (2): 256–61. DOI: 10.1111 / jdi. 12769.
- Crewe C, Joffin N, Rutkowski J, et al. An endothelialto-adipocyte extracellular vesicle axis governed by metabolic state. Cell. 2018; (175): 695–708. e13. DOI: 10.1016 / j.cell.2018.09.005.
- Draoui N, De Zeeuw P, Carmeliet P. Angiogenesis revisited from a metabolic perspective: role and therapeutic implications of endothelial cell metabolism. Open Biol. 2017; (7): 170219. DOI: 10.1098 / rsob.170219.
- Sorop O, Olver TD, Van DeWouw J, et al. The microcirculation: a key player in obesity-associated cardiovascular disease. Cardiovasc Res. 2017; (113): 1035–45. DOI: 10.1093 / cvr / cvx093.
- Herold J, Kalucka J. Angiogenesis in adipose tissue: the interplay between adipose and endothelial cells. Front Physiol. 2021; (11): 624903. DOI: 10.3389 / fphys. 2020.624903.
- Hodson L, Humphreys SM, Karpe F, Frayn KN. Metabolic signatures of human adipose tissue hypoxia in obesity. Diabetes. 2013; (62): 1417–25. DOI: 10.2337 / db12–1032.
- Romantsova TI. Adipose tissue: colors, depots and functions. Obesity and metabolism 2021; 18 (3): 282–301. (In Russ.) Романцова Т. И. Жировая ткань: цвета, депо и функции. Ожирение и метаболизм 2021; 18 (3): 282–301. DOI: 10.14341 / omet12748.
- Lee YS, Kim JW, Osborne O, et al. Increased adipocyte O2 consumption triggers HIF-1α, causing inflammation and insulin resistance in obesity. Cell. 2014; (157): 1339–52. DOI: 10.1016 / j.cell.2014.05.012.
- Romantsova TI, Sych YuP. Immunometabolism and metainflammation in obesity. Obesity and metabolism 2019; 16 (4): 3–17. https://doi.org / 10.14341 / omet12218 (In Russ.) Романцова Т. И., Сыч Ю. П. Иммунометаболизм и метавоспаление при ожирении. Ожирение и метаболизм 2019; 16 (4): 3–17.
- Theodorou K, Boon RA. Endothelial cell metabolism in atherosclerosis. Front Cell Dev Biol. 2018; (6): 82. DOI: 10.3389 / fcell.2018.00082.
- Gusev EYu, Zotova NV, Zhuravleva YuA, Chereshnev VA. Physiological and pathogenic role of scavenger receptors in humans. Medical Immunology. 2020; 22 (1): 7–48. (In Russ.) Гусев Е. Ю., Зотова Н. В., Журавлева Ю. А., Черешнев В. А. Физиологическая и патогенетическая роль рецепторов-мусорщиков у человека. Медицинская иммунология. 2020; 22 (1): 7–48. DOI: 10.15789 / 1563-0625‑PAP-1893.
- Dovzhikova IV, Lutsenko MT. Membrane fatty acids transport (Review). Bulletin Physiology and Pathology of Respiration. 2013; (50): 130–8. (In Russ.) Довжикова И. В., Луценко М. Т. Транспорт жирных кислот через мембрану (обзор литературы). Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2013; (50): 130–8.
- Goldberg IJ, Bornfeldt KE. Lipids and the endothelium: bidirectional interactions. Curr Atheroscler Rep. 2013; (15): 365. DOI: 10.1007 / s11883‑013‑0365‑1.
- Koliaki C, Liatis S, Kokkinos A. Obesity and cardiovascular disease: revisiting an old relationship. Metabolism. 2019; (92): 98–107. DOI: 10.1016 / j. metabol. 2018.10.011.
- Sung HK, Doh KO, Son JE, et al. Adipose vascular endothelial growth factor regulates metabolic homeostasis through angiogenesis. Cell Metab. 2013; (17): 61–72. DOI: 10.1016 / j.cmet.2012.12.010.
- Schlich R, Willems M, Greulich S, et al. VEGF in the crosstalk between human adipocytes and smooth muscle cells: depotspecific release from visceral and perivascular adipose tissue. Mediat Inflamm. 2013; (2013): 1–10. DOI: 10.1155 / 2013 / 982458.
- Zhang F, Zarkada G, Han J, et al. Lacteal junction zippering protects against diet-induced obesity. Science. 2018; (361): 599–603. DOI: 10.1126 / science.aap9331.
- Elias I, Franckhause S, Bosch F. Adipose tissue overexpression of vascular endothelial growth factor protects against diet-induced obesity and insulin resistance. Diabetes. 2012; (61): 1801–13. DOI: 10.2337 / db12–1274.
- Lu X, Zheng Y. Comment on: Elias et al. Adipose tissue overexpression of vascular endothelial growth factor protects against diet-induced obesity and insulin resistance. Diabetes 2012; (61): 1801–13. Diabetes. 2013; 62 (1): e3. DOI: 10.2337 / db12-1130.
- Seki T, Hosaka K, Fischer C, et al. Ablation of endothelial VEGFR1 improves metabolic dysfunction by inducing adipose tissue browning. J Exp Med. 2018; (215): 611–26. DOI: 10.1084 / jem.20171012.
- Robciuc MR, Kivelä R, Williams IM, et al. VEGFB / VEGFR1‑induced expansion of adipose vasculature counteracts obesity and related metabolic complications. Cell Metab. 2016; (23): 712–24. DOI: 10.1016 / j.cmet.2016.03.004.
- Hui W, Chen Y, Lu XA, et al. Endostatin prevents dietaryinduced obesity by inhibiting adipogenesis and angiogenesis. Diabetes. 2015; (64): 2442–56. DOI: 10.2337 / db14-0528.
- ZhuGe DL, Javaid HMA, Sahar NE, et al. Fibroblast growth factor 2 exacerbates inflammation in adipocytes through NLRP3 inflammasome activation. Arch Pharm Res. 2020; (43): 1311–24. DOI: 10.1007 / s12272‑020‑01295‑2.
- Hammel JH, Bellas E. Endothelial cell crosstalk improves browning but hinders white adipocyte maturation in 3D engineered adipose tissue. Integr Biol. 2020; (12): 81–9. DOI: 10.1093 / intbio / zyaa006.
- Mehrotra D, Wu J, Papangeli I, Chun HJ. Endothelium as a gatekeeper of fatty acid transport. Trends Endocrinol Metab. 2014; (25): 99–106. DOI: 10.1016 / j.tem.2013.11.001.
- Drapkina OM. Atherogenic dyslipidemia and the liver. Gastroenterology. Supplement to Consilium Medicum. 2013; (1): 52–5. (In Russ.) Драпкина ОМ. Атерогенная дислипидемия и печень. Гастроэнтерология. Приложение к журналу Consilium Medicum. 2013; (1): 52–5.
- Mishina EE, Mayorov AYu, Bogomolov PO, et al. Nonalcoholic fatty liver disease: cause or consequence of insulin resistance? Diabetes Mellitus. 2017; 20 (5): 335–43. (In Russ.) Мишина ЕЕ, Майоров АЮ, Богомолов ПО. и др. Неалкогольная жировая болезнь печени: причина или следствие инсулинорезистентности? Сахарный диабет. 2017; 20 (5): 335–43. DOI: 10.14341 / DM9372.
- Verbovoy AF, Tsanava IA, Verbovaya NI, Rudolf GA. Resistin — a marker of cardiovascular diseases. Obesity and Metabolism. 2017; 14 (4): 5–9. (In Russ.) Вербовой АФ, Цанава ИА, Вербовая НИ, Галкин РА. Резистин — маркер сердечно-сосудистых заболеваний. Ожирение и метаболизм. 2017; 14 (4): 5–9. DOI: 10.14341 / omet201745–9.
- Zheleznova EA, Zhernakova JuV, Pogorelova OA, et al. Vascular wall status and its link with perivascular adipose tissue and other fat depots in young patients with abdominal obesity. Systemic Hypertension. 2019; 16 (4): 80–6. (In Russ.) Железнова Е. А., Жернакова Ю. В., Погорелова О. А. и др. Состояние сосудистой стенки и его связь с периваскулярной жировой тканью и другими жировыми депо у пациентов молодого возраста с абдоминальным ожирением. Системные гипертензии. 2019; 16 (4): 80–6. DOI: 10.26442 / 2075082X.2019.4.190742.
- Yokoyama M, Okada S, Nakagomi A, et al. Inhibition of endothelial p53 improves metabolic abnormalities related to dietary obesity. Cell Rep. 2014; (7): 1691–703. DOI: 10.1016 / j.celrep.2014.04.046.
- Sawada N, Jiang A, Takizawa F, et al. Endothelial PGC-1α mediates vascular dysfunction in diabetes. Cell Metab. 2014; (19): 246–58. DOI: 10.1016 / j.cmet.2013.12.014.
- Hashimoto S, Kubota N, Sato H, et al. Insulin receptor substrate-2 (Irs2) in endothelial cells plays a crucial role in insulin secretion. Diabetes. 2015; (64): 876–86. DOI: 10.2337 / db14-0432.
- Hasan SS, Jabs M, Taylor J, et al. Endothelial notch signaling controls insulin transport in muscle. EMBO Mol Med. 2020; (12): e09271. DOI:10.15252 / emmm.201809271.
- Ying W, Riopel M, Bandyopadhyay G, et al. Adipose tissue macrophage-derived exosomal miRNAs can modulate in vivo and in vitro insulin sensitivity. Cell. 2017; (171): 372–84. DOI: 10.1016 / j. cell. 2017.08.035.
- Rudnicki M, Abdifarkosh G, Nwadozi E, et al. Endothelial-specific FoxO1 depletion prevents obesity-related disorders by increasing vascular metabolism and growth. eLife. 2018; (7): e39780. DOI: 10.7554 / eLife. 39780.
- Tang X, Miao Y, Luo Y, et al. Suppression of endothelial AGO1 promotes adipose tissue browning and improves metabolic dysfunction. Circulation. 2020; (142): 365–79. DOI: 10.1161 / CIRCULATIONAHA.119.041231.