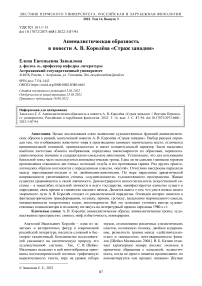Анималистическая образность в повести А. В. Королёва «Страж западни»
Автор: Завьялова Елена Евгеньевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Целью исследования стало выявление художественных функций анималистических образов в ранней, неизученной повести А. В. Королёва «Страж западни». Выбор ракурса оправдан тем, что изображение животного мира в произведении занимает значительное место, отличается принципиальной новизной, оригинальностью и имеет концептуальный характер. Были выделены наиболее частотные объекты изображения, определены закономерности их обрисовки, переносно- символическое значение и содержательно-смысловое наполнение. Установлено, что для воплощения батальной темы часто используются анималистические тропы. Едва ли не самыми главными героями произведения становятся две птицы: почтовый голубь и его противница гарпия. Ряд других орнитологических образов соотносится с определенным классом, «кастой». Отчетливо выстроены параллели между персонажами-людьми и их двойниками-животными. По мере нарастания драматической напряженности увеличивается степень «одушевленности» художественного пространства. Живые существа уравниваются в своей значимости. Демонстрируется несостоятельность искусственной системы - в масштабах отдельной личности и всего государства, манифестируется единство сущего в мироздании, связь времен и главенство высшего начала. Делается вывод о том, что уже в начале своего творческого пути А. В. Королёв отходит от реалистической парадигмы. Очевиден интерес писателя к фантасмагорическим трансформациям, коллажу, иронии, гротеску, выделению маргинального смысла, множественности гетерогенных кодов, многомерности. Всё это позволяет уточнить вектор художественных поисков автора и по-новому взглянуть на литературный процесс середины 1980-х гг.
А. в. королёв, анималистические образы, анималистические тропы, художественное пространство, символ, миф, избыточность, нониерархия
Короткий адрес: https://sciup.org/147238645
IDR: 147238645 | УДК: 821.161.1-31 | DOI: 10.17072/2073-6681-2022-3-87-94
Текст научной статьи Анималистическая образность в повести А. В. Королёва «Страж западни»
2002: 189]. Вместе с тем на идейно-ценностном уровне литературовед усматривает «родовую связь с… классической традицией» [там же: 189].
Г. Л. Нефагина пишет, что творчество А. В. Королёва «не укладывается в ложе какого-то одного художественного направления или даже системы» [Нефагина 2006: 155]; «писатель одинаково продуктивно работает и в пространстве реализма, внедряя в него модернистские сюрреалистические компоненты, <…> и в модернистской парадигме, обогащая её приёмами постмодернизма, <…> и в постмодернизме, основанном на человеческом измерении» [там же: 167]. С. С. Пахомова находит в произведениях писателя еще и стилистику барокко [Пахомова 2012: 7]. По мнению А. С. Климутиной, творчество А. В. Королёва эволюционирует «от ранней реалистической психологической прозы через опыт модернистской прозы к постмодернистской прозе культурной игры, аллюзивности, интертекстуальности, а затем – к синтезу эстетик» [Кли-мутина 2009: 18].
Далеко не все произведения писателя обратили на себя внимание литературоведов. Повезло в этом смысле роману «Эрон» (см., например: [Климутина 2009; Абашева 2014; Колмакова 2014; Чащинов 2015; Гладилин 2016; Сорокина 2018]), повестям «Гений местности» и «Голова Гоголя». Первая опубликованная книга А. В. Королёва «Страж западни» фактически не изучалась. Между тем анализ этого текста позволил бы внести коррективы в общие представления о тенденциях развития литературы середины 1980-х гг. и доказать, что на закате советской эпохи уже полным ходом шло формирование новой художественной парадигмы.
Объектом нашего исследования стала анималистическая образность в повести. Предметом – ее художественно-функциональная специфика. Тема достаточно узка, она выбрана, поскольку изображение животного мира в данном произведении: 1) занимает значительное место; 2) отличается принципиальной новизной и оригинальностью; 3) имеет концептуальный характер.
Соответственно, цель исследования – выявление художественных функций анималистических образов в «Страже западни». Для ее достижения мы посчитали необходимым выделить наиболее частотные объекты изображения, определить закономерности их обрисовки, переносно-символическое значение и содержательносмысловое наполнение. Методологической основой работы послужил системный подход, объединивший историко-литературный, структурнотипологический, культурно-исторический методы, элементы мотивного и мифопоэтического анализа.
Думается, что материалы статьи можно использовать в образовательной практике на занятиях по литературе в вузе и школе, например, в ходе обучения интерпретации антропозо-оморфных мотивов, литературного пейзажа. Тем более что произведение А. В. Королёва изначально рассчитано на юную аудиторию (книга напечатана в 1984 г. в «Молодой гвардии»).
В немногочисленных отзывах повесть «Страж западни» называется реалистической [Скоропа-нова 2021: 19], как и вся ранняя проза писателя (см.: [Климутина 2009: 15; Колмакова 2014: 86]). На первый взгляд, это типичный образец литературы соцреализма. В ней ясно обозначен конфликт между чувством и долгом, отчетливо намечена граница между неправильными и правильными героями (см. [Белая 1990: 48]): пошлость, гедонизм белых противопоставлены благородству и самоотверженности красных. Приключенческое произведение о Гражданской войне ориентировано на массового читателя1. Определен достаточно популярный в продукции такого рода сюжет: связной мчится через поля и леса, чтобы дать сигнал подпольщикам о начале наступления и поддержать атаку кавалерийской дивизии; на него объявляется охота.
Однако, как рассказывает автор, сначала повесть носила «игровое название “Мотылёк на булавке в шляпной картонке с двойным дном”», а его опубликованный вариант – «Ловушка на ловца» [Ответы… 2021: 85]. По справедливому замечанию И. С. Скоропановой, первое заглавие «указывает на момент деидеологизации» и «…устраняет компонент героизации гражданской войны 1918–1920 гг.» [Скоропанова 2021: 20].
Непривычно обилие упоминаний о животных . «Стража западни» можно было бы назвать орнитологической энциклопедией, число названных в ней видов птиц превышает четыре десятка: куропатки, перепела, коростели, сойки, дятлы, поползни, трясогузки, дергачи, овсянки, чечевицы, иволги и проч. Плюс – насекомые, рептилии, земноводные, рыбы, звери… Пейзажи А. В. Королёва включают в себя подробные описания фауны Энска – городка, расположенного где-то в Центральной России. Благодаря сюжетной линии, связанной с бродячим цирком, список животных пополнен значительным количеством экзотических существ – карликовый слон, лев, антилопа, орангутанг, мартышки.
Частотны анималистические тропы: «свинцовые жала» пуль [Королёв 1984: 5], «тявкающая пушка» [там же: 179]2, «муравьиные гроздья пехоты» (180), «по-комариному пищащий в высоте» аэроплан (180), «птичья сеть баллистики» (179) и т. п. Сразу отметим, что их основная часть используется писателем для воплощения батальной темы. Важный в контексте обозначенной проблемы факт.
Подробнее о птицах. В начале повести они обрисованы вполне реалистично. Приведем лишь одно, филигранное, описание: «в ясной вышине лоскутком трепыхал колоколец – полевой жаворонок…» (3). А. В. Королёв сообщает много любопытных орнитологических сведений и даже цитирует А. Брема. По мере развития событий всё более явным делается антропоморфизм. Большинство образов ассоциируются с определенным классом, «кастой»: рассчитывающий на верноподданнические чувства попугай, глупые недальновидные куры, хищное ленивое вороньё, прячущиеся по застрехам городские птахи-обыватели. Ближе к концу повести пернатые фактически организуют движение сопротивления: «Сыплется вниз дождь галочьих перьев. Внимают ужасной схватке сотни городских пичуг: галдят воробьи, чиркают по небу ласточки, подают голос скворцы и мухоловки, каркают вороны – слетаются клубами к чердаку» (142).
Две птицы становятся едва ли не самыми главными героями произведения. Через линию фронта должен прорваться не только молодой боец Сашка Соловьёв3, но и его питомец – почтовый голубь Фитька, с шифровкой, привязанной к лапке. Умный, коварный начальник контрразведки Муравьёв знает о плане и организует перехват турмана, ни много ни мало – с помощью заморской птицы, американского хохлатого орла, «летающей ловушки» (59). Этот орел – гарпия – как нарочно оказывается в нужное время в нужном месте, в Энск его привозит итальянец Бу-зонни, в числе других диковинок зверинца.
Итак, на одном полюсе системы образов помещен белый голубь, на другом – страшная хищная птица, которая соотносится с двуглавым орлом (византийским по происхождению [Караваева, Волкова 2014: 113] символом царской империи). А. В. Королёв явно старается вызвать у читателя симпатию к первому и отвращение ко второй. Приведем несколько показательных примеров.
Фитька называется «глупышом» [Королёв 1984: 109], «пичугой» (36), «голубком» (66), «дымком» (121), «пушинкой» (140), «крылатым снежком» (141), «лёгкой снежинкой под облаками» (68). Цвет его перьев «ослепительный» (111), «белоснежный» (63). У него «коготки» (120), «пёрышки» (8, 136), «клювик» (109, 120), «грудка» (8, 120), «сердечко» (8, 109) (трепещущее сердце пугливой птицы упоминается особенно часто). Турман в описании А. В. Королёва почти бесплотен, примечательная деталь – в густых ароматах кипрея4 он не воспринимается обонянием: «словно голубь был слеплен из снега и не имел своего запаха» (121); здесь нам видится аллюзия на образ Святого Духа, соотносимый христианской традицией с этой птицей. Буквально на следующей странице аналогия «удваивается» прямой реминисценцией на библейскую историю: «Наверное, так же тревожно было лететь голубку над волнами в древней легенде…» (122).
В повести много сцен, написанных «от имени» голубя (по принципу «внутренней фокализа-ции» [Женетт 1998: 204–205]): «турман слышит... Видит...» [Королёв 1984: 64]; «Фитька… чувствовал… следил…» (121). Переживаемые страхи и радости делают птицу ближе читателю – автор учитывает закономерности рецепции произведения искусства. Не может не вызывать отклика, скажем, такое, одно из многих подобных, описание: «Летит голубь над предутренним лесом, волочит по воздуху усталую правую лапку с примотанной гильзой» (112). Или: «Голубь и хотел и боялся взлететь, словно разучился летать, будто опять стал почти беспомощной птицей-птенцом, которая ещё не знает о том, что воздух держит машущие крылья» (121).
Гарпия изображается не менее эмоционально, но «овнешнённо». А. В. Королёв часто использует экспрессивную лексику, отталкивающие сравнения: «клюв крючком» (84), «злой» (16), «ледяной взор» (9, 19), «лапы, похожие на голые по локоть женские руки» (60), «траурные полосы на голенях» (185), «чёрные отполированные когти» (60), «нелепый хохолок из перьев на макушке, похожий на старушечий чепчик» (60). Птица называется «проклятой» (185), «жуткой» (10, 15), от неё пахнет падалью (18). Она «дрянь» (120), «монстр» (84), «тварь» (9, 15, 18, 137), «бестия» (10, 140), «фурия» (140), даже «вестница ада» (18) и «дева тьмы» (18). Инфернальный подтекст усиливается за счет сопровождающего описание птицы мотива смерти, а также повторяющейся детали – ненависти хищницы к белому цвету, ни больше ни меньше.
Судьба главных пернатых героев «Стража западни» предсказуема: Фитька возвращается на родной двор, гарпия Цара расстреляна взбешённым неудачей штабс-капитаном.
Отчетливо выстроены параллели между персонажами и эпизодами. В ночном лесу неясыть (сова) хочет убить голубя5, а ефрейтор Цыганков – саму неясыть. Выстрел солдата, обнаружившего красноармейца Сашку, спасает жизнь турману: звук пугает хищную птицу. Далее и голубь, и его хозяин отчаянно стараются вырваться из западни, спастись от преследования.
Допрос Муравьёвым председателя подпольного ревштаба монтируется с погоней гарпии за турманом (136) (циркуль – инструмент, с помощью которого рисуется идеальная, по мнению начальника контрразведки, картина мира (134) и зона западни Цары (136); в ходе допроса Алексей Петрович называет бывшего политкаторжанина «голубчиком» (146)). Сцены, посвященные попытке намеченного Муравьёвым захвата подпольщиков в доме Соловьёва, чередуются с теми, что описывают убийство бабочки сатурнии эн-томологом-любителем6. Далее следует поучительная история про ласточку-касатку, которая не смогла достать упавшего в реку мотылька и сама стала добычей сома (164), – плохое для допросчика предзнаменование.
Воссоздаваемыми реалиями 1919 г. легко объяснить значительное количество образов лошадей в повести. В их описаниях выделяется ряд закономерностей. Когда речь идет о «гражданском» средстве перевозки, животные рисуются достаточно неприглядно. Верховые белой конницы, как правило, сытые, резвые. При изображении красной кавалерии чаще фигурирует лексема «конь», что делает образ животного маскулинным, подходящим для суровой военной службы и, соответственно, обеспечивающим в конечном итоге победу7. Одним из важных героев в «Страже западни» становится жеребец-трехлеток Караул. С потерей седока он обретает бóльшую самостоятельность – и как животное, и как персонаж. В его описаниях преобладают внешние характеристики; ближе к концу повести ракурс смещается.
В произведении А. В. Королёва практически не говорится о романтических отношениях: одни люди полностью посвящают себя войне (Кру-минь, Соловьёв), другие удручены семейной рутиной (Бузонни), третьи сознательно ограждаются от переживаний, довольствуясь «отношениями» (Чехонин). Тем выразительнее единственный любовный эпизод: встреча Карты и Карау-ла8, лошадей, седоки которых – ефрейтор Онипка и связной кавалерийской дивизии Сашка – убили друг друга.
Вот как описывается знакомство животных: «Сначала они враждебно косились, мельком оглядывая друг друга, затем внезапно коснулись головами и отпрянули. Чёрная, вороная Карта с коричневатыми подпалинами на голове и в паху была словно бы силуэтом ночи, а белый Караул, с белой гривой и снежным хвостом, был почти неразличим в пыльном золоте солнечного утра. Они были удивительно хороши в этот смертельный день. Белое и чёрное. День и ночь. И почувствовав звонкую рифму своих тел, согласие противоположных начал, кобыла и жеребец заржали, волнуясь и кружась вокруг друг друга и пускаясь в любовную погоню и бегство» (123–124). Такая иллюстрация к концепции Инь и ян позволяет подчеркнуть мировоззренческую составля- ющую сцены: идеи постоянной изменчивости, диалектический дуализм, его вечную созидающую силу.
Животные пытаются избавиться от сёдел и уздечек. Умирающий Сашка с изумлением видит, как они преображаются, превращаясь в полулюдей, различает большеглазые лица нимфы и кентавра. Над горизонтом простираются парнасские вершины (124), место, где происходит свидание, оборачивается оливковой рощей (125). Здесь слышатся голоса «божков… трав, вод и деревьев» (125), звуки «цимбал, флейт и пищалок» (126). Влюбленные шепчут слова из оды Сапфо. Сквозь «огонь и дым» (177) гражданской войны проступают очертания «прошлого мира» (125), золотого века. В явившемся на колеснице Дионисе Караул узнает своего хозяина.
Данный эпизод абсолютно не типичен для книги о гражданской войне. Он – предтеча сюрреалистических метаморфоз, характерных для поэтики более поздних творений автора9. Важно, что мифологический «след» сохранился в еще одной ключевой сцене. Голубь Фитька, преследуемый Царой, сравнивается с фракийским царем Финеем, за которым гонится адская фурия: «красной медью отливают её крылья из стрел-перьев» (140). По словам А. В. Королёва, таких фрагментов в повести было больше, от многих пришлось отказаться. «…Ключ для образности романа <…> я нашёл в античной мифологии, я населил текст <…> дриадами, у лошадей вырастали руки, как у кентавров, и они могли вынуть удила из пасти друг друга, моя гарпия из итальянского цирка была копией стримфалиды и т. д.» [Ответы… 2021: 85], – признается автор. На наш взгляд, с помощью подобных приемов манифестируется единство сущего в мироздании , связь времен и главенство высшего начала.
В сопряжении событий легко усмотреть высший Промысел, заранее предусмотренный Божественный план10. В момент смерти Сашки Соловьёва герои, с которыми соотносится его путь: конь и турман связного, сатурния11, – оказываются рядом. Они начинают двигаться в одном направлении: «теперь все трое – конь, птица и бабочка – устремились в одну точку на горизонте; конь вскачь, мотылёк порхая, голубь пикируя» [Королёв 1984: 128].
По мере нарастания драматической напряжённости увеличивается степень «одушевлённости» художественного пространства. Вот характерный фрагмент: офицер контрразведки намеревается захватить подпольщиков, вместе с председателем ревштаба направляется на явочную квартиру; дом окружён; развязка близится. Действие замедляет компактно-дескриптивный пейзаж (термин О. А. Витрук [Витрук 2011: 8]):
«Ночь кипела. В речной воде роились серебристые рыбьи блики. Седая зелень садов колыхалась от ветра в лунном сиянии. В траве копошились жуки ˂…> В воздухе пересвистывались птицы ˂…> На фоне хора цикад то гас, то вновь вспыхивал стригущий голос сверчка» [Королёв 1984: 166]. Отрывок строится на контрасте «идиллический фон – переживания героев». Однако важнее другое: автор наглядно демонстрирует противостояние неправильных персонажей окружающему миру и своей сущностной природе. На примере образа штабс-капитана показывается несостоятельность искусственной системы – в масштабах отдельной личности и всего государства. «Порядок», «жизнь карманного формата» (168) бессильны против Времени. «Геометрическая реторта» (168) вдребезги разбивается Жизнью.
Действие повести движется к кульминации. Пулеметчик открывает огонь по дому Соловьёва. Нарратив «Стража западни» даже в частностях базируется на антитезах: «Смерть вслепую шарит в горящей комнате, пытается зачеркнуть всё живое взмахами свинцового грифеля. А жизнь не сдаётся: бьётся языками пылающего керосина, трубит петушиным горлом, грозит змеиным шипом в чертополохе, накатывает свежим ветром, колет лучом полуночной звезды…» (175).
Казалось бы далёкие друг от друга нити повествования в конечном итоге оказываются связанными в тесный узел, как того требует приключенческий жанр. Между тем внимание А. В. Королёва к «незначительным» подробностям, имеющее безусловный концептуальный подтекст, нелинейность структуры , нониерар-хия позволяют вести речь о чертах антиромана12. См.: «…Лиловый [агент, эсер – Е. З. ] вышел из укрытия и решился зайти во двор, на свет керосиновой лампы за оконным стеклом, вокруг которого клубился пар мошкары. Рядовой Зыков, пробравшись к сарайчику, присел на корточки, прислонившись спиной к двери и положив винтовку на колени, – ему захотелось курнуть. Жирный кукушонок, еще с начала лета поселившийся в дупле турецкой вишни с узкой горловиной, из-за которой он так и не смог выбраться на свободу, проснулся в своей темнице. А разбудил его рядовой Жучков, который шумно отломил тонкую веточку вишни – поковырять в зубах, он уже истомился в засаде. Услышав хруст, кукушонок подал с испуга голос и разбудил птицу славку, которая, вылетев из-под стрехи, принялась носиться в тёмном воздухе над вишнями» (170–171).
Главные, второстепенные, эпизодические герои периодически проходят своего рода поверку: отмечается, кто что делает в настоящий момент. Например: «Муравьёв закурил от керосиновой лампы <…>; рядовой Зыков, поставленный в засаду, прокрался через грядки укропа поближе к сарайчику, <…> и спящий на насесте петух вздрогнул от ясного скрипа яловых сапог; Фить-ка, дремавший под навесом, тоже встрепенулся от подозрительного шороха; старый бык переступил ногами» (170).
Действующие лица (и не-лица) уравниваются в своей значимости. Автор подчеркивает их равновеликость . Душами в произведении наделены все – люди, звери, птицы.
Как показывает проведенный анализ, уже в первом опубликованном произведении А. В. Королёва очевиден отход от реалистической парадигмы, заметен интерес писателя к модернистским и постмодернистским приемам (фантасмагорическим трансформациям, коллажу, иронии, гротеску, выделению маргинального смысла, множественности гетерогенных кодов, многомерности и проч.). Сделанные выводы доказывают новаторский характер раннего творчества А. В. Королёва, позволяют уточнить вектор его художественных поисков и по-новому взглянуть на литературный процесс середины 1980-х гг.
Список литературы Анималистическая образность в повести А. В. Королёва «Страж западни»
- Абашева М. П. Протоэкфрасис в романе Анатолия Королёва «Эрон» // «Учёности плоды»: к 70-летнему юбилею профессора Ю. В. Шатина: сб. науч. тр. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. С.173-186.
- Белая Г. А. Угрожающая реальность // Избавление от миражей: соцреализм сегодня: сб. ст. / сост. Е. А. Добренко. М.: Сов. писатель, 1990. С.28-48.
- Бурмистров А. Н., Никитина В. А. Иван-чай узколистный (кипрей) // Медоносные растения и их пыльца. М.: Росагропромиздат, 1990. С. 71-72.
- Бютор М. Роман как исследование / сост., пер. вступ. ст., коммент. Н. Бунтман. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 191 с.
- Витрук О. А. Пейзаж как текстовое явление: на материале произведений англоязычных писателей XX - начала XXI вв.: дис. ... канд. филол. наук. Ростов н/Д, 2011. 173 с.
- Гладилин Н. В. Ростки постгуманизма в романе А. Королева «Эрон» // Успехи современной науки и образования. 2016. № 11 (5). С. 114-118.
- Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М.: Индрик, 1997. 912 с.
- Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. / пер. Н. Перцовой. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. Т. 2. С. 60-280.
- Завьялова Е. Е. Образ коня в повести А. В. Королёва «Страж западни» // Художественная картина мира в фольклоре и литературе: материалы всерос. науч. конф. Астрахань: Астрахан. гос. ун-т; Изд. дом «Астраханский университет», 2021. С. 186-189.
- Караваева Е. В., Волкова Л. Д. Бинарно-три-нитарная символика в русской духовной и материальной культуре // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2014. № 7 (148). С. 108-115.
- Катаев В. Б. Игра в осколки. Судьбы русской классики в эпоху постмодернизма. М.: Изд-во МГУ, 2002. 251 с.
- Климутина А. С. Поэтика прозы А. Королёва: текст и реальность: дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2009. 228 с.
- Колмакова О. А. Художественная концепция кризисного времени в русской прозе рубежа XX-XXI вв. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2014. 268 с.
- Королёв А. В. Страж западни: повесть. М.: Молодая гвардия, 1984. 191 с.
- Нефагина Г. Л. Поэтика романов А. Королёва // Научные труды кафедры русской литературы БГУ. Вып. IV. Мн.: РИВШ БГУ, 2006. С. 155-168.
- Ответы А. В. Королёва на вопросы И. С. Ско-ропановой: комментарии к роману «Змея в зеркале» // Скоропанова И. С. Культурфилософские шифры Анатолия Королёва: книга монографических статей. М.: Академика, 2021. С. 83-90.
- Пахомова С. С. Повествовательные стратегии в творчестве А. Королёва, В. Шарова, П. Круса-нова: дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2012. 223 с.
- Скоропанова И. С. Культурфилософские шифры Анатолия Королёва: книга монографических статей. М.: Академика, 2021. 153 с.
- Сорокина Т. Е. Художественное становление национально-исторического архетипа «Русский мир» в современной прозе. Ростов н/Д: Академ-Лит ТМ (Издатель ИП Ковтун С. А.), 2018. 222 с.
- Хруцкий Э. А. «На той далёкой, на гражданской.» // Королёв А. В. Страж западни: повесть. М.: Молодая гвардия, 1984. С. 188-190.
- Чащинов Е. Н. Роман Анатолия Королёва «Эрон»: поэтика, проблематика, контекст: дис. . канд. филол. наук. Пермь, 2015. 211 с.
- Шейко-Маленьких С. И. Поэтика русского постмодернизма в прозе 1990-х годов: мир как текст: дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2004. 162 с.
- Hodgson R. The Parody of Traditional Narrative Structures in the French Anti-Novel from Charles Sorel to Diderot // Neophilologus. 1982. No. 66 (3). P. 340-348.
- Cortázar J. Obra Crítica II. Madrid: Alfaguara, 1994. P.141-150.